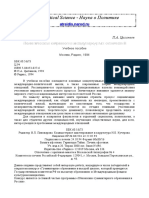Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Косолапов
Загружено:
Tetiana0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
8 просмотров116 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
8 просмотров116 страницКосолапов
Загружено:
TetianaАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 116
КОСОЛАПОВ Николай Алексеевич, кандидат исторических наук,
заведующий отделом ИМЭМО РАН.
Тема 1. Теоретические исследования международных отношений
(Историко-интеллектуальный фон и этапы становления науки)
Становление науки фундаментальной (в отличие от прикладной) всегда
диктуется закономерностями функционирования и развитием сферы
сознания, логикой процесса познания, а не практическими потребностями
"сегодняшнего" человека. Поэтому необходимыми и достаточными
предпосылками возникновения нового направления такой науки являются
наличие представляющегося важным, но мало или вообще не изученного и
потому непонятного объекта наблюдения; значимость ответов на связанные с
этим объектом вопросы для систематизации и развития добытых ранее
знаний и методологии их получения, для философии и методологии познания
в целом; а также доступных и достаточно надежных (на данных уровне и
этапе познания) средств его изучения. Если все названные условия
выполняются, у ученого возникает возможность определить специфический,
отличный от установленных ранее применительно к тому же объекту,
предмет исследования. Именно этот рубеж и может быть принят за момент
становления новой науки.
Сколько существует пусть примитивно организованное общество,
столько же существуют и международные отношения, хотя на самых ранних
исторических их этапах это были отношения межплеменные, межродовые,
межклановые. Как объект потенциального исследования, однако, какие-то
международные отношения возникли тысячелетия назад и сопровождали
человека на протяжении всей его сознательной истории. И хотя объект этот
непрерывно эволюционировал, изменялся количественно и качественно, в
сам факт его присутствия известная нам история не внесла ничего
принципиально нового.
Долгое время значимость собственно международных отношений как
бы затемнялась в сознании человека, подменялась значением бесспорно
важной и практически очевидной проблемы войны и мира. Лишь со
становлением естественных наук и атеизма международные отношения
начинают рассматриваться как социальные и становятся одним из главных
источников ответов на вопрос, куда, как и почему идет развитие человека и
человечества. Межгосударственные и иные межстрановые сравнения
становятся стимулом к поиску форм лучшего общественного и
политического устройства, тем самым обостряя проблему осознанного
социально-исторического выбора и еще более поднимая научную,
методологическую, идеологическую и политическую значимость
потенциальных познавательных ответов на вопросы, рождаемые реалиями
мировой политики.
Доступные, массовые и в достаточной мере надежные средства
изучения международных отношений, сбора, переработки, хранения и
использования огромных массивов необходимой для их исследования
информации возникают, однако, только в XX в., преимущественно во второй
его половине. Одновременно и международные отношения (с появлением
ядерного оружия, холодной войны, развитием тенденций
интернационализации и глобализации всех сторон современной жизни)
претерпевают исторически беспрецедентные количественные и главное -
качественные перемены. Как следствие, именно вторая половина
завершающегося столетия может и должна быть по праву признана периодом
становления науки о международных отношениях.
Но с кристаллизацией современных теоретических исследований
внешней политики (ВП) государств, мировой политики (МП) и
международных отношений (МО), процессов мирового развития (МР) не
отпали и не исчезли бесследно пройденный политической мыслью путь и
многообразные духовные результаты, обретенные человечеством по мере
продвижения по этому пути. Со становлением теоретического знания, новой
науки все, что ему предшествовало и сделало такое становление когнитивно
возможным и реальным, начинает играть по отношению к возникшей
дисциплине роль историко-интеллектуального фона, продолжающего влиять
на науку, подпитывать ее вопросами и сомнениями, теснить ее в периоды
внутринаучных кризисов развития, а временами бросать ей познавательный и
политический вызов.
В отечественной литературе по теории ВП/МП/МО/МР пока крайне
мало работ, в которых с научных, а не политико-идеологических позиций
прослеживалась бы динамика эволюции основных философских и
методологических подходов и течений, приведшая к становлению науки
международных отношений, к обретению ею своей структуры и
концептуальной базы. Но фактически вообще отсутствуют труды, в которых
исторические корни современной теории международных отношений
рассматривались бы в их сильнейшей практической и духовной
переплетенности с религией, вообще с различными формами идеологии.
Между тем эти вопросы имеют огромное значение и в становлении науки о
международных отношениях, и в истории европейской общественно-
политической мысли вообще — в силу той роли, какую занимали и
продолжают занимать в этой мысли взгляды на динамику социальной
истории, причины этой динамики и роль в ней мирового развития и
международных отношений.
Исследование международных отношений относится одновременно
к числу и старейших, и новых, родившихся уже в XX в. современных
научных направлений. Формально ее возникновение датируется 1919 г.:
именно тогда в Уэлльсском университете в Эйберсвите (Великобритания)
была образована первая кафедра по истории и теории международных
отношений. Но, естественно, люди и раньше не могли не задумываться о
природе отношений между народами, странами и цивилизациями.
Многочисленные наблюдения, понятия, попытки концептуализации,
относящиеся к явлениям международной жизни, в изобилии раскиданы по
всей дошедшей до нас литературе - от Библии и трудов философов
античности до средневековья.
Политическая мысль античности, питавшаяся реалиями небольших по
современным понятиям городов-государств (которые не поднялись бы ныне
выше райцентра) и доминировавших во всех сферах жизни межличностных
отношений, концентрировалась главным образом на внутреннем устройстве
полисов, рассматривая даже вопросы войны и мира сквозь призму такого
устройства. Накопленный и письменно зафиксированный социально-
политический опыт был еще мал по объему и скуден по содержанию, делая
неизбежным господство нормативного подхода, фактически
постулировавшего выдвигавшиеся соперничавшие идеи и учения, будь то
Аристотеля или Платона. Само понятие "учения" (в отличие от "теории")
указывает на преобладание в нем элементов аксиоматики, а не
доказательства; веры, а не опыта; убежденности, а не объяснения.
В античности, наряду с другими родившимися в тот период, берет свое
начало дошедшая до современности дихотомия "сила или порядок" (и
соответственно национально-страновой, государственный эгоизм или
всемирная организация; война или безопасность). Первая идея - сильнейший
стремится приумножить свою силу и опирается на нее, а потому войны суть
естественное состояние отношений между полисами - открывшая путь
современному "политическому реализму", была изначально сформулирована
Фукидидом (V в. до н.э.) в работе "Пелопонесская война", до сих пор
считающейся классическим трудом по теории войн и международных
отношений (ее переработку для современного читателя см. в четырехтомнике
Д. Кэйгана - D. Kagan).
Противоположная идея "космополиса", родоначальница семейства
концепций от "всемирного правительства" до "универсальной мировой
организации" и "направляемого мирового развития", возникла в IV в. до н.э.
Ее происхождение связывают с философской школой стоиков. Суть идеи - в
необходимости жить по законам разума и равенства всех граждан перед его
требованиями. Цицерон (I в. до н.э.), соединив идею "космополиса" с
римским правом, развил ее до концепции "права народов" как естественного
международного в современном понимании права, которое должно быть
выше внутреннего права. Политический парадокс заключался в том, что Рим
полагал цивилизованным миром только то, что составляло его владения; все
же остальное подпадало под категорию "варваров", в отношениях с
которыми никакое право было неприменимо. Международное право, таким
образом, оказывалось на деле "своим" и сугубо внутренним.
В европейской духовной и политической традиции осмысление
международных отношений было теснейшим образом связано с идеями и
практикой христианства как идеологии и политической доктрины.
Если известные нам религиозные течения и системы древности так или
иначе утверждали мысль о превосходстве, избранности, особости того
народа (и его судьбы), который исповедовал данную религию, то
христианство первым выдвинуло идею универсальности жизненного пути
всех смертных перед лицом единого и высшего Бога. Тем самым от
привнесенного из биологического мира силового утверждения права данной
особи и рода на жизнь был сделан шаг к становлению системы
общественных отношений, в том числе отношении международных.
Концептуально христианское богословие, конечно, не занималось
международными отношениями как таковыми. Но, выйдя во многом из
воззрений стоиков и претендуя на единственность веры и общность всех
людей (независимо от рас и национальности - "нет ни Еллина, ни Иудея")
перед Богом, первоначальное христианство объективно поддерживало и
развивало идею "космополиса", попутно подкрепляя ее отрицанием частной
собственности (официально признанной Ватиканом лишь в 80-х годах
нашего столетия).
Однако, провозгласив заповедь "Богу - богово, а кесарю - кесарево",
христианство сделало решающий шаг к последующему разделению
идеологии (собственно религии и ее институтов) и светского политического
уклада, включая международный порядок. Как следствие этого шага, история
изначальной вотчины победившего христианства - Европы, которая на
протяжении восемнадцати веков развивалась в духовном и политическом
противоборстве римской католической церкви с ее универсалистским
подходом (делавшим упор на всеобщность и единство "христианского мира",
а не на его территориальное и государственное деление) и светских властей
феодальных государств Западной Европы.
Противоборство это происходило в весьма своеобразной форме
секуляризации, когда вначале под определяющим влиянием церкви
создавались различные институты общественной жизни, как внутренние, так
и зародыши будущих международных; а затем уже их деятельность и они
сами постепенно наполнялись мирским, светским содержанием, выходили
из-под контроля церкви и переходили под контроль светских властей или
общества. Подобного процесса не знала ни одна другая часть мира. Итогом
его стало со временем не только становление специфической системы
межгосударственных отношений в Европе (межгосударственные отношения
существовали и в других частях планеты), но и их осознание именно как
системы.
Специфика европейской системы международных отношений эпохи
Средневековья заключалась в том, что практически вся центральная часть
этой системы, разделенная политически и административно на
соперничавшие и враждовавшие друг с другом княжества, в то же время
идеологически составляла единое религиозное пространство -Христианин),
возглавлявшееся и управлявшееся Ватиканом. Что важно, пространство это
имело политико-психологические корни в римской империи, распавшейся,
но оставившей после себя мощное духовное и культурное наследие,
включавшее и христианство. Опираясь на это наследие, непрерывно
сталкивая и примиряя между собой князей и королей, манипулируя раздачей
и отзывом благословений на браки и царствования, Ватикан на протяжении
многих веков удерживал это пространство под своим эффективным
контролем.
Естественно, такое положение рождало сопротивление: военное, но и
духовное, и интеллектуальное. Само название "Европа" в его политическом
(а не сугубо географическом) смысле возникло из нараставшего веками духа
сопротивления все более реакционному и развращенному клиру. На
длившемся без малого два - XIV и XV - века переходе от церковной
схоластики средневековья к светскому рационализму Нового времени
зарождавшееся Возрождение с его живым и острым интересом к античности
вернуло из долгого забытья идеи "первобытного политреализма" и идеалы
мира, основанного на разуме и справедливом порядке. Эти идеалы
вдохновили флорентийца Д. Алигьери на создание концепции "всемирной
монархии" как идеальной и гармоничной организации мира ради счастья
человека. Спустя двести лет, явно на почве полного разочарования в самой
возможности осуществить эту красивую утопию другой флорентиец, Н.
Макиавелли, блестяще реанимирует и поднимает на теоретическую высоту
силовую концепцию политики.
Ретроспективно особый интерес в воззрениях Д. Алигьери и Н.
Макиавелли представляют три момента: (а) полное и бесспорное торжество
светского начала в методологии и содержании работ великих флорентийцев,
тот осознанный приоритет, который отдавали они власти светской по
сравнению с церковной; (б) возрождение ими в европейском сознании
идейных и нравственно-политических противоречий, сформулированных
еще в период античности; а также (в) фактическая реабилитация ими
светской власти и ее конкретной формы - государства, - считавшихся
церковью греховными (ибо все присущее человеку греховно по
происхождению, по природе или, как сказали бы сейчас, "по определению").
Тем самым объективно открывался путь к познанию реальных явлений,
процессов и отношений действительных власти и политики, в том числе и в
сфере отношений между государствами. Это в сочетании с тем фактом, что
именно государства на протяжении многих веков были единственным типом
субъекта в мировой политике, и предопределило, что отныне и на века
вперед межгосударственные отношения стали интуитивно отождествляться с
международными.
Неодолимое утверждение светской власти как единственной и высшей
в европейских странах, политике и международных отношениях XIII-XVIII
вв. имело ряд практических и когнитивных последствий. В
межгосударственных отношениях на первом плане продолжали, как и
столетиями до этого, оставаться конфликты, вопросы войны и мира.
Естественно, в плену этой проблематики сразу же оказались обе вызванные
из античности концепции. При этом политический реализм
макиавеллиевского толка оказался весьма удобен для оправдания и анализа
конкретной политики: идеями же идеального общественного устройства, в
том числе международного, питались политическая мысль, публичная
мораль, дипломатические инициативы. Одновременно упрочивавшийся
институт светского национального государства тянул за собой развитие
формальных структур и права, без которого такие структуры
нежизнеспособны; в том числе права международного.
Право не только распространялось абсолютно и относительно, оно еще
манило к себе психологически и интеллектуально. Возникла стойкая
иллюзия, будто принятием разумных, хороших, справедливых законов,
заключением направленных на достижение благородных целей
международных соглашений можно добиться мира, порядка и гармонии как
внутри государств, так и в отношениях между ними. Замешанные на насилии
и крови реалии, столь убедительно канонизированные ранним
"политическим реализмом", не только не опровергали подобных ожиданий,
но лишь подчеркивали актуальность задачи. А естественный для любого
права нормативный подход как нельзя лучше объективно соответствовал
интеллектуальным требованиям времени, когда дефицит информации и
знаний поневоле приходилось замещать интенсивным гипотезотворчеством,
которое к тому же, объективно выполняя эту роль, субъективно совершенно
искренне не считало себя таковым, полагая, что конструирует, созидает
общественные реалии, а не социальные мифы.
Фактически начиная с XV в. (условно с Эразма Роттердамского как
виднейшего мыслителя этого направления) в политической мысли Европы,
включая международно-политическую ее часть, происходит любопытная и в
долговременной перспективе ножная методологическая трансформация:
нормативный подход, родившийся из обусловленного дефицитом социально-
исторического опыта и теоретических знаний вынужденного
гипотезотворчества, не осознававшегося как таковое античными творцами
учений-гипотез, постепенно переходит во вполне осознаваемый его
адептами этика-правовой нормативный подход, исходящий из идеи
возможности и необходимости совершенствовать социальную реальность
как в масштабах отдельного государства или общества, так и мира в целом. В
третьей четверти XX в. подход этот разовьется в специализированные
направления социальною проектирования и социальной инженерии.
Изначально в центре этико-правовой нормативности естественно
оказались проблемы избежания войн, миротворчества, построения
внутристрановых и международных систем отношений, которые были бы
имманентно и устойчиво ориентированы на мир. Утопичные с точки зрения
текущей политики, социальных и практических возможностей своего
времени, работы ученых этого направления (Ф. де Виториа, Ф. Суареса, Г.
Греция, Э. Крюсе, Д. Локка, В. Пенна, аббата Ш.-И. де Сен-Пьера, И.
Бентама, И. Канта) внесли решающий вклад в то, чтобы идеалы и цели
обеспечения прочного мира между народами, создания стабильных систем
безопасности, образования в этих целях особых универсальных всемирных
организаций были со временем приняты как практические задачи
ВП/МП/МО. Мыслители этико-правового нормативного направления
первыми ввели в научный и политический оборот идеи взаимозависимости
государств и народов, необходимости для политиков, государств и
правителей придерживаться разумных самоограничений в действиях, выборе
средств, а при их нежелании или неспособности делать это - введения
социальных ограничений, обеспечиваемых изнутри общества или же
другими государствами.
Параллельно в развитие "политического реализма" Н. Макиавелли и
различных школ права на протяжении XVI-XVIII вв. формируется ряд менее
амбициозных частных теорий, также нормативных по происхождению,
однако избирающих предметом своего рассмотрения не отнесенные в
неопределенное будущее идеальные цели, но конкретные практически
значимые аспекты реальных общественных и политических процессов и
отношении, включая международные.
В последней трети XVI в. француз Ж. Боден формулирует теорию
государственного суверенитета, в рамках которой рассматривает проблему
политического поведения государства как субъекта международных
отношений. В XV11 в. англичанин Т. Гоббс впервые, по сути, проводит
разграничение "естественного состояния" как стихии общественных
отношений, будь то внутренних или международных, которая по
необходимости всегда основывается только на силе и ни на чем другом, и
"общественного договора" как сознательного направляющего начала,
которое при желании и способности может внести в эту стихию человек. В
начале XVIII в. в связи с подписанием Утрехтского мирного договора (1713
г.), позднее в трудах Э. де Ваттсля и Д. Юма получают концептуальное
развитие принципы "баланса сил", ранее понимаемые преимущественно
интуитивно. В середине века Ж.-Ж. Руссо связывает национальные интересы
страны и ее политику в мире с социальной природой государства и формами
его государственного устройства.
Под занавес XVIII в. все наиболее передовые для того времени
светские общественно-политические идеи впервые в истории получают
шансы на участие в грандиозных социальных экспериментах: в
политическом (включая международное) оформлении образования США
("Декларация независимости" и конституция страны) и в идейном
наполнении Французской революции. Общий урок из этого опыта:
политическая и государственная практика воспримет только такие идеи
(независимо от их содержания), за которыми стоят реальные и дееспособные
социальные интересы и которые помогают эффективно решать противоречия
самой этой практики.
Существенно, однако, что избавившись от диктата церковных властей
и инквизиции, светская власть, общественно-политическая и научная мысль,
общество в целом не только сохранили, но со временем и упрочили свою
приверженность христианским по природе, происхождению и содержанию
нравственным и этическим нормам, многим социальным идеалам.
Оппозицию встречали власть и удушающие тупость, реакционность и
развращенность клира, а не идеалы веры как таковой. Период от
Возрождения и до конца XVIII в. стал эпохой раскрепощения мысли в
большей степени, чем чего-то иного.
Христианское происхождение как европоцентристской системы
международных отношений, господствовавшей в мире вплоть до второй
половины XX в., так и изначальных теоретических представлений об этой
системе и ее природе одним из своих следствий имело то, что практически до
конца XIX в. в изучении международной жизни нсецело господствовали три
теоретико-методологических постулата:
- под международными понимались только и исключительно
отношения между государствами. при этом сами государства
рассматривались как нечто целостное, без внимания к их внутреннему
устройству и всем сложностям процессов формирования и осуществления их
внешней политики;
- международные отношения рассматривались как бы в одной
плоскости, одномерно: как некое взаимодействие, в ходе и в результате
которого происходит переплетение и взаимовлияние экономических,
идеологических, политических и военных компонентов силы и могущества
государств;
- в рассмотрении же процессов такого взаимодействия доминировал
заимствованный у христианской социальной этики нормативный подход:
отношения не столько описывались и изучались, сколько декларировалось,
как, по мнению того или иного автора, должно быть, а не что происходит на
самом деле и почему.
Параллельно, однако, назревали и иные тенденции. Накопление
естественно-научных знаний, с нарастающей интенсивностью шедшее в
Европе с XVI в., отозвалось несколькими принципиально значимыми
последствиями в сфере структуры мышления, прежде всего научного.
Во-первых, был брошен самый серьезный за всю историю вызов
религиозному сознанию, мышлению, миропониманию: сложился, крепил
свои позиции и влияние атеизм как мировоззрение и методология. Наука по
определению несовместима в ее объяснительной части (но совместима,
иногда даже настоятельно требует совмещения в части нравственной, когда
речь идет об использовании научных открытий или специфических методов
исследования) с религией. Допуская существование Бога с его
принципиальным качественным атрибутом - способностью творения по
одному ему ведомым мотивам и правилам, мы тем самым в принципе
отрицали бы саму возможность каких-либо объективных закономерностей
движения мира и их познания человеком. Атеизм однозначно и
прямолинейно решал это теоретическое и методологическое противоречие,
меняя аксиому "Бог есть" на противоположную - "Бога нет".
Во-вторых, под влиянием описанных идей и соображений, но с
отмежеванием от психологического и социально-политического радикализма
атеистического подхода возникает позитивизм как такое течение
философской мысли, которое по сути говорит: отставим в сторону
неразрешимый (пока?) вопрос о Боге (не отвергая, однако, христианских
морали, этики, мировосприятия в целом) и займемся детальным изучением
того, что дано нам в нашей непосредственной практике и в реальных
ощущениях. Позитивизм и все его позднейшие модификации сыграли в XX
в. важнейшую роль в становлении современных теоретических исследований
международных отношений.
В-третьих, на основе наиболее радикального - воинствующего атеизма
в XIX в. формируется философия марксизма, выдвинувшая, помимо прочего,
определенную и целостную концепцию всемирно-исторического развития.
Эта концепция послужила в дальнейшем фундаментом для создания
нескольких по-своему целостных, но резко идеологизированных и
политизированных комплексов представлений о природе, движущих силах и
динамике международных отношении и мирового развития (марксистско-
ленинского, еврокоммуни-стического, маоистского), которые, при всем их
практическом значении, никак не могут претендовать на полновесную
научность, хотя и включают немало теоретически и методологически
ценного.
Таким образом, к концу XIX в. сложились, оформились и з.аняли
весомое место в сознании современников, прежде всего ученых, три
принципиально новых теоретических и методологических направления
мышления вообще, научного и общественно-политического в частности - для
каждого из которых ответы на вопросы, рождаемые мировым развитием и
динамикой международных отношений, приобретали критическую,
принципиальную значимость. Тем самым закладывался второй класс
предпосылок, необходимых и достаточных для появления новой науки.
Третьему классу, однако - средствам исследования -было суждено появиться
лишь еще несколько десятилетий спустя. Тем временем духовное
пространство будущей науки активно заполняли преднаучные концепции
объективно гипотетического содержания. В отсутствии реальных средств
исследования и в условиях, когда объект исследования - европоцентристская,
а по сути всего лишь европейская система международных отношений -
веками оставалась привычной и малоизменчивой, изучение этой системы
наращивало объемы внешних наблюдений и умозрительных, во многом
априорных рассуждений, искренне полагая все это не гипотезами, а знанием.
* * *
Описанные выше интеллектуальные традиции и восприняла наука о
международных отношениях, становление и первоначальное развитие
которой шли с конца XIX и вплоть до середины XX вв. по трем политически
и идеологически противоборствовавшим направлениям: христианско-
норматштому. христианско-позитивистскому. а также ''атеистически-
марксистскому.
Вплоть до Второй мировой войны господствующие позиции в новой,
только складывавшейся науке безоговорочно занимал нормативный подход,
в лучшем случае сочетавшийся с описанием фактологической стороны
явлений и событий. Такое положение естественно вытекало и из общей
нормативности социально-политической мысли того периода в целом
(включая свою, но все же нормативность марксизма), и из характера
исследований ВП/МП/МО, представленных тогда преимущественно
историей дипломатии, отмеченной немалой долей апологетики, и
международным правом, нормативным по природе и содержанию. Для
научной ситуации своего времени такое положение было естественным и
закономерным этапом процесса познания.
Еще в конце XIX в. многие ученые и политики понимали, что
подобный подход крайне узок и поверхностен; что он способен в лучшем
случае дать внешнее описание явлений международной жизни, но даже не
обращается к поиску причин этих явлений, особенно причин глубинных,
скрытых от."первого взгляда".
Однако засилье нормативного подхода диктовалось и природой
международных отношений и ведущих их субъектов. Господствовали
консерватизм и реакция - в ряде ведущих государств Европы
кониульсировали неограниченные монархии, другие такие государства
цеплялись за свои колониальные владения, и в совокупности этот порядок
опирался на понимание международного права как уместного лишь в
отношениях между "цивилизованными странами" (их было около двух
десятков), отчасти допустимым в отношениях между первыми и
"полуцивилизованными" (таковых было около трех десятков, Россия и
Япония еще перед началом Первой мировой войны включались в эту
категорию) и абсолютно неприемлемым п отношениях "цивилизованных"
государств с "нецивилизованными", которых оказывалось заведомое
большинство. В этих обстоятельствах нормативный подход объективно
выступал ничем иным, как идейным и практическим средством оправдания и
обеспечения сохранения спропоцентристской системы международных
отношений и господства в ней имперских держав Старого Света - Австро-
Венгрии, Великобритании, Германии, России и Франции. Застой научной
мысли в таких условиях гарантирован, что в конечном счете и произошло:
современная наука о мировой политике и международных отношениях
родилась нс в старой Европе.
Научная критика нормативного макровзгляда на международные
отношения шла в конце XIX - начале XX вв. одновременно в трех
направлениях. Часть ученых, не бросая вызова описанному взгляду в целом,
в последней, третьей его части отказалась от нормативного подхода,
выдвинув вместо него главным образом методологическое по характеру
требование научного и политического реализма: изучать реально
происходящие процессы, какие бы эмоции и оценки они не вызывали (в том
числе самые отрицательные), нс выдавая желаемое за действительное, тем
более за науку. Переосмысленная с таких позиций теоретическая школа
политического реализма оказалась в дальнейшем одной из наиболее
влиятельных на протяжении всего XX в.; сохраняет она свои место и
значение в сфере теоретических исследований и в научном обеспечении
практической политики ряда государств мира, включая ведущие, и сегодня.
Параллельно с направлением политического реализма (далеко не
всегда прагматичного, как можно было бы ожидать из самоназвания;
напротив, в дальнейшем нс раз доказавшего высокую степень своей
идсологизированности) сформировались и еще два мощных направления.
При резком расхождении между собой по многим вопросам теории и
методологии, общим для них было стремление обратиться к поиску
глубинных и вневременных (или как минимум наиболее долговременных)
причин, вызывающих приливы и отливы в течении международной жизни.
Эти направления выделяли тесную взаимосвязь международных отношений с
историей; но первое делало упор на изменениях в этой взаимосвязи и в
получаемых результатах; второе же - на вычленение в ней элементов и
причин неизменного, переходящего, инвариантного. В совокупности оба они
стали обозначаться понятием структурного подхода, обращающегося
прежде всего или даже исключительно к внутреннему содержанию, а не
внешним формам изучаемых явлений.
Первыми по времени появления стали в рамках структурного подхода
различные теории империализма. Они, во-первых, обращались к анализу
социально-экономической стороны исторического процесса в целом, в том
числе и международных отношений. Во-вторых, они так или иначе
формулировали идею формационного движения истории: развитие
конкретной страны, народа и человечества рассматривались как
историческое восхождение от низших формаций ко все более сложным,
высшим по их социальному качеству (как бы конкретно ни определялись при
этом и первые, и вторые). В-третьих, характер, содержание и формы
международных отношений каждой конкретной исторической эпохи
решающим образом зависят от того, какая формация доминирует (или какие
формации соперничают, противоборствуют между собой) в эту эпоху.
Следом за теориями империализма, с небольшим разрывом во времени
и в рамках того же структурного подхода возникают теории геополитики (Ф.
Ратцель, А. Мэхэн, X. Мак-киндер, Р. Челлен, К. Хаусхофер). Если теории
империализма выводили свои положения из анализа явлений и процессов
макросоциальной сферы, то теории геополитики обращаются к макросвязям
общества и природы, даже еще более узко - государства и географии. Они
формулируют принцип, согласно которому географическое положение
государства и доступ его к путям коммуникации решающим образом
формируют структуру внешних интересов государства, предопределяя тем
самым и его поведение в мире, то есть его внешнюю политику
безотносительно к тому, о каком историческом, социальном, политическом,
ином типе государства идет речь. Уже отсюда делался вывод, что во внешней
политике государств присутствуют и играют в ней особую роль некие
инварианты - факторы, не претерпевающие существенных перемен на
протяжении исторически значимых сроков или периодов, измеряемых
продолжительностью жизни многих поколений людей.
Все перечисленные подходы оперировали в принципе одним и тем же
комплексом разработанных ими взаимосвязанных базовых понятий и
категорий, вкладывая в них лишь слегка менявшееся содержание:
"международные отношения" (которые стали теперь различать с ранее
утвердившимися представлениями о дипломатии и внешней политике),
"государство, национальное государство", "сила", "баланс сил",
"национальные интересы". При этом каждый подход и в его рамках каждая
теория стремились определить и обосновать некий особый, решающий,
даже исключительный фактор или группу факторов, которые
исчерпывающе и одновременно как на исторической, так и на реальной
шкалах времени объясняли бы международные отношения: их природу и
характер, их движущие силы, причины и направление их эволюции и
развития.
Изучение международных отношений по-прежнему не располагало
никаким специализированным исследовательским инструментарием,
продолжая заниматься исключительно умозрительными анализом и/или
теоретизированием. Ответы на возникавшие в связи с международной
жизнью вопросы, которые могла бы предложить становящаяся наука, в
практическом плане никого не интересовали: все реальные и главные
политические силы во всех ведущих странах (от монархистов до
коммунистов) были уверены п своей правоте и нуждались разве что в ее
некритическом восприятии и подтверждении. Сама ноная наука еще не
располагала никакими действительными ответами (парадоксально, но эта
наука и целом не сказала ничего нового в своей области ни в преддверии, ни
по следам таких глубочайших потрясений первой половины XX в., как две
мировые войны, революционные события в России, Китае, некоторых
ведущих странах Европы и Латинской Америки). По сути еще только
зарождавшаяся наука о международных отношениях переживала с конца XIX
по середину XX вв. затяжной кризис становления, вызванный
исчерпанностью прежних ее подходов и отсутствием средств наблюдения,
изучения, экспериментирования.
В ней, однако, подспудно происходили важные для самой науки и
диктовавшиеся законами познания процессы. Прежде всего ширились
методологическая и философская базы научной мысли (в рамках
религиозного сознания, с выходом за них, с позиций атеизма; на основе
этико-нормативного, позитивистского или марксистского видения мира:
нормативного, политреалистского или структурного подходов). В ряде
случаев над новыми концепциями одновременно работают ученые
различных философских и методологических школ и направлений. Так,
теорией империализма занимались столь разные во всех отношениях деятели,
как С. Роде, Д. Гобсон, Р. Гильфердинг, К. Каутский, Н. Бухарин, В. Ленин.
Параллельно продолжали нарабатываться отдельные специальные
частные теории и концепции, ряд которых оказывал сильное влияние на
попытки научного осмысления ВП/МП/МО (например, появившаяся еще на
заре XIX в. теория войны К. фон Клаузевица). Росли количество и сложность
задававшихся самой наукой вопросов, число и разнообразие выдвигавшихся
ею гипотез относительно глубинных причин, закономерностей и механизмов
международной жизни. В таком состоянии сложившаяся, организационно
уже заявившая о себе наука о международных отношениях вступила во
вторую половину XX в., когда на смену отгремевшей Второй мировой
пришла война холодная.
* * *
Реалии холодной войны и особенно возникшей в ходе нее ракетно-
ядсрной конфронтации, как и порожденной ими весьма специфической
системы международных отношений (характеристика ее будет дана в одной
из последующих статей) заставили заняться глубоким пересмотром
сложившихся в до-ядерном мире теоретических представлений. В
совокупности этот пересмотр объективно отбросил нормативный nooxot) с
прежних господствующих позиций и вывел на его место школы и
направления, методологически восходящие к различным вариациям
позитивизма. Такой ревизии всех без исключения положений классической
теории международных отношений решающим образом способствовали и
сделали ее возможной ряд обстоятельств практического и когнитивного
характера.
В собственно когнитивной сфере к этому времени получили
значительное развитие смежные специализированные социальные науки
(социология, политология, социальная и политическая психология и др.);
возникло множество междисциплинарных направлений (теория организаций,
исследование конфликтов, прогностика) и различные виды прикладного
анализа (стратегического, политического, политико-психологического).
Произошло несколько крупных прорывов в сфере методологии научных
исследовании: были разработаны и получили признание общая теория систем
и методы системного анализа, в гуманитарные и социальные исследования
широко вошли количественные методы, деловые игры, имитации, сценарные
исследования и экспертные оценки. Развитие компьютерной техники
открыло несуществопавшие ранее возможности моделирования, а главное,
сбора, обработки, гибкого и быстрого использования небывалых массивов
информации, что в социальных исследованиях, и особенно при изучении
международных отношении имеет в новых условиях принципиальное
значение.
Впервые в своей истории наука о международных отношениях
практически сразу (на протяжении не более четверти века), скачком
обзавелась громадным арсеналом средств наблюдения, исследования,
моделирования и прогностики, притом беспрецедентным по его масштабам и
возможностям за всю историю человеческих познания и практики. Одного
появления подобного инструментария было более чем достаточно для того,
чтобы научный мир мог в самое ближайшее время ожидать заметного рывка
в диапазоне и качестве ведущихся исследований. Сочетание же широчайшего
комплекса впервые вводимых средств научного исследования с
глубочайшими переменами в объекте исследования и с тоже впервые в
истории сложившейся потребностью практической политики в серьезном
научном обеспечении делали качественную революцию в самой науке
неизбежной.
И она произошла. Начиная с рубежа 60-х годов нашего столетия,
сложившаяся ранее наука о международных отношениях впервые обращает
право именоваться собственно теорией международных отношений:
всякая теория возникает лишь после того, как наука получает объективную
возможность проверять свои построения практикой, делая это не от случая к
случаю и не в отдельных вопросах, но постоянно и на системной основе.
Теперь же практика не только давала науке такую возможность, но и
требовала пользоваться ею: вторая половина века стала периодом вначале
становления (1945-1960 гг.), а затем крушения (после 1988 г.) весьма
специфической системы международных отношений, которая на
определенном этапе несла в себе возможность уничтожения самой жизни на
планете. Потому и значимость ответов на задававшиеся теорией
международных отношений и обращенные к ней вопросы тоже оказывалась
исключительно высокой практически, а не только в чисто академическом
плане.
Одновременно на протяжении послевоенных десятилетий в мире на
несколько порядков выросло число исследователей, занимающихся
различными проблемами внешней, мировой политики и международных
отношений. Теперь им уже физически не могло найтись достаточно места в
правительственных структурах и в тех немногочисленных исследовательских
центрах, обычно привилегированных и закрытых, что обслуживали
непосредственно правительства и ведущие партии, а потому формировались
главным образом из бывших кадровых дипломатов, разведчиков и военных -
людей, по своим опыту и менталитету более склонных к различным
вариациям нормативного, а не позитивистского подхода к познанию.
Приход в науку о международных отношениях, в общественные науки
вообще огромной массы разночинцев (в США с начала 70-х годов ежегодный
выпуск социологов, психологов, политологов чуть ли не вдвое превышал
выпуск инженеров) дал толчок появлению и развитию в области ТМО
множества школ и направлений, независимых или минимально зависимых от
официальной политики и идеологии правящих кругов различных стран.
Приток людей диктовался спросом: усложнение общества, самих
международных отношений и потребности государственного управления
сформировали, по крайней мере у наиболее богатых и развитых государств, а
также у международных организаций, крупнейших много- и
транснациональных фирм, политических партий и движений постоянную
потребность в конкретных исследованиях всех сторон современной
международной жизни, что просто требовало наличия большого числа
специалистов.
Практической основой всех названных тенденций было бурное
развитие и ускорение после конца Второй мировой войны, особенно с начала
60-х годов, перемен в мире, вызванных социальными сдвигами и научно-
технической революцией. Отразились они сильнейшим образом и на
мировых экономике и политике, в результате чего МО второй половины XX
в. отличаются от аналогичных отношений любого предшествующего периода
как минимум в трех планах.
Во-первых, никогда ранее, даже перед самым началом Второй мировой
войны, международные отношения в материальном их выражении не были
столь масштабны, разно-сторонни и повседневны; не втягивали в свою
орбиту такое количество самых разных участников; не были столь значимы
для каждого из них, в том числе и для самых сильных, богатых и
влиятельных стран мира.
Во-вторых, впервые в истории МО осуществляются в условиях
глобальных коммуникационных и технологических возможностей. Это несет
в себе принципиально новые риски (экология, ядерная война, иные); но и
открывает небывалые возможности развития. Это также ставит многие
принципиально новые проблемы, особое место среди которых уже в
ближайшее время займут вопросы рационального использования
невозобновляемых ресурсов планеты и налаживания эффективной
"вертикали" органов самоуправления, управления и координации - от уровня
крупных внутристрановых регионов (штаты, провинции, области) до
глобального.
В-третьих, до сих пор все эти перемены шли по нарастающей,
аккумулируясь в качественных сдвигах, приведших не просто к целостности
и взаимосвязанности мирового развития (по-видимому, то и другое
существовало во все времена), но к превращению такой взаимозависимости в
один из факторов повседневности и, как следствие, к осознанию этого
фактора абсолютным большинством политиков и специалистов, что в свою
очередь сыграло роль детонатора в области научного и политического
сознания. В итоге на протяжении последнего .полувека впервые в истории
сложился комплекс специализированных и прикладных наук, и дисциплин,
сделавших международные отношения объектом и предметом своих
исследований. Под воздействием этого взаимосочетания происходит
заметное изменение взглядов на многие проблемы не только международной,
но и внутренней жизни, что ведет к определенной эволюции политической
практики.
Последовавшее бурное развитие всех школ и направлений теории
международных отношений в рамках христианско-позитивистского потока
можно разделить на три взаимосвязанных, но отчетливо различающихся
между собой этапа.
На первом из них, который условно можно датировать с конца Второй
мировой войны и до кубинского ракетного кризиса осенью 1962 г.,
происходило главным образом приспособление ранее сформулированных
идей и концепций к реалиям нового, биполярного и все более ядерного мира.
Центр теоретической научной мысли в сфере международной жизни
закрепляется в этот период в США. Интеллектуально и методологически в
нем начинает доминировать школа политического реализма, в рамках
которой ускоренно развивается обслуживающее официальный курс США
направление стратегического анализа - фактически теории
широкомасштабной военно-политической конфронтации, опирающейся на
наличие и активное политическое (с возможностью практического военного)
использование ядерного оружия. В рамках этого подхода были разработаны
общие взгляды на возможность и условия применения ядерного оружия;
сценарии такого применения, включая теорию эскалации войны до ядерного
уровня; впервые осмыслены как потенциальные последствия ядерной войны,
так и необходимость предотвращения ее случайного, непреднамеренного
возникновения, и практическая сложность этой задачи. Отличительной
особенностью школы стратегического анализа в США была ее открытость,
публикация очень большого числа книг и статей (все аналогичные
разработки того времени, выполненные в СССР, до сих пор остаются
закрытыми), что объективно позволяло двигать вперед в этой области
мышление не только в самих США, но и во всем мире.
Реалии послевоенного мира доказали, однако, что один только баланс
сил, как бы его ни определять (ядерных, военных, военно-экономических,
вообще всех факторов силы в совокупности), при всем его значении сам по
себе не в состоянии ни изменить, ни объяснить многое из фактически
происходящего в мире. Политическое использование баланса сил и даже его
периодические проверки (существует ли, каков он на данный момент,
насколько надежен и эффективен) стали в условиях ядерного мира
сопровождаться нарастающими риском и опасностями. К тому же
значительная часть теоретических исследований международных отношений
на Западе стала приобретать все более независимый, антиофициозный,
нередко и откровенно антиправительственный характер.
С середины 50-х годов начинается второй этап послевоенного
развития теории международных отношений, продолжавшийся почти до
середины 80-х. Главные его отличия -лавинообразное нарастание объемов и
масштабов исследований, такое же по характеру расширение их диапазона и
выдвижение на передний план нового (в дополнение к описанным выше)
философского, общетеоретического и методологического подхода.
ставящего в центр внимания проблему изучения мирового сообщества как
внутренне взаимосвязанного или даже единого целого.
Движущей силой становления этого нового для своего времени
подхода стала острая критика школ политического реализма и
стратегического анализа, которая велась с позиций одновременно теории,
методологии, этики и практической политики. Уже самое первое
привнесение в теоретические исследования международных отношений
категорий и методов социологии, например, сразу же показало всю
ограниченность подхода, при котором государство рассматривалось как
нечто единое, лишенное внутренней сложности. Так, попытки выявить
структуру национальных интересов оказывались бесплодными, если не
определялось, о чьих конкретно интересах идет речь - населения, элит,
правящего режима и т.д. Но такие интересы, строго говоря, не могут быть
признаны национальными. Реальная внешняя политика государства,
особенно демократического, всегда результат сложного баланса
внутриполитических сил, а не рационального следования кем-то
определенным интересам. Кроме того, выведение внешней политики
государств и международных отношений в целом только из категорий
национального эгоизма, силы и баланса сил априори обрекало бы мировую
политику на силовые пути и методы решения спорных проблем, что в век
ядерного оружия и диктата социально-экономической проблематики
вступает в слишком очевидные противоречия с действительностью.
Тем не менее исследования в русле политического реализма
продолжались и даже расширялись. На протяжении 50-х - начала 80-х годов
продолжалось изучение роли силы и нового содержания этой категории в
современных международных отношениях; природы явлений политической
власти и влияния в мировой политике; современной войны и военно-
политической проблематики в широком смысле понятия; военно-
экономических вопросов, непосредственно связанных с ролью силы и с
проблемами се обеспечения "изнутри" государства и национальной
экономики. Была поставлена проблема международного порядка и
взаимосвязей между, с одной стороны, поддержанием стабильности и
безопасности в мире, а с другой, обеспечением процесса необходимых и
неизбежных перемен.
Массированный прилив понятий, концепций и методов исследования
из смежных дисциплин дал в этот период мощный импульс становлению
таких, ныне уже ставших самостоятельными направлений, как исследование
конфликтов, анализ процессов формирования и осуществления внешней
политики государства (внешнеполитического процесса), изучение явлений и
процессов международной жизни с позиций социальной, политической
психологии, антропологии. В последних случаях анализировались как роль
личности, малых групп в процессах внешней и мировой политики, так и
макросоциальных явлении психологического и этнического происхождения
(например, влияние культурного фактора, национального характера и т.п.).
Особую теоретическую и методологическую роль сыграли в этот
период перенос на изучение международных отношений и внешней политики
системного подхода, а также исследование процессов международной
интеграции, стимулированное образованием и развитием
западноевропейской интеграции. Ретроспективно ясно, что главным итогом
здесь стало становление не только нового подхода в методологии и теории,
но и новой психологии во взгляде на весь ход международной жизни в целом.
Мир стал рассматриваться как взаимосвязанное, внутренне противоречивое,
но все же единое целое (чему немало способствовала космонавтика,
постепенно вытеснявшая сложившееся представление о бескрайности
земных и океанских просторов прямо противоположным - о малости
планеты, которую можно облететь немногим более чем за час, о хрупкости и
уязвимости всего того, что обеспечивает жизнь на ней).
В рамках формировавшегося целостного взгляда на мировое
сообщество стали развиваться исследования системы международных
отношений именно как системы;
стратификации субъектов этих отношений; процессов интеграции и
дезинтеграции и теория интеграции; закономерности формирования
собственно мирового сообщества уже как не просто стихийного, но
осознаваемого целого; мирового политического процесса;
проблемы международной взаимозависимости; мирового развития и
преодоления отсталости и зависимого развития. Постепенно укреплялись
представления о том, что мир и его развитие действительно представляют
собой некоторую целостность, изучать которую необходимо как непрерывно
эволюционирующую социально-историческую систему, как процесс
родового развития человечества - и уже через эту призму рассматривать
международные отношения настоящего и прошлого, не вырывая их из
общего контекста Истории.
Тема 2. Теоретические исследования международных отношений
(Современное состояние науки)
Примерно с конца 70-х годов на основе критики концепций и школ,
созданных в основом в рамках христианско-позитивистского подхода,
начинает складываться очередной, третий послевоенный этап
становления теории международных отношений. От предыдущих его
отличают несколько важных особенностей, прежде всего глубокие изменения
в объекте исследования: начинался всеобъемлющий кризис системы
международных отношений, определяемой такими понятиями и реалиями,
как послевоенная, ялтинско-потсдамская, биполярная, конфронтационная,
основанная на взаимном ядерном сдерживании. Уже к рубежу 80-х годов ни
одна из принципиальных ее характеристик не оставалась такой, какой она
была даже на старте 70-х, не говоря о более отдаленном времени.
Вторая половина 70-х - конец 80-х годов (жесткая хронология здесь
затруднительна) стали периодом становления зрелости теории
международных отношений как науки. В это время ТМО окончательно
сформировалась как совокупность специализированных направлений и школ,
единых в объекте и общих познавательных целях исследований,
опирающихся на в целом общие философские и особенно теоретико-
методологические основания, но различающиеся по конкретным предмету и
методам исследований. В этот период произошли два принципиально
важных для ТМО как науки изменения: она получила небывалый по
возможностям арсенал средств исследования, и с его помощью двинулась не
только вширь, но и вглубь своего предмета.
На протяжении 70-х и в начале 80-х годов наукой, а также в немалой
мере политикой были осознаны ограниченность и конечность
невозобновляемых земных ресурсов; принципиальная невозможность
вывести на базе имеющихся технологий и доступных ресурсов планеты все
человечество на присущие сейчас наиболее промышленно развитым странам
стандарты потребления и качества жизни; критическая экологическая
опасность ныне используемых технологий и способа хозяйствования на
планете в целом; и политические следствия этого - необходимость в
среднесрочной перспективе принимать международно согласованные меры
по охране окружающей среды и преодолению крайних форм нищеты,
отсталости, социальной ущемленности; а в долгосрочной перспективе
готовиться к такой смене форм производства энергии, хозяйствования и
образа жизни, которая позволила бы растянуть земные ресурсы на многие
поколения вперед либо наладить возобновляемость наиболее жизненно
важных, биологически и технологически незаменимых из них.
Путь к осознанию этих реалий был непрост, их признание еще рано
считать окончательно свершившимся фактом. Импульс перемене во взглядах
был дан на рубеже 80-х годов, когда с приходом к власти в США
консервативной администрации президента Р. Рейгана и началом вымирания
в 1982-1985 гг. престарелого советского руководства произошло резкое и
опасное обострение отношений между СССР и США, давшее основания
многим исследователям заговорить о "втором издании холодной войны".
Возросшая военная опасность побудила ученых Опубликовать ранее
полученные данные о вероятных последствиях даже очень ограниченной по
масштабам ядерной войны. Смысл их предупреждений сводился к тому, что
возникнет эффект "ядерной зимы": поднявшаяся в верхние слои атмосферы
пыль и гарь на много лет закроет солнце, и все живое на земной поверхности
и в океане, даже находящееся вдали от мест непосредственного применения
ядерного оружия, попросту вымерзнет.
Субъективно это порождало в заметной части западной науки о
международных отношениях (особенно в тех ее кругах, что не были заняты в
непосредственном обслуживании внешнего курса своих стран и
правительств) разочарование в теории "политического реализма", по-
прежнему продолжавшей господствовать в официальной политике США и
Запада в целом: подведя мир к грани ракетно-ядерной войны, эта школа
оказалась не в состоянии сказать ничего вразумительного ни о том, как
можно и нужно решать сложнейшие проблемы современного человечества,
ни даже о том, как строить само сдерживание и куда двигаться в его рамках
при условиях, когда уже накопленные запасы оружия гарантируют
многократное уничтожение жизни на планете.
Отражением этого разочарования явилось становление нового,
четвертого в новейшее время теоретико-методологического подхода,
который может быть назван этическим:
признается и выдвигается на передний план значение нравственного
аспекта как в изучении всех сторон международной жизни, так и в
практической деятельности в этой сфере. Со второй половины 70-х годов
нормативность открыто возвращается в международно-политические
исследования, но теперь уже в новом качестве: как этическое, а не
познавательное начало, и как нравственный ориентир, а не
господствующий методологический принцип. Если на рубеже Х1Х-ХХ вв.
нормативность по существу была средством и способом выдвижения
социальных макрогипотез, то этическая нормативность 70-х - середины 80-х
годов проявилась прежде всего в нравственном отрицании и отвер-жении
краеугольных принципов, на которых базировались картина мира и
мирового развития по школе "политического реализма" и производная
от нее политика. Начавшаяся в СССР в 1986 г. перестройка с ее "новым
политическим мышлением" на первых порах заметно подкрепила эти
настроения и этико-методологические подходы.
Существенные перемены произошли и в "человеческом климате"
внутри науки о международной жизни и в отношениях между наукой и
правящими кругами стран Запада. В последнем случае оказалась практически
преодоленной сформировавшаяся еще в 50-е годы фронда левой части
университетско-научного мира, видевшей в государстве и правительстве как
явлениях лишь реакционную, темную, давящую силу, которой необходимо
всячески противостоять ради сохранения прав и свобод личности. Теперь
было осознано, что права личности возможно обеспечить лишь в
рационально и динамично развивающемся мире, основанном на гармонии
между человеком и природой; такой по его качеству мир может быть
достигнут только через развитые формы международного сотрудничества,
которые, в свою очередь, возможны при наличии ответственного перед
личностью и обществом, реально дееспособного и социально эффективного
государства.
Практически почти прекратилась и внутринаучная полемика того типа,
когда сторонники некой идеи, абсолютизируя ее, стремятся "стереть в
порошок" соперничающие концепции, адепты которых отвечают первым
полной взаимностью как по части абсолютизации дорогих им идей, так и в
стремлении изничтожить всех несогласных с ними. Со второй половины 70-х
годов все более заметен процесс установления фактического равноправия
различных научных школ и подходов в области теории МО. В целом
признано, что каждая из них смогла выдвинуть в своей области комплекс
идей, концепций и конструктивных положений; что каждая операциональна в
своей сфере, несет в себе нечто интеллектуально и практически ценное,
пригодна для решения своего (но только и исключительно своего) класса
теоретико-методологических и прикладных задач.
На фоне всего перечисленного с конца 70-х годов происходят
значимые перемены и в видении предмета исследования. Окончательно
утверждается, в частности, представление о том, что международные
отношения (МО) суть не нечто полностью самостоятельное, открытое
любому произволу, но составная и неотрывная часть более широкого
процесса мирового развития (МР), определяются и ограничиваются
последним, хотя и сами влияют на его ход и результаты. Признание
доминанты мирового развития потянуло за собой еще одно следствие:
рожденную в XIX в. на базе естественнонаучных представлений тех
десятилетий концепцию стабильности начинает теснить концепция
упорядоченных изменений (orderly change; то есть контролируемых,
направляемых, подчиняющихся их заранее установленному порядку).
Масштабы и глубина предпринятого к рубежу 80-х годов наукой о
международных отношениях анализа не позволяли создать целостную
теорию предмета; но дальнейшее развитие каждого из сложившихся в ТМО
направлений объективно все более упиралось в необходимость видеть "свое"
частное как системный компонент целостного представления о природе,
закономерностях функционирования и тенденциях эволюции МО и МР. Эта
потребность и ее осознание становились на протяжении конца 70-х -
середины 80-х годов все острее. Но в условиях, когда умозрительные
изначальные гипотезы и "метатеории" МО были давно сформулированы, а
реалии бросали им все более серьезный вызов, на практике исследования
международной жизни в тот период пошли по пути "наращивания мяса" на
ранее созданный "скелет" теории международных отношений.
На протяжении собственно 70-х годов основными направлениями
исследований в рамках ТМО были проблемы методологии и конкретных
методов исследования, с особым упором на системный подход;
унаследованные от более ранних этапов проблемы силы, власти и влияния в
международных отношениях, теоретические вопросы войны и военно-
политической стратегии, явления международных конфликтов; все более
заметное место в тот период занимали также разработки проблем
"международной стратификации", соотношения установившихся порядков и
неизбежных перемен, теории интеграции, анализ внешней политики
(внешнеполитического процесса) и "мирового сообщества" (социологии
МО), психологических и антропологических аспектов внешней политики и
международных отношений.
К середине 80-х годов этот ряд исследований дополняют работы по
новым для ТМО проблемам. Обнародование прогнозов вероятных
последствий ничем не сдерживаемого экономического роста, а также
"ядерной зимы" получило большой научный и политический отзвук и
заметно способствовало осознанию серьезности и места всей экологической
проблематики в жизни современного человечества, а также и значения
международных отношений и сотрудничества в нахождении равновесия
между человеком, обществом и природой. Как следствие, заметно
активизировалось изучение жизненных потребностей личности и общества
через призму поддержания экологии планеты и роль международных
отношений в этой сфере; возросло внимание к процессам мирового развития,
его связям с международными отношениями и международной
стабильностью; к проблеме прав человека и их международных гарантий как
непременного условия и развития, и стабильности. Поставлена проблема
направляемого мирового развития (world governance; не путать с концепцией
"мирового правительства" - world government - начала века) как возможности
целенаправленно, рационально влиять на ход МО и МР в желаемом
направлении.
Наиболее значительными стали в период конца 70-80-х годов
перемены и достижения в области методологии теоретических
исследований международных отношений. К этому времени новые
средства и методы исследования (применение ЭВМ, количественных
методов, экспертных оценок, моделирования, прогностики и т.п.) уже
прошли через стадию первоначальной эйфории 60-х - начала 70-х годов,
перестали восприниматься как научная экзотика, вошли в программы
подготовки специалистов, обнаружили свои сильные и слабые стороны,
пределы своих возможностей. Главные последствия этой "революции средств
исследования" и основные изменения в области собственно методологии
ТМО по сравнению с серединой 60-х годов (время становления так
называемых "ревизионистских" школ и направлений с их первой критикой
"политреализма", нормативного подхода и официальной политики США и
Запада того периода) следующие:
(I) полностью, окончательно и уже без сомнений признаны сам
принцип заимствования методов и подходов из других наук как таковой и
правомерность заимствования как одного из инструментов в
методологическом арсенале науки. Если первые попытки подобного рода
на протяжении 50-60-х годов встречались с научным недоверием и
снобизмом старых школ, выросших на близости к элитарной дипломатии
(которую оскверняли разночинские попытки влезть в эту тонкую сферу с
системным подходом, математикой и тому подобным), то с рубежа 80-х
годов необходимо лишь профессионально грамотное обоснование
конкретной методики исследования, не более. Сработал демографический
фактор: новые поколения исследователей знакомы с методами смежных наук
со студенческой скамьи и не боятся их. Сработала и эволюция общего и
специализированного сознания, успевшая впитать и освоить новые
структуры мышления;
(II) стихийно складывается распределение научных и прикладных
исследовательских задач по классам, решаемым и не решаемым с помощью
тех или иных заимствуемых подходов - что, в свою очередь, становится
одним из факторов начавшегося разделения науки международных
отношений на более фундаментальные (например, концепции системы МО) и
более прикладные (теория переговорного процесса, анализ внешней
политики, конфликтология) ее школы и направления (хотя четкое
размежевание провести пока невозможно);
(III) базы данных (общих и по конкретным направлениям и проблемам
МО/МП/МР/ВП) не просто получают широкое распространение и растут в
значении как важный источник информации, но дают возможность
сопоставлять огромнейшие (по фактологическому охвату, диапазону и
взаимосвязанное™ проблем, по хронологической продолжительности
процессов) ее объемы и массивы, недоступные ранее исследователю в такой
их целостности либо недоступные вообще. Правда, в этой возможности есть
и свои опасные стороны (в частности, структура и принципы
функционирования банка данных при определенных условиях могут
существенно влиять на содержание, а тем самым и интерпретацию
заложенной в них информации);
(IV) подобные банки информации и базы данных объективно требуют
под свое создание определенных архитектуры и идеологии системы,
программ накопления, обработки, хранения и использования информации, а
такие программы, в свою очередь, явно или неявно опираются на
существующие в науке МО и ВП концепции и гипотезы и тем самым
объективно же становятся формой и способом верификации этих гипотез.
Причем весьма существенно, что в силу самой природы банков данных такая
верификация, когда придет ее время, будет объективно носить
формализованный характер, выражаться в падении эффективности,
работоспособности, даже в кризисе соответствующей системы информации и
основанных на ней процессов управления, а не только в субъективных
воззрениях отдельных ученых.
Важно подчеркнуть, что отмеченные в пп. (I), (111) и (IV) особенности
являются принципиально новыми не только для данного периода или данной
науки, но и в развитии научной мысли вообще, и оказывают обратное
воздействие, выходящее далеко за рамки теории международных отношений
как таковой.
Размываются ли при этом "традиционные", более ранние подходы к
теории МО/ВП/МР, созданные в рамках христианско-нормативного и
христианско-позитивистского подходов? Первое впечатление - да,
безусловно. На протяжении 60-70-х годов различные варианты так
называемого "модернизма" бросали прямой вызов традиционной науке.
Однако ретроспективно ясно, что это была не более чем борьба за место под
солнцем. К концу 70-х годов такое место было отвоевано, закреплено, и с 80-
х происходит переосмысление традиционных подходов и концепций науки и
теории МО уже с учетом позитивного вклада, полученного за прошедшие
годы с помощью новых методов: имеет место своеобразный ренессанс
традиционализма в сторону его синтеза с новыми для него (а не вообще)
методологиями и на этой основе расширение и углубление самого
традиционализма. Война корпоративных интересов на этом поприще
временно прекращена, осталась традиционная борьба самолюбии и личных
амбиций. Это свидетельствует об относительно высокой степени зрелости
науки и ее институционализированности как дисциплины. Несомненно, что
начавшемуся ренессансу традиционализма существенно способствует и
политико-идеологическая обстановка в'мире: глобальный кризис
социалистической идеи (в коммунистическом и социал-реформистском ее
вариантах) и укрепление политического и духовного влияния
правоконсервативных и откровенно реакционных течений.
* * *
Атеистическо-марксистский подход оказался трансплантирован в
сферы идеологии и политики КПСС и СССР, что самым негативным образом
сказалось на его судьбе в науке XX в., включая ТМО.
В самом СССР собственно научные компоненты марксизма были
изначально поставлены в положение заложников идеологической и
политической конъюнктуры, долгого и исключительно мощного террора
догматизма, схоластики и невежества, что в значительной степени
предопределило кризис и распад всей советской системы. Марксизм как
философия и методология научной работы имеет мало общего с марксизмом-
ленинизмом как официальной доктриной и идеологией бывшей правящей
КПСС. Среди иных общественных наук, пострадавших от такого положения,
оказалась и ТМО, которая так и не смогла пробиться в СССР по сочетанию
главным образом следующих причин:
- ее создание требовало творческого развития теории и методологии
марксизма, что само по себе воспринималось партией (и заинтересованной
частью науки) как идеологический и политический вызов, граничащий с
ревизионизмом и другими смертными грехами;
- всякая теория по природе ее ставит некие рамки поведению и
особенно произволу того, кто признает ее именно как теорию. В данном
случае она объективно становилась бы таким ограничителем по отношению к
правящей КПСС, притом на центральных направлениях идеологии и
международного курса партии и государства;
- единственным за все время существования СССР прецедентом
появления нового направления в области общественных наук стало
формирование научного коммунизма. Инициаторы стремились отделить
марксизм научный, творческий от идеологии и схоластики, создать условия
для его развития. Однако очень скоро все обернулось с точностью до
наоборот, и дисциплина получила партийное признание, заплатив за это
превращением в аналог закона божьего. Экономико-математические методы,
другое "научное дитя" периода "оттепели" середины 50-х годов, напротив,
так и не получили полноценного "идеологического гражданства" и,
следовательно, вынужденно вели непростую жизнь как в чисто научном
плане, так и особенно во всем, что касалось их приложения к практике;
- с учетом этого опыта благословить марксистско-ленинскую теорию
МО (если и когда она была бы создана) и признать ее должна была сама
КПСС, причем на уровне не ниже чем съездовской речи своего генерального
секретаря, добиться чего было весьма трудной задачей. Но даже и это не
гарантировало бы дальнейшего развития новой науки. Не приходится
удивляться, что десять вариантов объемистой "Теории международных
отношений", подготовленные в ИМЭМО АН СССР на протяжении 1974-1985
гг. под руководством академиков Н.Н. Иноземцева и Е.М. Примакова, так и
не увидели свет.
После 1991 г. место прежних идеологических преград заняли новые:
теория и методология марксизма оказались отброшены опять по
соображениям идеологической и политической конъюнктуры, но не в силу
их собственных научных качеств. Разумеется, нельзя на них замыкаться; но и
отказываться от них вряд ли продуктивно, особенно учитывая отечественный
опыт последствий теоретического и методологического диктата в науке.
Возникли трудности финансового и кадрового порядков. В результате
сейчас, когда теоретические исследования МО (на базе всего спектра
теоретико-методологических подходов) в принципе могли бы развернуться в
России очень широко, на практике крайне тяжело найти на такие работы
заинтересованного заказчика. Публикуемые немногочисленные труды носят
философский, чаще дескриптивный, но редко - строго теоретический
характер. Исключением стали первые отечественные учебники по ТМО. Но
без интеллектуального суверенитета (который вовсе не тождественен
замыканию в собственной скорлупе) еще никому не удавалось занять
достойное место в мировых сообществе, развитии и даже в МО.
На Западе обстановка долгой идеологической и политической
конфронтации лишала атеистическо-марксистский подход перспектив быть
допущенным к процессу формирования официального курса, без чего наука о
МО, особенно на ранних ее этапах, формировалась бы значительно
медленнее и, вероятнее всего, далеко на заднем плане общественных наук.
Не запрещая марксизм прямо, западная практика объективно оттесняла его в
университеты и в те направления и сферы науки (прежде всего в
философию), где левый радикализм воззрений допустимо было сочетать с
академической карьерой и даже общественным признанием. Положение
ученых-марксистов осложнялось и тем, что если им удавалось создать нечто
заметное, тем более значительное, они оказывались объектом жесточайшей
критики как на Западе, так и со стороны СССР, обвинявшего их в
ревизионизме и прочих смертных грехах. Достаточно вспомнить в этой связи
имена таких крупных ученых левой ориентации, внесших весомый вклад в
создание ТМО, как Р. Арон.
Окончание холодной войны и распад СССР идеологически облегчили
проявление научного интереса к марксистской методологии исследования,
марксистскому пониманию и объяснению процессов и механизмов истории,
мирового развития, международных отношений, а также очищение самого
марксизма от идеологических, политических и пропагандистских наслоений,
его возвращение в лоно науки. Ныне ученые вне России, проявляющие
интерес к марксизму, могут не опасаться, что их сочтут идеологическими
противниками, пособниками внешнего врага или интеллектуальными
динозаврами. Поэтому заметен поворот некоторой, небольшой, но ищущей
новых для себя взглядов и ракурсов части научной литературы (причем, что
показательно, в англосаксонской части науки - в США и в Англии) к
осторожному, прощупывающему использованию марксистских подходов в
познании международной жизни. В марксизме справедливо видят хорошую
основу для решения задач операционализации как отдельных понятий, так и
целых концепций и направлений мысли; для придания исследованиям
системного характера; для обеспечения совместимости методик разного
уровня, особенно при использовании машинных банков данных. Растет
интерес и к критическому, но серьезному анализу марксистской концепции
социально-исторического развития.
Объективно пока только марксизм дал целостную гипотезу мирового
развития, связав его с динамикой и направленностью МО. Социально-
историческая по сути, эта гипотеза поддается научной верификации лишь на
опыте веков, не десятилетий. Бесспорно, что она уже требует значительной
ее корректировки, со временем эволюционирует еще более существенно:
такова судьба всех научных воззрений. Однако марксизм поймал своих
нынешних оппонентов в теоретическую и методологическую ловушку:
только разделяемый и отстаиваемый им формационный подход дает
основания надеяться, что Россия (как и, возможно, некоторые другие
страны), пройдя через всевозможные отклонения, колебания и шарахания,
вступит в конце концов на путь социально-ориентированного рынка и
политической демократии, по которому идет Запад. Цивилчзационный
подход, исходящий из иных теоретических и методологических посылок, не
оставляет для такого рода надежд никаких научных оснований.
Распад СССР и основанной на итогах Второй мировой войны системы
международных отношений поставили науку о последних в принципиально
новые политико-идеологические и когнитивные условия и перед новыми
теоретико-методологическими проблемами.
Идеологически вслед за кризисом коммунизма неизбежен столь же
глубокий и принципиальный по последствиям кризис либерализма: оба
вероучения довели до предела заложенную еще в античности коллизию
"личность или общество", вплотную подведя к ответу: "не или, но и..., и...".
Такому ответу ближе социал-реформистская практика, в том числе и в сфере
МО; но именно там именно такая практика будет, вероятно, сталкиваться в
обозримой перспективе с наибольшими идеологическими трудностями, что
станет влиять и на эволюцию школ и направлений ТМО.
Политически снятие фактора идеологического противоборства и
военно-политической конфронтации действует в мире так же, как и в России:
освобождая науку о МО от прежнего давления на нее этих факторов,
заменяет его новым, более сильным и императивным, каким объективно
выступает моноидеологичность современного развитого мира.
Одновременно, как ни парадоксально, снижается текущая (а возможно, и
более долгосрочная) потребность правящих групп и элит в науке МО:
картина международных отношений представляется ясной и надолго
стабилизированной.
Когнитивно же, в одночасье лишившись столь продуктивных в
научном плане проблем, как ядерная конфронтация и глобальное
противоборство сверхдержав, ТМО оказывается ныне перед выбором:
уходить ли в сугубо частные и относительно узкие области (такие, как
исследование конфликтов, переговорного, внешнеполитического процессов,
в дескриптивно-реферативные исследования), или же так или иначе
обращаться к болезненным проблемам мирового развития.
К рубежу 90-х годов здание науки о международных отношениях
обрело достаточно целостные формы. Его архитектура причудлива, но
логична. Целостность и перспективы развития ТМО определяются теми
главными когнитивными переменами, что долго назревали исподволь и
становятся все более очевидными на протяжении 90-х годов:
- определенной исчерпанностью изначального потенциала, что был
присущ в начале XX в. каждому из трех макрометодологических
подходов, рожденных европоцентри-стскими международными
реалиями и европейской мыслью: христианско-нормативного,
атеистически-марксистского и христианско-позитивистского. Каждый
из них внес свой, существенный и незаменимый вклад в становление и
развитие ТМО и как бы "завис" в ожидании верификации, новой эмпирики
и/или дальнейшей эволюции объекта и предмета исследования. С течением
времени их былые взаимное непризнание и неприятие, политическое и
идеологическое противоборство отступают, открывая в общении между ними
тенденцию к совместимости, осознанной взаимодополняемости, к слиянию в
целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий,
евроатлантический культурно-мыслительный комплекс, - в рамках этого
комплекса растет осознание того, что никакая социальная теория, в том числе
ТМО не может считаться таковой, если не включает в себя (в виде частных
случаев, а не исключений) и не объясняет опыт всех культур и цивилизаций,
а не одной только собственной, базовой для ее исходных посылок. Можно
добавить: не может быть полноценной теорией и любое построение,
избирающее в качестве своей основы только одну сторону жизни и
игнорирующее иные, чем-либо неприятные или нежелательные (простое
отрицание, например, теневых эконЬмики и политики есть по сути не что
иное, как одна из разновидностей нормативного подхода);
-технологическая и политическая "освоенность" планеты, ее
превращение в "глобальную деревню" ставит принципиально значимые
научно-практические проблемы: возможен ли глобальный переход к
преимущественно интенсивным формам развития, и если да, то каких
политических форм он потребует; как отразятся ограниченность ресурсов
планеты и необходимость соблюдать требования экологии на социальных
мобильности, мотивации и стабильности крупных стран, регионов и системы
МО в целом; каковы вообще будут функции и роль международных
отношений в условиях целостного мира; насколько и как фактическое
мировое развитие будет вписываться в концепции и представления форма-
ционного и/или цивилизационного подходов.
Архитектура современной науки о МО включает:
- макроисследование международных отношений в исторических
масштабах времени и социального содержания, на стыке с философией
(политэкономия МО, системный подход, геополитика, теории мирового
развития и теории национализма в их МО-частях);
- изучение международных отношений в длительном, но все же
реальном масштабе времени, соизмеримом с продолжительностью жизни
человека и потребностями внешней политики государств (современные
политреализм и стратегический анализ; комплексные разработки проблем
международной стабильности и безопасности);
-исследование ограниченных во времени и/или масштабах конкретных
международных взаимодействий (теории конфликта, переговоров,
посредничества; сценарные разработки и планирование внешнеполитических
мероприятий; прикладные и учебные сценарии типа игр и ситанализов; а
также описательные исследования);
- субъекты и типы отношений в мировой политике (различные по их
внутренней природе, международно-правовому статусу субъекты МО;
уровни отношений между ними;
процессы интеграции/сепаратизма; проблема научного определения
явления и категории "мирового сообщества"). По сути формируется новая
социология международных отношений, ставящая (в отличие от
традиционной) в центр внимания не личность, но различные типы сложных
социальных субъектов;
- процесс формирования и осуществления поведения субъектов МО
(анализ структуры и содержания внешнеполитического процесса; процессов
принятия политических решений;
рекрутирования элит и руководящих групп; сравнение этих процессов
в различных странах, политических системах и культурах; особенности
функционирования международных организаций).
Внутри каждого из перечисленных направлений проходят свои
теоретические и методологические водоразделы, выдвигаются на передний
план и отходят назад свои вопросы и проблемы. Общими для состояния и
пейзажа науки о международных отношениях в целом к середине 90-х годов
являются понимание объекта и предмета науки; ее центральный теоретико-
методологический вопрос; вытекающее из него понимание типа теории в
науке МО; характер, место и роль в ней эмпирических исследований.
Просуммируем все изложенное:
Первое. В науке о МО происходит важная эволюция в понимании
объекта, предмета и, соответственно, задач науки. Изначально, на рубеже XX
в. наука о МО поставила в центр внимания проблему войны и мира,
определив свои высшие цель и задачу как поиск путей и средств
предотвращения войн и/или их скорейшего окончания. Но проблема войны и
мира оказалась неотделимой от межгосударственных отношений в целом,
которые постепенно -примерно к началу 40-х годов - заняли центральное
место в качестве объекта и предмета изучения. Дальнейшие исследования
показали, что, с одной стороны, государство не является внутренне таким
монолитом, каким казалось оно прежде, а с другой - и МО несводимы лишь к
межгосударственным. Более того, именно негосударственные компоненты
МО нарастали в послевоенный период особенно широко и быстро.
Соответственно, с начала 60-х годов развитие науки МО от анализа
межгосударственных (преимущественно военно-политических) отношений
пошло и "в глубь" государства, и в сторону значительного расширения круга
изучаемых явлений и процессов международной сферы.
К настоящему времени на обоих этих направлениях объемы и глубина
исследований зашли настолько далеко, что объект и предмет собственно
теории международных отношении улавливаются все труднее и явно
нуждаются в переосмыслении, о чем говорит растущее число работающих в
этой области ученых. В итоге от прежней узкой ее интерпретации (как
объяснения взаимодействия государств на международной арене) теория
МО все заметнее смещается к более широкому ее истолкованию, как
науки о трансформации ограниченных по территории, пределам и
возможностям деятельности, политическим формам, духовному миру
социальных общностей и социально-территориальных систем в
социумы и системы качественно и социально более высокого порядка:
объединения родов в племя, племен - в народ и далее в современную
многонациональную страну и в мировое сообщество. Государство при этом
начинает смотреться как крайне важный, но всего лишь один из институтов
исторического и социального развития, как своего рода корпорация по
управлению (в интересах ее акционеров - элит и/или общества в целом)
данной социально-территориальной системой, и оценивается вес более по
объективным итогам управления и все менее как самоценность.
Но подобные объединения - не "плавильный котел", в котором
личности, народы, социально-экономические и политические системы,
культуры усредняются до некоторого аморфного состояния, теряя все особое,
специфическое, что было присуще им раньше. Напротив, сами такие
объединения, процессы их становления и распада образуют в историческом
масштабе времени все более сложные, многоуровневые формы
общественной и политической жизни, объяснение которых, равно как и
закономерностей их взаимодействия требует некоторой теории мирового
развития. В западной литературе по ТМО признано и ныне бесспорно, что
невозможно понять международные отношения, не имея концепции
мирового развития; но выстроить последнюю можно, лишь заложив в нее в
качестве одной из центральных опор какую-то макрогипотезу
международных отношений.
Второе. Отсюда - оживление попыток заново осмыслить общую
историческую направленность мирового развития. С середины 80-х годов
оживилась косвенная дискуссия сторонников формационного и
цивилизационного подходов. На первый взгляд она носит скорее
философско-методологический характер, однако в содержании ее за
последние десять лет произошло несколько потрясений. Интерес к
цивилизационным аспектам мирового развития возрос под совместным
интеллектуальным воздействием того, что получило в свое время название
конвергенции, разрядки, трудностей развития стран третьего мира, а также
объективно нараставшего разнообразия в мире социализма. Распад СССР
снова выводит формационные аспекты проблемы на первый план.
Цивилизации опираются на политические, организационные, социально-
экономические структуры. Но все они, по крайней мере в еврокультурной
части мира, исторически доказали склонность к глубоким и резким
периодическим переменам.
Открывшее 90-е годы всемирное торжество капитализма в свете его
собственной ^ истории лишь подчеркивает неизбежность в конечном счете
каких-то перемен формационного порядка. Но капитализм успел стать
глобальным явлением и пока продолжает активно развиваться и наступать
дальше. Следовательно, его грядущие перемены непременно затронут весь
мир, преломившись через цивилизационные особенности различных культур.
Но как именно - на этот вопрос ответа пока нет. Интуитивно угадывается и в
целом признается, что истину надо искать где-то на стыке, взаимном
оплодотворении формационного и цивилизационного подходов. Однако
концепция формации наиболее разработана в марксистской школе, что пока
затрудняет ее принятие и дальнейшее развитие. Понятие же цивилизации в
политологии разработано крайне слабо, а к его операционализации
применительно к практике и теории МО и МР вообще пока не приступали.
Третье. Поскольку ясности в вопросах сопряжения теорий МО и МР
нет, как нет пока в строгом смысле слова и самих этих теорий, то в науке о
международных отношениях можно выделить множество воззрений на
реальную, желаемую либо интуитивно определяемую архитектуру будущей
ТМО. Водоразделы проходят по линиям общей методологии, определения
ключевых проблем и образного восприятия такой теории - объективно
существующей или искомой.
Сложились два принципиальных методологических взгляда на то,
возможна ли вообще некая единая "метатеория" МО. Сторонники одного на
протяжении последних двух-трех десятилетий признают принципиальную
возможность и говорят о необходимости создания общей теории
международных отношений (в другом варианте - теории международных
отношений и мирового развития), которая вобрала бы, соединив в нечто
целое, все частные теории, школы и направления. Сторонники другой точки
зрения, сомневаясь в выполнимости и даже целесообразности постановки
такой задачи на современном этапе развития науки о МО, отдают приоритет
конкретным исследованиям и прикладным разработкам, полагая, что в
конечном счете главное-практическая отдача. Два эти подхода объективно
дополняют друг друга, и под их совместным воздействием положение в
науке о МО начинает походить на ситуацию в политологии, психологии,
физике, где за единым названием науки сосуществуют, спорят, сотрудничают
и движут развитие друг друга ряд специализированных направлений.
Собственно, до теории международных отношений тем же самым
теоретико-методологическим путем прошли все без исключения те отрасли
знания, что сегодня имеют статус и репутацию устоявшихся, признанных и
солидных наук. Вначале попытки осмыслить некий очень крупный массив
качественно взаимосвязанных явлений с позиций уже имеющегося, во
многом смежного знания, создать "общую теорию" такого массива.
Подобные попытки ни разу, ни в одной сфере не привели, да и не могли
привести к формированию какой бы то ни было метатеории; но они
неизбежно рождали широкий спектр гипотез и помогали дифференцировать
нечто внешне целостное, кажущееся монолитным, однородным в комплекс
более четко видимых конкретных предметов исследования, изучением
каждого из которых занимались уже свои подходы и дисциплины со своими
методами и системами понятий. На следующем этапе, если когда он и
наступал (дистанция между этапами в отдельных науках измерялась иногда
веками), происходили синтез вновь полученного частного знания и
обретение системного понимания, делавшие возможным очередной
качественный, философский прорыв к обновленной постановке ранее
выдвинутых проблем, переосмыслению изначальной макротеории, к
формулировке вопросов и гипотез для следующего этапа познания.
На сопряжении рациональной и интуитивно воспринимаемой,
подразумеваемой частей теории МО ключевой вопрос - в какой образ
складывается (могла бы сложиться) гипотетическая метатеория: плоскость,
"слоеный пирог" или же нечто третье? Ограничение объекта и предмета
теории МО сферой межгосударственных отношений однозначно дает при
таком взгляде плоскость, взаимодействия на которой обретают вид
хаотических либо механистических.
Неполнота и неадекватность этой картины, отсутствие у нее
объяснительного потенциала давно признаны в мировой литературе. Но
простая попытка дополнить традиционную геополитическую картину
введением более широкого круга субъектов МО и нескольких уровней
анализа этих отношений (как бы такие уровни ни определялись) дает эффект
"слоеного пирога", поиски причинности явлений и процессов
международной жизни внутри которого затруднены еще более, нежели на
"плоскости". При этом каждый из слоев такого пирога сам оказывается при
ближайшем его рассмотрении крайне сложным, структурированным
явлением, которому присущи свои закономерности.
В результате из всей совокупности исследований международных
отношений постепенно вырисовывается образ мирового развития как
сложной раскручивающейся во времени, физическом и социальном
пространстве спирали, "рога изобилия", нижний конец которого
жестко фиксирован в прошлом, верхний же открыт ч совершает вместе
со всей спиралью широкие колебательные движения в рамках реально
доступных человеку и видимых им альтернатив. Система эта включает
сложные подсистемы - государства, регионы, иные образования, к тому же
меняющиеся в процессе и под влиянием мирового развития. Процессы таких
перемен обладают отчетливо выраженным циклическим характером. Как
следствие их, складывается пульсирующий, живой, все более целостный
комплекс-мировое сообщество, причем в ходе такого развития
индивидуальность составляющих сообщество частей не только не
утрачивается, но становится все более выраженной.
Подобный взгляд на мировое развитие сформировался совершенно
независимо в рамках двух подходов: атеистически-марксистского, начавшего
в преддверии "нового политического мышления" соединять идею социально-
исторического развития со все более строгой операционализацией категорий
в критериях и методологии системного исследования. И в рамках подхода
христианско-позитивистского, где особую роль за последние 15-20 лет
сыграли два направления: политическая экономия международных
отношений и нетрадиционная геополитика. Возникающие в рамках каждого
из двух этих подходов картины природы и динамики МО и МР имеют
поразительно много общего: западная позитивистская наука, продвигаясь
вперед мелкими тщательно выверенными шажками, к началу 90-х годов
вышла на то же самое принципиальное видение мира, какое в свое время во
многом угадал и в меру возможного пытался развивать творческий марксизм.
Политэкономия МО, по мнению ряда исследователей (Р. Хиггот), на
протяжении 80-х годов была наиболее бурно развивавшейся частью науки о
МО. В центре ее внимания -нарастающее рассогласование (противоречие)
между все более глобальным характером организации мировой экономики и
сохранением центральной роли и значения территориального государства как
основной единицы политической организации населения на определенной
территории, а также и самих МО. Это противоречие вряд ли получит
разрешение в обозримой перспективе, но практическое и политическое
значение его будет обостряться. Высказывается мнение, что развитие
политэкономии МО делает излишними различия между "внутренним" и
"международным", а также между "экономическим" и "политическим",
характерные для основной части исследований МО в послевоенный период.
С конца 70-х годов новая волна интереса и переоценка многих ранее
разработанных идей и положений коснулись также политической географии
и геополитики. Главное отличие сформировавшейся в этот период "новой
геополитики" от прежней, традиционной - в ее резко отрицательном
отношении к государству как враждебному обществу; в осознанном
нежелании служить государству, особенно в роли теории и оправдания
войны, одного из средств обеспечения политического доминирования; и в
попытке с позиций политической географии и геополитики рассмотреть в
глобальном масштабе проблемы бедности, неразвитости, окружающей
среды, рационального распоряжения ресурсами планеты; а также и проблему
глубинных причин того, что война, при всех ее очевидных негативных
аспектах, продолжает, тем не менее, оставаться средством политики
государства.
Новое коснулось и расстановки методологических акцентов.
Государство (при изменившемся отношении к нему) рассматривается по-
прежнему как основная структурная единица мировой политики; но при
анализе последней внимание сосредотачивается на целостности мира как
единой геополитической структуры. Доминирует понимание, что коль скоро
физическая и природная сферы обитания человечества являются цельными и
неделимыми, то и организацию политического бытия человека тоже
требуется сделать геополитически целостной. Отсюда - постановка проблемы
необходимости и условий перехода от "геополитики войны" к "геополитике
мира", а также комплекса вопросов взаимозависимости геополитики и
геокультуры.
При таком, по-своему системном взгляде на мировое развитие,
исходящем не просто из признания политической взаимосвязанности и
взаимозависимости мира, но и более глубинной его цельности, диктуемой
территориально-природной обусловленностью деятельности и всего бытия
человека на планете (включая культуру и обеспечение экологического
равновесия), МО оказываются как бы текущим "срезом" основных
направлений, процессов, достигнутого состояния мирового развития.
Международными, в строгом смысле этого слова, в каждую конкретную
эпоху объективно выступают отношения между внутренне
оформленными организованными социально-территориальными
системами во внешней для них, политически, властно и организационно
не оформленной или слабо оформленной социальной среде. Государство -
частный случай такой системы; межгосударственные отношения - частный
случай отношений международных. Таким образом, логика научного
познания в этой области снова возвращает исследователей к поиску причин и
движущих сил мирового развития.
Четвертое. Именно это обстоятельство обусловило, примерно с
рубежа 70-х годов, возвращение нормативного подхода и выдвижение на
передний план всех основных работ и дискуссий по теории МО этических и
нравственных вопросов. Процесс обращения теории МО к проблемам этики и
нравственности прошел через четыре этапа: (1) становление науки МО,
теснейшим образом связанное с попытками найти альтернативу войне как
явлению в международном праве, либеральном интернационализме и в
проведении прямой аналогии между внутренней жизнью общества и
государства, с одной стороны, и тем, что происходит в мире ("мир через
законность"); (2) период "морального вакуума", сопряженный с господством
"политического реализма", тяготеющего сводить политико-этические
вопросы к техническим проблемам. Начавшись с краха Лиги Наций, этот
этап длился на протяжении всей холодной войны, отдавая предпочтение в
МО порядку над справедливостью; (3) параллельно, на основе критики и
отрицания политики и теоретических воззрений школы "политреализма"
получала распространение концепция "мирового сообщества", усиливалось
требование "моральности государства", а из спора между бихей-
виористами и классическими "политреалистами" складывалось расширение
этического начала в теории вообще ("этика силы") и родилась постановка
вопроса о роли ценностных начал в построении теоретических ориентации;
наконец, (4) с рубежа 80-х годов в ответ на "вторую" холодную войну 1979-
1987 гг. происходит возвращение теории МО характера социальной и
политической теории взамен предшествующего ее понимания прежде
всего как теории силы и насилия. Ныне в целом признается, что такие
крайне актуальные в современном мире и международных отношениях
проблемы, как права человека и социальных меньшинств, обеспечение
справедливости, поддержание экологического равновесия могут найти
разрешение лишь в рамках нормативных этических концепций МО.
Пятое. К концу 70-х годов научное сообщество предчувствовало, что в
мировом развитии и международных отношениях назревают не просто новые
задачи, но коренной пересмотр устоявшихся взглядов на те практические
проблемы, в решении которых может и должна участвовать теория МО.
"Второе издание" холодной войны решающим образом способствовало
утверждению уверенности, что дело обстоит именно так. С распадом
ялтинской системы МО, а потом и СССР новые задачи, объективно
встающие перед теорией МО, вышли на авансцену.
Центральная из них, имеющая мощный идеологический подтекст (по-
видимому, именно тут будет в максимальной степени ощущаться
нарастающее реакционное обратное воздействие идеологии либерализма на
политическую науку) - коль скоро признается неизбежность перемен, в том
числе и в МО, то каковы критерии, определяющие отношение к таким
переменам, и как совместить сами перемены (на всех уровнях МО) с
консервацией привилегированного положения ряда членов мирового
сообщества. Неизбежна ли социально-экономическая, иная стратификация
субъектов МО (в практическом плане и в реальном масштабе времени на всю
обозримую перспективу безусловно неизбежна), как далеко может зайти
разрыв в их объективных положении и тенденциях внутреннего развития, и
как обеспечивать в этих условиях международные стабильность и
безопасность, какое вообще содержание вкладывать в эти понятия.
Другая задача, производная от первой, - "управление мирным ходом
мирового развития" (managing peace and development). Суть ее в том, что
если раньше мировая политика вращалась прежде всего (а иногда и
исключительно) вокруг подготовки к войнам, их ведения и политического
оформления их исходов, а соответственно, и теория МО была так или иначе
нацелена на проблемы избежания и/или эффективного ведения войн, то в
условиях современного мира на первый план все более выходит проблема
организации и поддержания мирной жизни человечества. Но если в области
войн в практике и в теории МО накоплен огромный опыт, то по части
практики и даже теории мира имеющиеся заделы выглядят куда слабее.
Положение осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, мир
невозможен без повседневной организации социально-экономической жизни,
особенно без организации развития. Здесь на сегодня есть три комплексных
опыта (социал-реформистский, коммунистический и стран третьего мира), ни
один из которых не осмыслен научно как единое целое, идеологически и
политически непредвзято. Во-вторых, на все обозримое будущее тенденция к
миру на планете будет нарушаться войнами и конфликтами. Не снята в
принципе и угроза третьей мировой войны. Следовательно, необходимо как-
то совмещать (на практике и в теории) нарастающие объемы регулирования
мирной жизни с кодификацией роли и места силы в МО,
институционализацией международных конфликтов, с фактом войн, наконец.
Отсюда, в свою очередь-третья макрозадача, встающая на нынешнем
этапе перед теорией международных отношений. В научной литературе ее
формулируют как необходимость постепенного перехода в
международных отношениях от политики к управлению. Не стихийная
игра слепых сил, будь то внутренних, международных или какого-то их
переплетения; не эффектные сценарии ядерной конфронтации; но все более
осознанный, направляемый и управляемый ход мирового развития - вот что
должна будет в нарастающей мере объяснять и обеспечивать теория МО.
Многие ученые прямо отмечают, что мировое развитие конца XX в.
поставило в повестку дня "вопросы структурной организации"
международной системы. Последняя еще с 60-х годов все более нуждается в
различных видах регулирования и управления, концепции которых до сих
пор нет. Это диктует сейчас необходимость повышенного внимания к
изучению явлений интеграции и дезинтеграции; соотношения суверенитета и
безопасности: отношений социальной среды с природой. Отдельные
концепции на названных и некоторых других направлениях созданы, но пока
нет ясного представления о том, как можно соединить эти концепции в нечто
целостное. Поисками такого соединения, по мнению ряда ученых, и должна
была бы заняться теория МО.
Трудно не согласиться с самой постановкой проблемы постепенного,
но неуклонного смещения центра тяжести от политики к регулированию и
управлению; но здесь сразу же возникает вопрос, чем именно и как
предстоит управлять (и/или что направлять) и кто и как это будет делать в
сфере международных отношений. Оставляя в стороне очевидные
политические сложности проблемы (они лежат вне теории МО), отметим
только собственно научные. Очень многие западные авторы подчеркивают,
что на первое по значению место в МО выходит противоречие между
традиционным для западной мысли пониманием государства как "nation-
state" (неразрывно связанного с наличием "титульной" нации), и все более
распространяющейся в мире самоидентификацией больших социальных
групп по религиозным, этническим, иным признакам - но не по
принадлежности к данному государству. Исследование этого противоречия
стало с рубежа 80-х годов заметным направлением в западных политологии и
теории МО.
Противоречие, на которое традиционные государства отвечают
сопротивлением, и рождает основную массу нынешних конфликтов:
абсолютизация идеи "nation-state" неизбежно ведет к сепаратизму на
национальной почве. Концепция же и практика многонациональных
федеративных государств и интеграции наднационального типа неизбежно
требуют переосмысления теории "nation-state", а вместе с ней и всех
традиционных подходов к пониманию того, что являют собой по сути
международные отношения. Не вдаваясь в детали этой сложной проблемы,
нельзя не признать правомерности постановки вопроса о соотношении
института государства европейского типа XVIH-XX вв. с процессами
трансграничной самоидентификации (и не только с ними), что идут в разных
районах современного мира.
Шестое. Исследования МО в традициях дескриптивного подхода
сохраняют и даже несколько поднимают свое значение, обретая ряд новых по
сравнению с началом 80-х годов качеств.
Прежде всего, описательные исследования строятся теперь на
основании устоявшихся категорий и концепций современной теории
международных отношений, политологии, других общественных наук.
Особенно справедливо это применительно к исследованию конфликтов: ни
одна описательная работа, посвященная конкретному конфликту, просто не
может уже быть написана без опоры на понятийный аппарат конфликтологии
90-х годов. За любым понятийным аппаратом, однако, стоит некая концепция
или как минимум гипотеза. Таким образом, с начала 80-х дескриптивные
работы объективно работают на проверку гипотез, выдвинутых различными
школами и направлениями ТМО в период с середины 60-х до середины 90-х
годов.
В описательных работах последних полутора десятилетий, но особенно
после распада СССР все более присутствует идеологизация: иногда
намеренная, чаще неосознанная, имплицитная. Она не так бросалась в глаза
на фоне работ, выходивших в странах социализма, написанных в русле
марксизма-ленинизма и официальной политики. Теперь же она кажется
назойливой. И с научной, и с политической точек зрения крайне интересно,
как долго эта идеологизация будет оставаться незамеченной самими
западными исследователями.
Еще одна специфическая черта фактологических и описательных
исследований МО -нарастающее засилье в них своего рода "нового
технократизма": если раньше социальные аспекты международных
отношений долгое время вытеснялись и подменялись военными, военно-
экономическими и иными техническими проблемами, то теперь на место
последних часто приходят проблемы экологии и энергетики, которые
начинают рассматриваться как важнейшие на обозримую перспективу
факторы международной стабильности и безопасности. Разумеется, нельзя
отрицать значение этих факторов для будущего мирового развития; и все
перечисленное действительно нуждается в изучении, теоретическом
осмыслении и какой-то интеграции в общую теорию МО. Но международные
отношения по природе своей социальны; мера безопасности в них всегда
производна от социального в широком смысле этого понятия. Следовательно,
и теория МО должна строиться на базе этой аксиомы как центральной.
* * *
Таким образом, понятие "терии международных отношений"
претерпело за последние полвека глубокие содержательные перемены,
пройдя от обозначения первых попыток построения по преимуществу еще
нормативных метатеорий межгосударственных отношений до современного
понимания этой категории - не столько некой единой целостной метатеории,
сколько собирательного понятия, за которым стоит весьма внушительная и
непрерывно расширяющаяся совокупность подходов, методов и методик
теоретического изучения международных отношений и мирового развития
как в конкретных их проявлениях и аспектах, так и как единого целого. Но
что есть объяснение и теория в МО и общественных науках вообще,
продолжает оставаться "вопросами без ответов", прямо связанными с
философией науки и политики. В разработке этих вопросов не появилось за
последние тридцать лет ничего принципиально нового. Складывается
впечатление, что в науке о МО накопились, дойдя почти до критического
уровня, острейшие и наиболее актуальные проблемы философских
оснований современной ТМО, от разрешения которых во многом зависит
будущее дисциплины; и долго откладывать их решение вряд ли возможно.
Тема 3. Международные отношения:
эпистемология и методы исследования
(Введение в теорию)
Задача всякой науки - как минимум объяснять свой предмет, его
отдельные аспекты; как максимум указывать на пути и условия перехода от
объяснения явления, процесса, эффекта к использованию и знания, и стоящей
за ним реальности в каких-то практических интересах человека. Когда
отдельные объяснения, охватывающие более или менее широкий круг
взаимосвязанных явлений и процессов объективного мира, начинают
складываться в некоторую внутренне согласующуюся между собой
целостность, говорят о становлении теории; несколько взаимосвязанных
теорий, имеющие общий объект и предмет изучения, образуют конкретную
научную дисциплину.
Но что значит "объяснение" в международных отношениях?
Какие элементы оно включает или должно включать, каким необходимым и
достаточным признакам соответствовать? Если скрупулезный анализ
позволил нам во всех существенных деталях восстановить и понять
внешнюю политику некоего государства (или даже всех наиважнейших
государств) определенного периода, можно ли обретенное понимание
считать объяснением международных отношений этого периода? Если
можно (на самом деле нельзя!) или, если нам удалось каким-то иным образом
постичь, скажем, международные отношения Средиземноморья 11-1 вв. до
н.э., то насколько правомерно распространять добытое объяснение на другие
регионы и на позднейшие, резко отличающиеся по всем основным признакам
периоды? Каковы критерии, позволяющие определять те временные и
пространственные пределы, за которыми данное объяснение перестает
действовать? Все это применительно к теоретическому исследованию
международных отношений пока вопросы без ответов. Но тогда что такое
"теория международных отношении'"!
Ответы на подобные вопросы всегда лежат на взаимопересечении
объекта, субъекта исследования и познания как единства процесса, средств
и методов, а также результата обретения опыта, понимания, знания и
способности использовать все это в прикладных целях. В данной статье
рассматриваются основы познания международных отношений', объект же
и субъект такого познания характеризуются лишь в той мере, в какой это
абсолютно необходимо для понимания поднятой темы (проблеме МО как
объекта познания будет посвящена следующая статья серии "Введение в
теорию"). Не имея возможности подробно разбирать используемые
философские и психологические категории, автор вынужден адресовать
читателя к соответствующей специальной литературе, энциклопедиям и
словарям.
Из всех качественных признаков МО как явления и особенностей МО
как объекта познания здесь необходимо выделить четыре главных:
во-первых, их протяженность во времени. Как бы ни определять МО
как явление, бесспорно, что какие-то международные отношения
сопровождают человека на протяжении всей известной Истории. Опора МО
нового и новейшего времени - отношения межгосударственные, - по
определению существуют столько, сколько институт государства. Учитывая
столь уникальную продолжительность МО во времени, можно признать их
единым и целостным явлением лишь в том случае, если в международных
отношениях всех времен, континентов, народов будет установлено наличие
признаков, одновременно и всегда присущих МО, неизменно в них
присутствующих, инвариантных; и принципиально важных для определения
природы и сущности МО как явления. Иными словами, социально-
историческая суть МО времен Древнего Египта и современного ядерно-
компьютерного мира должна быть в основе ее одна и та же. Не
аналогичная, в чем-то сходная и т.д., но именно одна и та же: в противном
случае неправомерно будет говорить о целостности МО как общественного и
исторического явления;
во-вторых, выполнить это условие оказывается очень непросто. По
ходу Истории непрерывно развивались количественно, и главное,
качественно, все известные нам компоненты и факторы международных
отношений как явления: личность и общество, экономика и политика,
идеология и наука, культура и религия, военное искусство и все виды
обменов и коммуникации, государство и политические институты и системы,
сами конкретные международные отношения. Но признак развития сам но
себе не является определяющим для МО, поскольку присущ и другим
явлениям общественной жизни и истории. Можно ли, однако, найти нечто
неизменное в развитии, что служило (могло бы служить) одним из
определяющих признаков явления МО? Насколько вообще правомерно
рассматривать как целостное явление нечто, все компоненты и факторы
которого претерпели, продолжают претерпевать глубочайшие внутренние
изменения? Вопросы эти принципиально важны теоретически и
методологически для построения любой теории МО;
в-третьих, во все времена и на всех качественно разных фазах и
уровнях развития МО неизменно существовали, проявляли себя,
эволюционировали и оказывали многообразные социальные влияния как бы
в трех временных плоскостях сразу: как нечто историческое,
надврсменное; как один из важнейших отличительных признаков
определенных эпцхи, периода, социально-исторического уклада; и как весьма
конкретный, уникальный комплекс текущих, современных проблем и
отношений международной жизни и мирового развития. Мало есть других
сфер жизнедеятельности человека и общества, в которых история, эпоха и
сиюминутное переплетались бы столь нерасторжимо в реальном масштабе
времени. Исследователь МО оказывается перед труднейшей
методологической и теоретической задачей: какой бы период МО он ни
изучал, возникает проблема вычленения из этого неразделимого комплекса
отношений "истинно сегодняшних", текущих;
в-четвертых, самостоятельная, теоретически и методологически
важнейшая проблема -пространственные координаты МО. Известно, что
всякое явление непременно существует в некоем пространстве; в противном
случае оно просто не могло бы состояться. Но что может быть признано
пространством международных отношений'1 Если считать таким
пространством неоткрытые, неосвоенные, неподеленные земли, то подобных
территории в мире давно уже нет. Если международные отношения строятся
на том же пространстве, что и внутренние, то каковы критерии различения
первых и вторых? Наконец, если МО протекают в духовном пространстве (во
взглядах, представлениях, культуре и психологии людей), тогда тем более
каковы критерии, позволяющие отграничивать МО от всего остального,
выделять их в особый тип отношений, в специфическое явление?
Ответы на перечисленные выше вопросы в принципе могут быть (и
даются в научной литературе) очень разные. Важно подчеркнуть, что без
каких-то ответов на них не могут состояться ни подлинно научная
методология исследования, ни теория МО.
* * *
Проблема субъекта познания изучается в философии; однако в
приложении к теории МО, насколько известно, даже не ставилась. Но именно
тут (а также применительно к теориям мирового и социально-исторического
развития) проблема эта имеет особое значение. Что именно принимается за
знание; какое мировоззрение служит общей методологической основой
получения и развития знания; что и на каком основании принимается за
доказательство или воспринимается как заведомо не имеющее доказательной
силы; какими представляются людям причинно-следственные связи явлении
- ответы на эти, важнейшие для методологии и теории любой системы знания
вопросы решающим образом зависят от духовно-исторического уровня
развития субъекта познания.
Проиллюстрируем сказанное одним примером. Существует как
минимум два исторически полярных типа сознания (со множеством градаций
между ними): религиозное и научное. Первое приписывает все причинно-
следственные связи проявлениям субъективного, притом высшего начала -
воле Божьей, Провидению. Второе видит комплекс типов причинно-
следственных зависимостей (линейные, вероятностные и много-
многозначные) и задается вопросом, полон ли этот перечень и какие
механизмы "включают" в конкретных обстоятельствах тот или иной из
типов. Религиозное сознание считает "знанием" откровение, приходящее в
моменты религиозного озарения, экзальтации. Причем за доказательство
подлинности откровения принимается сам способ его обретения; факты же
реальной жизни чаще всего не имеют вообще никакого отношения ни к
содержанию откровения, ни тем более к обоснованию или отрицанию его
религиозной истинности (почему и оставались неизменно тщетными псе
попытки "доказать" верующим, что "Бога нет"). В научном сознании статус
"знания" завоевывается многократными подтверждениями опыта и
соответствием аргументации принятой логической системе. Интереснее всего
то, что культуры, даже не дошедшие до появления самого понятия науки,
обнаруживают высокую жизнестойкость и способность справляться с
повседневными задачами (хотя, конечно, нс могут дать промышленного и
духонного развития европейского типа, почему и считаются
"примитивными"). Ясно, что столь разные типы сознания будут совершенно
по-разному воспринимать. объяснять, истолковывать одни и те же МО.
Субъект познания международных отношении как явления не
может отождествляться с отдельным исследователем или даже со всей их
совокупностью, сколь бы многочисленна она ни была. Явление столь
огромной протяженности во времени может изучаться только человеком как
родовой единицей. А потому неизбежен и важен вопрос, как сам человек
менялся на протяжении подобного изучения: качественные перемены в его
психике и сознании, но внутренней организации его мыслительных
возможностей и способностей оказываются в историческом масштабе
времени определяющими для хода и направленности, средств и методов,
результатов и смысла процесса познания. Наиболее значимыми с точки
зрения нашей темы оказываются при этом такие духовно-исторические
характеристики субъекта познания, как присущие ему тип сознания и
структура мышления; диапазон и качество доступных ему ассоциаций; место
и роль, занимаемые в содержании его сознания компенсаторикой и ее
духовными продуктами, а также степень осознанности этого явления.
Тип сознания и структура мышления определяются по шкалам
"дорелигиозное-религи-озное-преднаучное-научное": преимущественно
эмоциональное или рациональное: бесструктурное, художественно-образное
или систематизированное; ассоциативное или логическое.
Диапазон и качество доступных ассоциаций задаются сочетанием
типа сознания и структуры мышления с объемом и содержанием как
собственного жизненного опыта, так и усвоенных знаний. Дело не в
количестве возможных ассоциаций (оно у человека древности могло быть
весьма значительным), но в тех эмоциональных и рациональных связях,
которые при этом устанавливаются, делая более вероятными одни типы,
шаблоны поведения и блокируя, исключая другие. (Так, в Древнем Риме
были все материалы и технологии, необходимые для изготовления
фонографа, который донес бы до нас голос Юлия Цезаря или Брута; не было
и нс могло быть, однако, идеи волновой природы звука, без чего не может
возникнуть и "концепция звукозаписи").
Место и роль компенсаторнки, мера ее осознания субъектом -
производны от типа сознания, структуры мышления, числа и качества
ассоциативных рядов субъекта познания. Психика (индивидуальная и
общественная) не может обойтись без различного рода компенсаций.
Проблема заключается, во-первых, в их относительных объеме, месте и роли
в функционировании соответствующих психологии и сознания; а во-вторых,
в том, сознает ли сам субъект, что какие-то действия (и какие именно) он
предпринимает в порядке психологических компенсаций. Даже наши
современники и даже в личной их жизни не всегда способны отдавать себе
отчет в глубинных причинах своих слов и поступков. В общественных же
психологии и сознании нормой является положение, когда духовные
продукты компенсаторики (идеи, книги, концепции, публицистика,
политические и общественные учения, продукты художественного
творчества и т.д.) принимаются как самоценность, всерьез (для сравнения:
любуясь в музее даже реалистическими картинами художника, мы уже не
воспринимаем их как документальное отражение действительности или как
технический проект; в общественных науках, политике "ван-гог" или
"врубель" сплошь и рядом принимаются пока еще за руководство к
действию).
Естественно и закономерно, что МО как уникально сложный объект
познания открывает богатейшие возможности для проявлений всех духовно-
исторических особенностей субъекта познания. Что, в свою очередь, находит
отражение в содержании и причудах эволюции взглядов на природу,
содержание, развитие международных отношений как явления и как
конкретной системы политических взаимодействий.
Эпистемология - раздел философии, занимающийся проблемами
теории познания:
анализом природы познания как явления, изучением предпосылок
возникновения познания как практического процесса, закономерностей его
эволюции, природы и сущности знания как явления, соотношения познания и
знания, реальности и знания, условий достоверности знания, поисками
определения и критериев того, что вообще следует считать знанием.
Современное понимание знания выделяет в нем прежде всего его
многоуровневый характер и сложнейшую систему связей с реальностью
(объективным, внешним по отношению к человеку миром) и внутренним
миром человека - его психикой и сознанием. Различные уровни знания
включают непосредственный индивидуальный и социальный опыт и опыт
опосредованный, всегда социальный; знания художественные (эстетическое
освоение действительности) и эмоциональные как их основу; донаучные и
научные (последние делятся на эмпирические и теоретические). Никакое
знание к тому же не рождается сразу: ему неизбежно предшествует период
накопления, осмысления информации и опыта, систематизации факторов,
оценок, мнений и взглядов, их неоднократное переосмысление. Все это
сопровождается сомнениями, выдвижением априорных идей,
предположений, концепций, в науке - гипотез. Знание (при всей его
относительности) - продукт этого процесса, продолжительность которого
(от вопроса до формулировки такого ответа на него, который может быть
признан за "знание") определяется прежде всего тем, за какой срок при
данном уровне развития общественного сознания, наличия других общих
познаний, при используемых методах и средствах сбора и оценки
информации может быть получен ответ на поставленный вопрос.
Ясно, что на одни вопросы ответы могут быть получены почти
мгновенно; поиск ответов на другие может занять недели, месяцы, годы; на
третьи - десятилетия и века; четвертые же принадлежат к категории
"вечных". И на протяжении всего времени, измеряемого нередко
продолжительностью жизни многих поколений людей, пока ответов на
поставленные вопросы нет и/или предлагаемые ответы еще не достигли
признания и статуса "знания", бок о бок с полезными наблюдениями,
ценными гипотезами, правильными предположениями, верными
интуитивными догадками и прозрениями существуют гораздо более
многочисленные заблуждения, иллюзии, ложные учения - а главное,
упомянутые выше духовные продукты индивидуальной и социально-
психологической компенсаторики, агрессивности которых нет равных
именно потому, что ее требуют законы психологии. На протяжении всего
этого времени нет или практически нет никаких объективных мер, критериев,
ориентиров, которые позволили бы как можно раньше разделить зерна
истины и плевелы невежества. Кроме того, на протяжении всего этого
времени человек со свойственными ему пылом, энтузиазмом, вдохновением
искренне и истово верует в каждое очередное свое духовное,
интеллектуальное открытие, часто абсолютизирует его, искренне нс
подозревая, что на самом деле оно - в лучшем случае добросовестное
заблуждение.
К теории познания международных отношений все перечисленное
имеет самое прямое и непосредственное отношение. По их социальным
масштабам, продолжительности во времени, по связи с Историей и
основополагающими, принципиальными вопросами теории общественных
наук международные отношения, особенно в последние 250 лет, занимают
уникальное место в духовной жизни людей, в процессах поиска и обретения
знания, в содержании того, что ныне считается знанием и/или является
таковым. Отсюда - теснейшая взаимосвязь политики и философии,
международных отношений и философии. Не случайно с рубежа 80-х годов,
когда стали рушиться привычные, само собой разумеющиеся ранее
представления, многие отечественные обществоведы обратились прежде
всего к философии.
Последняя - особая сфера. Философия - скорее состояние и склад
сознания, разума, нежели знание как таковое. Психология философии еще
ждет своего исследования (подобно тому, как есть исследования по
психологии религии или дорелигиозного сознания). Философия возникает,
когда человек знает уже достаточно много, чтобы быть не только в
состоянии, по и вынужденным задаваться самыми сложными на
достигнутом уровне познания вопросами; но когда имеющихся знаний ч
средств их добывания еще заведомо и далеко недостаточно для
получения ответов на такие вопросы, а потому место ответов
вынужденно занимают гипотезы и априорные концепции макро- и мега-
уровпей пространства, времени и социальных явлений и процессов. Если и
когда такие гипотезы доказывают со временем свою правоту, на их основе
формируются, отпочковываясь от философии, специализированные области
знания - науки. Сама же философия с течением времени все более тяготеет к
превращению в процесс и результат самопознания сознания и психики, в
своего рода науку самопознания. Тем не менее каждая наука неизменно и
сама вынужденно задается подобными же центральными для нее - а потому и
самыми трудными, - вопросами собственных методологии и теории.
Соответственно говорят о философии науки, философии общественных
наук, частью последней можно полагать и философию международных
отношений.
Даже беглый взгляд на историю философии и науки о международных
отношениях обнаруживает, как менялась психология их познания.
Философы античности полагали знание копией предмета и обращали главное
внимание на поиск средств и механизмов "точного" перевода предмета в
такую копию. Их интересовали прежде всего соотношение и взаимосвязь
знания и мнения, истины и заблуждения. Средневековье, долгий период
засилья клерикализма с его верой во всемогущество Провидения отбросили
подобные поиски по причине их не только бесплодности (разрешить
проблемы в античной их постановке было все равно невозможно), но и
реальной вредности: как иначе прожил бы человек долгие столетия,
нуждаясь в ответах, но не имея возможности их получить? Вера в волю
Господню в этих условиях объективно была тем психологическим
механизмом, который раскрепощал повседневное поведение, открывал
дорогу к накоплению опыта и его последующему осмыслению. Но уже с
XVII в. успехи естественных наук возвращают в европейское мышление и
философию поиск "абсолютно достоверного знания". Подобная психология
до сих пор доминирует на уровне бытового и массового сознания.
Рационализм европейской и американской культуры, философской и
общественной мысли сильнейшим образом повлиял на ранние идеи в сфере
международных отношений. Родившись в XVII-XVIII вв. как производное от
"механического" (физика) и "математического" естествознания, став
попыткой прямого переноса психологии и методов естественных наук на все
остальные сферы познания и практики, рационализм сыграл определяющую
роль в становлении рассмотренного нами в первой статье нормативного
подхода к МО - подхода, сохраняющего свое научное и духовное влияние и
поныне.
Между тем в тех же XVII-XVIII вв., параллельно рационализму и как
антитеза ему в европейских культуре, философии и сознании развивалось и
другое направление - эмпиризм, в центре внимания которого оказались
взаимоотношения и взаимообусловленность чувственного и разума,
эмпирического и рационального: проблема логического обоснования (по
существу предпосылок психологической приемлемости) знания; а главное,
значение внутреннего, духовного опыта человека в обретении, содержании,
истолковании знания. Лишь во второй половине XX в., с развитием
информатики, психологии и поведенческих наук долговременное значение
эмпиризма становится признанным и оцененным.
Эмпиристы изначально адресуются к центральному для всех
общественных наук, включая и теорию МО, вопросу: насколько допустимо
методологически и возможно практически распространять на объяснение
"поведения человека" (в самом широком смысле: от поведения отдельной
личности до хода Истории в целом) принципы, подходы и методы, принятые
в естественных науках. Если считать подобное недопустимым, то чем
заменить и/или дополнить такие принципы, чем общественные науки
отличаются от естественных, можно ли считать общественные учения наукой
и что такое вообще наука. Теоретическая и методологическая сложность
заключается в том, что человеку, во-первых, свойственно научение,
способность менять с опытом свои представления и поведение. А во-вторых,
он обычно как-то интерпретирует поведение собственное и других людей и
строит свои действия сообразно такой интерпретации. В сфере МО обе эти
особенности проявляются весьма сложным и причудливым образом, а
потому проблема "что считать объяснением, знанием" стоит тут особенно
остро.
К настоящему времени в философии общественных наук сложились (и
распространяют свое влияние также на филосо4:>ию и теорию МО) три
основных направления в решении этой центральной проблемы
эпистемологии. Последователи рационализма полагают, что следует искать и
в конечном итоге можно будет найти какое-то объяснение (сумму, комплекс,
систему объяснений) поведению человека и всем социальным процессам.
Адепты философии и методологии марксизма доводят эту точку зрения до
крайности и уверенно отстаивают тезис о наличии неких закономерностей
общественных явлений и социально-исторического процесса, хотя на
практике подменяют открытие этих закономерностей нормативным
гипотезотворчсством (по-своему весьма интересным, способствующим
развитию общественной и научной мысли, социально-политической
практики). Последователи же эмпиризма отстаивают необходимость
понимания другого субъекта, его мыслей, действий, поведения - примерно
так же, как актер, входя в роль, стремится представить себе своего
персонажа, понять особенности его психики, мотивы его слов и поступков.
Различие между тремя подходами можно проиллюстрировать па
следующем примере. Рационалист, объясняя возникновение и ход
холодной войны, будет искать причины ее в неких инвариантах системы
международных отношений: геополитических факторах, логике
"политического реализма", балансе сил и т.п. Для него холодная война лишь
один из частных случаев всего перечисленного: таких или подобных им
холодных войн было в истории множество и еще будет не меньше, они
производны от устройства и функционирования самой системы
международных отношений. Хотя, конечно, отличие холодной войны 50-80-х
годов XX в. - наличие в мире ядерного оружия, не существовавшего ранее.
Для марксиста холодная война не более чем проявление социально-
исторических закономерностей, в данном случае материализующихся в
противоборстве двух систем. То есть она выступает как явление,
производное от мирового развития, а нс от системы МО - хотя марксист не
станет отрицать роли всех остальных факторов: системы МО, ядерного
оружия, персональных особенностей политических лидеров стран-
оппонентов. Эмпирист же добросовестно постарается войти в положение
как США, так и СССР, лидеров и элит двух государств и двух блоков,
увидеть события как бы изнутри, глазами каждого из их участников. Для
него, таким образом, холодная война будет единственным и неповторимым,
уникальным эпизодом Истории: другой такой войны нс могло быть раньше и
не сможет возникнуть никогда впредь. Аналогии возможны, точное
повторение исключено в принципе. Самое интересное, что каждый из троих в
чем-то по-своему прав.
Практическое различие трех направлений становится наиболее зримым
и принципиально важным, когда речь заходит о выборе методологии и
методов исследования МО и об отношении к методу вообще как средству
добывания и верификации знания. Сами методы при этом могут быть весьма
схожими или даже одни и те же. Важно именно отношение к ним.
Рационалист боготворит метод, видит в нем единственно возможное и
допустимое для науки средство обретения и проверки истинности знания;
предельно придирчив к чистоте метода и потому предпочитает методы
объективные, количественные. Парадоксально, но по этим самым причинам
он способен легко отказаться от таких методов вообще (если должного, по
его мнению, метода не создано или же применимость метода в конкретном
случае вызывает серьезные возражения) и заменить их нормативным
гипотсзотворчеством, лишь бы в последнем выдерживались требования
формальной логики.
Для марксиста главное - методология, под которой обычно
понимается сплав диалектики, материализма и исторического подхода (в том
смысле, какой вкладывался в эти понятия на рубеже Х1Х-ХХ вв.). Если
"методологии" в его глазах ничто нс грозит, марксист в принципе готов
принять любой конкретный метод исследования, коль скоро его применение
в данном случае обосновано. С середины 70-х годов в бывшем СССР, а ныне
и в КНР (труды одного из теоретиков китайских реформ By Чже) развивается
любопытный синтез марксизма и системного подхода, о научных итогах
которого применительно к теории МО говорить пока преждевременно.
Для змпириста метод вообще нс имеет значения: главное понять
другого, войти в его положение, проникнуться его представлениями,
чувствами, отношением к происходившему или происходящему. Годится
любой метод (включая полное его отсутствие), коль скоро он решает
названные задачи. Для изучения одной и той же проблемы, ситуации одному
ученому предпочтительнее один метод, другому - иной, третьему - какое-то
их сочетание; выбор за самим исследователем, а потому метод для эмпириста
всегда субъективен.
Смысл обращения науки к методу и методологии в том, чтобы по
возможности придерживаться определенных достаточно строгих правил и
приемов, во-первых, исследования изучаемых явлений и процессов: во-
вторых, размышления над итогами наблюдений, опыта и выведения на их
основе неких умозаключении: и в-третьих, пересмотра ранее сформули-
роианных положений и выводов (будь то в сторону отказа от них, их
частичной корректировки или дальнейшего развития). Только наличие таких
правил и их строгое соблюдение делают сравнимыми, совместимыми,
взаимопроверясмыми результаты всего множества отдельных наблюдений,
исследовании, размышлений, открывая тем самым возможности для
формирования пауки как системы выверенного определенным образом
знания, способного неограниченное число раз и с высокой надежностью
обеспечить получение предсказуемых, однообразных результатов своего
применения в сходных условиях. Наличие и использование таких правил
дают также возможность и принципе оценить (иногда весьма точно)
вероятные погрешность или ошибку наблюдения, опыта, эксперимента и тем
самым указать на пределы (диапазон) надежности полученного знания. Если
бы каждый исследователь придерживался во всем перечисленном своих
собственных принципов и правил, человек, конечно, обрел бы набор
разрозненных знаний и представлений (в том числе и истинных), но
целостных наук такие знания бы не образовывали (как не произошло этого в
тех культурах, где наблюдения и размышления над природой мира и вещей
по разным причинам не были своевременно подкреплены формированием
философии как прародительницы методологии).
Имевшее одно время широкое хождение представление, будто каждая
наука имеет собственный метод, возможно, годилось для того времени, когда
количество и наук, и методов было весьма невелико, а междисциплинарные
исследования нс стали еще магистральным направлением развития науки.
Начиная со второй половины XX в., нормой становится положение, когда
каждая наука имеет в своем распоряжении арсенал собственных методов и
при этом расширяет еще ч круг тех, которые может заимствовать для
решения определенных классов задач из смежных (а нередко и очень
далеких) сфер знания. В наше время метод скорее подобен сети,
конфигурация, крепость и размер ячеек которой выбираются в зависимости
от того, на кого предположительно ставится сеть.
Понятие "метода" находится в едином понятийном ряду с такими
категориями, как "метод-методология-мстодика-техника эксперимента
(исследования)". Единство ряда указывает на наличие общностей у всех
входящих в данный ряд понятии: многочисленность же последних - на
наличие также и принципиально важных различий.
Методом принято считать совокупность приемов и операций, при
помощи и посредством которых осуществляется какая-либо конкретная
практическая и/или теоретическая деятельность. Метод проистекает из
практики: соприкасаясь с действительностью, человек задолго до появления
науки вынужден был отыскивать приемы, которые позволяли бы ему
достаточно уверенно получать необходимый или желаемый результат. Метод
опирается на достигнутое ранее и становится исходным пунктом и условием
последующих практических действий и размышлений (нс обязательно
научно-теоретических). Так, уверовав в Бога, человек оказался перед
необходимостью наладить с Ним "рабочие" отношения, а для этого как-то
разобраться, что нравится или может понравиться Богу, а что способно
вызывать Его гнев. Тем самым фактически был запущен процесс познания -
за тысячи лет до того, как он смог привести и привел к появлению
абстрактных мысли и понятий, а позднее и науки. Сумма фактически
использовавшихся человеком методов предшествовала методологии как
учению о методе.
Понимание метода остается весьма широким. О методе говорят
применительно к фазе процесса познания (методы эксперимента, обработки
эмпирических данных, построения научной гипотезы и/или теории,
верификации теории, изложения научных результатов); делят их на
философские и специально-научные; различают качественные
(описательные) ч количественные; подразделяют по типу причинности на
однозначпо-детермипистские, вероятностные, много-лнюгозначные.
Современные науки на определенном этапе своего развития проводят
глубокую философскую и практическую ревизию всех используемых ими
методов, что является обычно принципиально важным шагом в росте
самосознания и самопознания данной науки, се возможностей. Наука о
международных отношениях, резко расширившая с начала 60-х годов
арсенал своих методов, объективно стоит сейчас перед потребностью и
перспективой такой ревизии.
Под методологией в современных науке и теории познания
понимаются, во-первых, учение о системе принципов и способов
организации какой-либо сферы деятельности (как теоретической, так и
практической); а во-вторых, конкретные набор, комплекс, система
конкретных принципов и способов организации данной деятельности. В
последнем смысле одинаконо правомерно говорить о методологии науки, но
и о методологии обучения, политической деятельности, аппаратной работы,
разведки, журналистики и т.д. При этом тот факт, является ли конкретная
совокупность принципов и способов организации данной деятельности
набором, комплексом или системой, служит принципиально важным
указанием на уровни специализации и развития соответствующих сферы или
вида деятельности: набор обычно свидетельствует об этапе ее становления,
система - об уже высокой развитости.
Применительно к теоретическому изучению МО правомерно пока
говорить о завершении в общем и целом формирования комплекса
методологических приемов и средств этой науки и появлении (но не более
чем появлении) первых признаков начинающейся качественной
трансформации этого комплекса в систему. Ранее накопленное знание и
его организация образуют одну из важнейших частей методологии; поэтому
отсутствие у науки се собственной общей теории объективно препятствует
формированию системности методологии этой науки.
Если метод складывался в практике и даже науке стихийно, то
методика - следствие научного осмысления метода как явления, а также
совокупностсй конкретных методов и опыта их использования. Методика
суть искусственно создаваемый (на базе общей методологии и теоретико-
методологических положений конкретной науки) комплекс методов,
предназначенный для решения определенного класса задач (как правило,
особо важных и/или наиболее часто повторяющихся) с тем, чтобы
обеспечить высокую степень стандартизации множества конкретных
исследований во всех их составных частях, а тем самым и высокую
стандартизацию получаемых результатов, определение их вероятностных
характеристик для дальнейшего использования таких результатов в
фундаментальной, прикладной науке и практике.
В области теории МО методик в строгом смысле слова пока нс
существует (поскольку неясны критерии стандартизации), но попытки их
создания предпринимаются давно и целеустремленно. Ближе всего к
методикам в строгом смысле этого понятия подходят исследования, авторы
которых ставят целью выявление объективных, по их мнению,
количественных характеристик явлений международного конфликта и войны
(проект "корреляты войны", осуществляемый Д. Сингером с середины 60-х
годов, и направление "корреляты конфликта").
Наконец, техникой исследования и/или эксперимента называют
обычно совокупность предельно конкретных приемов и методов,
характеризующих данное исследование во всех его частях, а также
специфические средства и способы получения, сбора, обработки ключевой
для данного исследования информации. В таком смысле нет и не может быть
исследования, которое нс обладало бы собственной техникой (что
справедливо для всех работ по теории МО). Уровень развития каждой науки,
однако, диктует свой минимум стандартных требований к организации и
проведению исследования, эксперимента. И в этом смысле эксперимент в
исследовании МО вообще невозможен, а каких-либо стандартов в отношении
организации и проведения конкретного исследования (кроме самых общих,
действующих во всех сферах науки) пока не существует. И это также
подтверждение того, что наука о МО лишь вступает в стадию формирования
своей теории в строгом смысле этого понятия.
Методологическую базу современной науки о МО образуют
общенаучные принципы и положения науки методологии, а также
широкий спектр исторически сложившихся методов, пришедших в
теорию МО как из других наук, так и из практики.
Различают методы формальные и неформальные, причем вторые
стали выделяться как класс методов только с конца 60-х годов, после первой
волны широкого вторжения в науку о МО первых.
Под формальными методами понимают и узком смысле применение
формальной логики и математического аппарата к изучению и/или
объяснению МО в целом либо их отдельных явлений и процессов; в
широком смысле - вообще достаточно дисциплинированное и жесткое
использование в методике исследования четко определяемых понятий и
категорий, понятийных рядов, уровней описания, сравнения и т.п.
Под методами неформальными понимаются те, что обходятся без
перечисленных выше особо жестких самоограничений, хотя и следуют
каждый своим правилам и принципам.
Именно эти методы исторически легли в основу современной науки о
МО. В силу их относительно свободного характера каждая из групп
неформальных методов может включать значительное число более частных
методов и методик.
Ведущее среди неформальных методов место исторически безусловно
принадлежит историко-описательному методу, сущность которого понятна
из названия. Он - основа истории дипломатии, МО и внешней политики
отдельных государств, многочисленных работ по анализу явлений и
процессов текущей международной жизни. Его разновидностью является
политико-описательный метод, по существу часто сводящийся к
реферированию документальных источников. В то же время оба
описательных метода нельзя недооценивать: они дают ту первичную
фактологическую информацию, лишь на которой и могут основываться все
последующие теоретические построения. Ясно, что полнота и качество такой
информации решающим образом определяют ценность ее последующих
анализов и интерпретаций.
+++
Интуитивно-логический и формально-логический методы едины в
стремлении руководствоваться логикой, но отдают предпочтение различным
се видам. Второй, как следует из названия, опирается на логику формальную
(распространенный в исследованиях МО вариант - на логику права). Первый
же руководствуется скорее тем, что на момент проведения исследования
принято считать "здравым смыслом", "само собой разумеющимся" -в науке,
политике, массовом сознании (что не одно и то же и может даже
противоречить друг другу). Этот метод иногда очень трудно отличить на
практике от нормативно-гипо-тезотворческого.
Еще одну группу родственных неформальных методов составляют
операционально-прикладной и аналитико-прогностический. При многих
различиях их объединяет нацеленность на решение прикладных задач и
получение результатов, которые могли бы найти прежде всего прямое
политическое (и не обязательно теоретическое) применение. К
операционально-прикладным можно отнести разные методы анализа
ситуации (простое и включенное наблюдение, изучение документов и
объективных материальных источников. сравнительный анализ); методы
анализа содержания (контент-анализ, анализ событийных данных,
когнитивное картирование), методы анализа вариантов поведения
(имитации, ситуационные анализы, деловые, штабные и стратегические
игры).
Аналитико-прогностические методы нацелены на прогноз более
сложных, чем отдельные ситуации и варианты поведения, процессов и
явлений; динамики международной системы в целом, ее отдельных
географических и проблемных направлений и т.д. Сама прогностика - одна
из наиболее динамично развивающихся сфер методологии, в ней
исключительно много дискуссионного. В последние годы получают
признание и распространение такие интересные теоретические ее
ответвления, крайне важные для изучения МО, как алыпернативистика
(вероятные и/или возможные реально исполнимые варианты будущего),
ретроальтернатиаистика (реально возможные, но упущенные варианты
нрощ--лого). С точки зрения ценности практической отдачи пока лучше всего
зарекомендовали себя сценарный метод (построение сценариев
гипотетического хода развития событий и выдача принципиальных
рекомендаций на случаи материализации каждого из сценариев) и методы
экспертного анализа (мозговая атака, метод "дельфи" и др.).
На стыке традиционных неформальных и широко понимаемых
формальных методов расположился с конца 60-х годов системный подход.
Это направление принадлежит к числу наиболее интенсивно развивающихся
в науке, многое в нем пока остается дискуссионным. Родившись в биологии,
быстро и продуктивно акклиматизировавшись в кибернетике, системный
подход по мере наступления компьютеризации начал агрессивное и в высшей
степени успешное вторжение во все сферы теории и практики, не миновав и
исследования МО.
Явление научной и политической моды распространено нс менее, чем
моды на одежду, виды отдыха или дизайн автомобиля. Благодаря ему в науке
о МО утвердился к настоящему времени широкий спектр понимания
системы: от банального "нес со всем взаимосвязано" до осознанного,
принципиально разного видения разных типов систем. В числе последних
выделяются:
- система как комплекс "взаимодействии в одной
плоскости"(концепции "баланса сил", геополитики);
- система как иерархический комплекс взаимосвязей единого целого
(практический вариант - анализ процессов принятия решений во внешней и
общей политике, государственном управлении, военной сфере, вопросах
безопасности; анализ процессов формирования и осуществления внешней
политики государства и т.д.);
- система как многоуровневый комплекс взаимодействий ряда
(множества) иерархических комплексов-субъектов МО (концепции
интеграции, стабильных структур МО, взаимозависимого мира);
-система как процесс формирования новой иерархической целостности
из относительно более простых (но все же внутренне достаточно сложных)
целостностсч "низших" порядков (концепции мирового сообщества,
"глобальной деревни" и т.п.).
Наконец, сплав идеи системности с концепциями эволюции и развития
естественно и закономерно приводит к постановке проблемы
самоорганизации систем (синергетики) - ее природы и причинности,
движущих сил, предпосылок начала и критических точек ("точек
бифуркации"), в которых зарождаются последу ющис глубокие кризисы,
мутации и трансформации уже существующих систем. Именно тут легко
узнается наиболее важный и потенциально продуктивный "стык" МО (и
теории МО) со сферами внутренней эволюции субъектов МО, их внешней
политики, а также с ходом и промежуточными результатами процессов
мирового развития. Марксистская мысль поставила эти вопросы еще полтора
столетия назад, но нс могла решить их на базе знаний того времени.
Современные общественные науки, и первую очередь теория МО,
возвращаются к их постановке, но уже на принципиально иной
теоретической и методологической основе.
К числу узко понимаемых формальных методов относятся прежде
всего модели международных отношений в целом и/или отдельных их
граней, явлений. Построение моделей считается относительно новым
направлением в методологии и до сих пор принадлежит к числу так
называемых "модернистских", хотя самая первая модель в области МО, до
сих пор сохраняющая свою теоретическую, методологическую и
практическую ценность - модель гонки вооружений Л. Ричардсона, - была
создана вскоре после окончания Первой мировой войны. Построению
моделей принадлежит в теории МО, несомненно, большое будущее,
особенно в сочетании с научными методами построения макрогииотсз,
методами прогностики. Имеющийся в этой сфере опыт свидетельствует -
всякая модель может быть создана лишь на базе соответствующих теории
и/или гипотезы. Корректно выстроенная модель способна в принципе
подтвердить, скорректировать, опровергнуть теорию. Она, однако, нс может
сама по себе такую теорию создать, особенно "на пустом месте" (на что
надеялись отдельные энтузиасты этого метода на стадии его первого
соприкосновения с изучением МО в 60-с годы). Но моделирование (прежде
всего теории игр и основанные на ней методики) показало свою ценность и
полезность в подготовке и обучении кадров, их специальных тренировках.
Чисто количественные (статистические) методы в приложении их
к изучению отдельных областей МО (войны, конфликты; материальный
потенциал государств) пока не дали впечатляющих результатов. Как
отмечается в литературе, связано это с отсутствием общей теории
измеряемых явлений и процессов; трудностями измерения или даже
принципиальной неизмеримостью многих важнейших их характеристик;
сложностью взаимосвязей между внешними проявлениями и сущностными
аспектами явлений и процессов международной жизни.
Тема 4. Явление международных отношений:
историческая эволюция объекта анализа
(Введение в теорию)
С известным допущением правомерна аналогия: международные
отношения сыграли в развитии социальных представлений человека в
истории примерно такую же роль, как взгляд на небо, размышления о
видимой части Вселенной - в становлении и развитии представлений
естественно-научных. Подобно тому, как небо - от "ближнего", обжитого
облаками и птицами, до "дальнего", угадывающегося за еле теплю-щейся
звездочкой, - четко обозначало зрительно доступные человеку пределы его
физического мира, международные отношения (столь же обманчиво с точки
зрения зримости и доступности) являли собой на протяжении всей истории
пределы мира социального. Будучи "рубежным полем" между сегодняшним
реальным, труднодоступным, хотя и осязаемым пределом и таинственной,
неизвестной, но видимой и потому несомненной бесконечностью (своего
рода "запредельем"), небо и международные отношения равно будили мысль,
воображение, фантазии и прозрения науки (как и религий, и идеологий).
Во многом именно поэтому международные отношения как объект
исследования продолжают ускользать от четкого их определения: все
самоочевидное идентифицируется (определяется) и квантифицируется
(измеряется) всегда с наибольшим трудом. Между тем анализ явления
требует прежде всего выделения этого явления из круга других, ему
подобных или с ним смежных - то есть априорного его определения.
Явление имеет системный или несистемный характер, при этом сама
системность бывает нескольких качественно разных типов. Идеи и
представления, отражающие данное явление, также системны (того или
иного типа) или несистемны. В процессе познания из отдельных
несистемных наблюдений, идей сперва рождается гипотеза -по сути "единица
системности" представлений, сама вписанная в некие более широкие
концепции, учения своего времени. После чего начинается длительный и
трудный (обычно неосознаваемый в этом его качестве) процесс приведения
системности представлений во все большее соответствие с системностью
объекта исследования. В случае с МО проблема затрудняется тем, что
интуитивно воспринимаемое явление качественно эволюционирует во
времени, притом особенно интенсивно со второй половины XX в. Тем самым
многократно усложняется задача корреляции системы представлений с
изменяющимся объектом анализа.
Системные природа и характер явления международных отношений не
вызывают сомнений. Научное отображение явления начинается там и тогда,
где и когда в природе, характере, функционировании и/или протекании
явления находятся некоторые константы, инварианты - свойства и качества,
неизменно присущие данному явлению при всех его трансформациях,
неотъемлемые от него. Что служит такого рода константами и
инвариантами применительно к явлению МО и что есть само это явление?
Русскоязычное понятие "международных отношении" существенно
расходится с вроде бы родственным ему "international relations" в английском
- языке, на котором почти исключительно создавались пока наука о МО и
теория МО. В русском языке "международные отношения" в изначальном и
прямом смысле суть "отношения между народами". Но тогда неизбежен
шлейф вопросов принципиального теоретического и методологического
значения: где, как, ради чего и почему могли вступать в отношения друг с
другом именно целые народы; что это были за народы; как такие отношения
строились и осуществлялись практически; какие последствия имели они для
самих народов и мирового, локального социально-исторического развития?
По сравнению с русскими "международными отношениями" понятие
"international relations" (IR) значительно более определенно и контекстуально.
"Relations" тождественно "отношениям". Приставка "inter-" имеет два
значения: "among" ("в определенной группе, социальной среде") и "between"
("между кем-то, кто разделен пространством, чем-то еще, но одновременно и
соединен, сцеплен друг с другом этим разобщающим их пространством").
Слово же "nation" является целой концепцией и в этом своем качестве
означает не "народ" и не "нацию", но определенный тип государства
-мононационального или с доминированием ведущего этноса; государства,
сложившегося в Европе параллельно со становлением капитализма, как
своего рода предпосылка и первый его результат. IR в строгом смысле этих
слов, следовательно, -отношения между государствами вполне
определенного социально-исторического и политико-экономического типа,
притом отношения, складывающиеся и действующие в среде именно таких (а
не иного типа) государств.
Конечно, с течением времени понятие IR в западной литературе
расширилось и ныне распространяется на все многообразие текущих МО. Да
и в русском языке, говоря "международные отношения", мы не имеем в виду
отечественных или иностранных /'челноков", вроде бы осуществляющих
самым непосредственным образом прямые "отношения между народами".
Тем не менее различие двух категории имеет далеко идущие политические,
идеологические, научные последствия.
Если IR - отношения прежде всего между родственными духовно и
социально-политически, экономически государствами, то только такие
отношения и могут быть максимально полными и ценными. Тогда
необходимо или делить государства на "касты" - цивилизованные,
полуцивилизованные, нецивилизованные страны, - причем отношения
первых с остальными строятся на разных принципах и осуществляются по
разным правилам. Между цивилизованными странами все отношения
(включая даже войны) основаны на праве. Между цивилизованными и
полуцивилизованными право действует выборочно, по усмотрению первых.
К нецивилизованным право неприменимо вообще. На таких принципах
основывалось европейское международное право XIX - первой трети XX вв.
Подкрепленная им психология - одна из причин зверств европейцев в
колониальных войнах и в России (считавшейся полуцивилизованной) при
отсутствии таких зверств в войнах внутри самой Западной Европы. Другая,
демократическая альтернатива - добиваться того, чтобы весь мир состоял из
однотипных и равно цивилизованных государств. Но если такой мир когда-то
возникнет, не отомрут ли, не исчезнут ли в нем "international relations"?
Некоторые весьма видные западные ученые склонны полагать, что исчезнут,
уступив место иным (например, межциви-лизационным).
Если же "международные отношения" не связаны жестко с данным
историческим типом государства, то, по-видимому, они существовали до
(возможно, задолго до) появления этого типа и, эволюционируя по
собственным законам, сохранятся как явление и тогда, когда данный тип
государства уйдет на второй план или даже в прошлое. Но тогда
"международные отношения" - не что иное, как конкретный сиюминутный,
реально осязаемый срез мирового развития. В таком случае где граница
между первыми и вторым, в чем общее и различия в содержании каждой из
двух категорий? В отечественной литературе встречается и иная крайность,
например, что МО охватывают собой разные сферы общественной жизни - от
экономических обменов до спортивных состязаний. Правомерен вопрос,
допустимо ли относить к МО транснациональную организованную
преступность? Не размывается ли сама категория МО от столь
расширительного ее понимания? Тем не менее русскоязычная интерпретация
понятия "МО" представляется в научном плане более интересной, емкой и
продуктивной.
За этими терминологическими различиями - трудные поиски и споры
об объекте и предмете науки о международных отношениях вообще, теории
МО в частности. Объект - реальность, существующая независимо от того,
изучает ее кто-то или нет. Что составляет реальность международных
отношений? Что такое вообще реальность в приложении этого понятия к
отношениям - явлению, существующему исключительно в мире субъектов
(между объектами никаких отношений быть не может, как и между объектом
и субъектом)? Предмет же — та грань объекта, которую изучает данная
наука. Какую именно грань какой именно реальности изучает наука о МО?
Очевидно, для ответа необходимо попытаться проследить эволюцию самого
объекта.
Когда возникло явление международных отношений? Или, в иной
постановке того же вопроса, при отсутствии каких необходимых и
достаточных условий, какого комплекса их организации (поскольку одни и те
же условия, но по-разному организованные, обусловливают и различное
качество текущих и исторических социальных явлений) говорить о наличии
явления МО заведомо нельзя (еще или уже), а при наличии каких - можно
хотя бы предположительно? Правомерно ли, в частности, считать
международными' отношениями войны Рима с варварами, завоевания
Александра Македонского, этнофеодальные распри Европы раннего
Средневековья, борьбу русских княжеств, а потом государства Московского
против Золотой Орды? Интуитивно да, правомерно. А войны Афин со
Спартой, междоусобицы скандинавских, германских, англосаксонских,
русских земель и их предводителей? Здесь ответ уже не столь очевиден.
Ключ к нему - объективные обще- и/или внеисторические критерии
признания конкретных явлений и процессов общественной жизни и развития
международными.
Сейчас, когда среднее по численности населения государство
насчитывает порядка тридцати миллионов человек, а крупнейшие подходят к
миллиарду или уже перевалили sa. него, международные отношения
невозможно представить себе как "отношения между народами" в прямом
смысле этого понятия. На древнейших же этапах человеческой истории,
когда очень крупным считалось население в несколько десятков тысяч
человек, напротив, целые народы вполне могли непосредственно
соприкасаться друг с другом и, по-видимому, по крайней мере в некоторых
районах Земли делали это достаточно регулярно. Такие контакты должны
были возникать при сезонных и иных миграциях, массовых бегствах от
стихийных бедствий, при силовых разделах территорий, обменах, просто
случайно.
Первым и естественным результатом таких контактов было для
каждого народа узнавание других. Соприкасаясь с другими племенами и их
отдельными представителями, человек узнавал, что существуют иные языки,
боги, ремесла и умения, иные способы существования и образы жизни. Это
само по себе оказывалось для него величайшим открытием, духовным и
психологическим потрясением. Когда общение с представителями других
племен и народов становится постоянным и шок от первого открытия
проходит, наступает следующая стадия духовного и психологического
развития: узнавание себя. Подобно тому, как отдельно взятый человек узнает
цену себе через мнение о себе других людей, так и каждый народ
вырабатывает самосознание и самооценку посредством сопоставления своих
веры, образа правления и жизни, достижений и неудач с тем, что есть у
других народов. Следом наступает стадия осознанных сравнения и
самоотождествления (индивидуального и коллективного, этнического).
Конкретные элиты и группы начинают задаваться вопросом и как-то
отвечать на него: почему они склонны сближаться с одними народами,
отстраняться от других, активно не принимать третьих. Причин выбора
много: это и характер, образ жизни "других", род их занятий; их
политическое, государственное, иное организационное устройство; боги,
которым они поклоняются; близость либо различие языков, и многое другое.
Немедленные и отложенные последствия выбора не менее многозначны:
принятие новой веры; изменения в общественном устройстве, укладе жизни;
войны на порабощение и уничтожение "неверных", неугодных, неприятных.
И как следствие - исчезновение одних племен и народов, возвышение других,
эволюция культур и цивилизаций. Эти процессы повторялись в истории
огромное число раз: при в целом возраставшей численности населения, на
все более сложных уровнях социально-политической организации народов,
их развития, их духовных представлений, при умножении и усложнении
критериев индивидуального, группового, этнического самоотождествления.
Центральный с точки зрения рассматриваемой темы социально-
исторический итог этих процессов - первый качественный рубеж
становления международных отношений как.явления: первоначальное
разделение всех и всяческих социальных взаимодействий, связей, отношений
на внутренние и внешние. Первые не осознавались людьми как таковые, пока
постоянные и тесные контакты (любого рода) с внешним миром не
заставляли почувствовать и понять разницу между "своим", внутренним, и
"чужим", внешним. Наличие этих особых, пра-международных отношений
выступает на ранних этапах истории общества одним из важнейших условий
становления этнического, а затем и более сложных видов самосознания
социума. Отношения между подобными, еще только начинающими
осознавать себя социумами, однако, суть именно пра-международные в том
смысле, что духовные, физические, прочие границы между внутренним и
внешним еще только (а) формируются, (б) постигаются, (в) начинают
обозначаться. На этом этапе складывается международная жизнь - комплекс
постоянно возобновляемых, все более частых и насыщенных, разнообразных
по формам, каналам, целям, функциям связей между этносами! социумами,
ранее незнакомыми и еще долго остающимися взаимно "чужими".
Часть отношений внутри этого комплекса носит политический
характер, хотя осуществляться может (особенно на наиболее ранних этапах
истории) различными субъектами: главами родов, вождями племен,
шаманами, колдунами, жрецами; в более поздние времена -
священнослужителями. Эта часть образует международную политику, из
которой со временем выделяется новая, специфическая ее сфера - политика
мировая.
Второй качественный рубеж становления явления МО связан с
возникновением института государства. На этом этапе в конгломерат
отношений внутренних и внешних, но равно неформальных, вносится
принципиально новый момент: разделение тех и других на формальные и
неформальные при властном утверждении доминирования первых. Как
внутри данного социума, так и вовне государство стремится к
неограниченной власти. Однако если внутри социума такая цель в принципе
достижима, то вовне главным фактором ее недостижимости становится
историческая ограниченность доступных государству материальных
ресурсов и средств управления. Государство может быть суверенно лишь в
тех пределах, в каких оно фактически дееспособно. Поэтому различие между
внутренним и внешним обретает принципиально новый смысл: внутреннее
суть все то, что безусловно подчинено данной власти (напомню: государство
здесь еще выступает в древнейших его формах);
внешнее - все то, что ей безусловно неподвластно. С этого рубежа
правомерно вести речь уже о появлении собственно МО.
Одновременно складывается и мировая политика: особая сфера
силовой по преимуществу борьбы за установление и/или изменение
фактических норм, процедур и правил, по которым осуществляются на
практике МО каждой конкретной эпохи. Участниками мировой политики
выступают лишь крайне узкие слои высшей элиты соответствующих стран и
народов, реально располагающие властью в своих странах. Народы
результатами своего труда и ратных дел определяют макротенденции и
параметры национального и мирового развития, МО. Слой крайне
малочисленных верхушек властвующих элит определяет зигзаги мировой
политики, "включая" своими действиями одни макротенденции и тормозя,
сдерживая, перекрывая другие. "Мировая" эта политика не по
географическому и/или социальному ее охвату, но лишь в том смысле, что
она служит механизмом поддержания МО своего времени, участия в них
конкретных субъектов, использования ими процессов, явлений, фактических
промежуточных результатов МО.
Таким образом, следующие условия можно полагать необходимыми и
достаточными для признания конкретных общественных отношений в
принципе международными (при рассмотрении таких отношений строго в
рамках теории МО, без привязки их к конкретным исторической эпохе,
периоду, обстоятельствам; без дополнения их политическими,
идеологическими, оценочными, иными критериями и т.д.):
первое - наличие как минимум двух организационно оформленных,
устойчивых в их образах жизни социумов, пра-международные связи
которых уже подвели их к объективному формированию и субъективному
различению внутреннего и внешнего;
второе- наличие внутри каждого из таких социумов явного и в целом
бесспорного, любым образом институционализированного центра власти
(духовного или светского;
наследного или избираемого; абсолютного или такого, за обладание
которым ведется борьба);
третье - наличие между социумами названных типов постоянных
взаимодействий любого рода, постепенно перерастающих в устойчивые
связи и отношения, будь то позитивные (обмены, взаимопомощь) или
негативные (конфликты, войны, завоевания);
четвертое - поддержание и эволюция таких отношений только и
исключительно в сферах (территориальных, идеологических, иных), в
которых ни один из участников этих отношений не обладает полной и
безусловной фактическими властью и/или дееспособностью;
пятое — формирующее воздействие этих связей и отношений на
внутренние духовные и материально-практические состояние и развитие
соответствующих социумов (тоже позитивное или негативное по его
содержанию и социально-историческим последствиям).
Последующие внутренняя эволюция стран и народов, динамика
международных жизни и отношений, мировое развитие в целом шли под
определяющим влиянием явления государственности, укрепления и развития
института государства. Конкретные государства возникали, рушились;
разрастались в колоссальные империи, рассыпавшисся затем на десятки
новых государства. Политические, административные границы государства
бывали четкими или расплывчатыми; могли как совпадать, так и глубоко
расходиться с этническими, языковыми, религиозными, культурными разме-
жеваниями. Международная жизнь заметно усложнилась, в ней постепенно
выделялась особая сфера - межгосударственные отношения, со временем
оттеснившие на задний план, подчинившие себе прочие стороны
международной жизни.
Одновременно сложились, получили мощное развитие, стали все более
значимо цлиять на мировое развитие специфические, ранее не
существовавшие комплексы социальных взаимодействий: "государство и
культура", "государство и цивилизация", "государство и религия
(идеология)". Государство могло вобрать в себя несколько культур. Но
случалось и наоборот, когда одна и та же цивилизация, культура оказывались
представлены несколькими государствами, число которых в определенные
периоды могло измеряться десятками.
Особенно сложные отношения возникли между государствами и
мировыми религиями (идеологиями) после политического становления
последних. Проблема-отношений между институтами государства и
идеологии (частным случаем которой является религия) - вообще одна из
важнейших и интереснейших в истории, особенно в истории МО.
Предполагается, что эта проблема будет подробнее затронута в теме 11.
Здесь лишь назовем, в порядке гипотезы, следующее. По-видимому, по мере
увеличения численности населения и усложнения социальной жизни на
определенных рубежах эволюции, когда исчерпываются ранее возникшие
общественные формы, именно идеологии (а до того — религии)
периодически принадлежит лидирующая роль в выдвижении "моделей
будущего". Попытки осуществить такие модели неизменно заканчиваются в
прямом, механическом смысле неудачей; политически - отстранением
соответствующей религии, идеологии от светской власти. Однако все
рациональное, что рождается в ходе этого процесса жизнью, секуляризуется
и остается не только в истории, но и в светской практике. При этом все
связанные с перечисленным процессы на протяжении длительного времени
оказывают определяющее воздействие на международную жизнь и МО своей
эпохи (что особенно отчетливо видно на опыте политического становления
Европы в многовековой борьбе за лишение Ватикана его светской власти; а
также региональной подсистемы МО постсоветского пространства в
процессе начавшейся с середины 60-х годов борьбы за отстранение
компартий от светской власти в СССР и странах социализма). Однако при
этом отстранение религии от светской власти в историческом масштабе
времени чаще всего не лишало ее духовного, политического и общественного
влияния, хотя меняло механизмы этого илияния, его формы, каналы и
последствия. В международной жизни такие подвижки нередко объективно
подготавливали формирование новых крупных цивилизационных
комплексов.
Несмотря на войны, эпидемии, голод, прочие бедствия, в целом растет
население как отдельных стран, так и регионов, континентов и всей планеты.
Одни только межличностные отношения уже давно не могут обеспечить все
многообразие потребностей общества в связях и управлении. Рождаются
отношения формальные, множатся основанные на них и их осуществляющие
структуры. Борьба между государством и церковью как носителем
идеологии, с одной стороны, и внутри самого государства - между все более
многочисленными элитами за более предсказуемое и надежное
распределение власти - с другой, приводят к ограничению режимов личной
власти и возникновению различных систем конфедерации, федерации,
разделения власти. Это, в свою очередь, мощно стимулирует развитие
социальных институтов.
С открытием в конце XVIII в. эпохи буржуазно-демократических
революций обозначается третий качественный рубеж становления МО как
явления: связанный с появлением нового типа субъектов МО - современных
государства и общества, отличительная особенность которых заключается в
доминировании во всех сферах их внутренней жизни, в том числе в процессе
формирования и осуществления внешней политики такого государства,
больших социальных групп (не только этнических, но и профессиональных,
социально-политических, экономических, иных) и сложных
организационных структур (начиная с монополий в экономике и кончая
самим государством). Подробно последствия этих перемен будут
рассмотрены в теме 5.
Таким образом, с древности и до конца XIX в. в практике МО
выделяются и для этой практики оказываются исключительно значимы
несколько достаточно устойчивых черт общественно-исторического развития
всех стран и народов:
- борьба светских и духовных властей за административный контроль
над обществом, в историческом масштабе времени приведшая в конце
концов к повсеместному возвышению светской власти в лице ее
специфического института - государства;
- абсолютное доминирование в государственном устройстве различных
вариантов режима личной власти, а в повседневной жизни - отношений
межличностных (включая малые группы), что делало внешнюю политику
такого государства решающим образом зависящей от крайне узкого круга
лиц, их личных интересов, взглядов, часто также и патологий (от
психофизиологических до социальных);
- особая роль государства как института, существованием и
деятельностью своими зримо и по существу проводящего четкую грань
между "внутренним" и "внешним"; а также как основного, если не
единственного в этот период субъекта МО (см. тему 7), однако с названными
выше особенностями;
- практически полное отождествление в политической и научной
мысли, в сознании мыслящей части общества международных отношений с
межгосударственными, а последних по преимуществу с военными
кампаниями и дипломатией (суверен, а следовательно, и государство не
снисходили обычно до прямого участия в "чисто" экономических
отношениях, предпочитая перекладывать связанный с ними риск на частных
лиц);
- доминирование в таким образом складывающейся практике
международной жизни и межгосударственных отношений насильственных
форм осуществления этих отношений (войны, конфликты, завоевания,
порабощения и т.п.) при крайне незначительном удельном весе в них
взаимодействий обмена, кооперации, сотрудничества;
- практическая и политическая эффективность насильственных форм
МО: они и только они позволяют государственным образованиям удерживать
собственные территории и население, приумножать свои владения захватами,
эксплуатировать присоединенные или временно контролируемые
территории, служат источником авторитета, славы, мифологизации династий,
режимов, конкретных деятелей, обеспечивая им тем самым поддержку элит и
населения в собственной стране;
- значение внешних связей во внутренних жизни и развитии
конкретных государства и общества проявляется также главным образом
через сферу насилия: экономически позитивно при удачном завершении
военных кампаний (что, однако, не ведет автоматически к позитивным
социальным и духовным последствиям) или негативно, когда данная страна
становится жертвой военных неудач, поражений. За этими пределами, в
обычной повседневности роль внешних связей во внутренней жизни
абсолютного большинства стран и народов мала, почти ничтожна, достигая
высокой значимости только для государств - имперских метрополий. Однако
внешние связи как явление в целом на протяжении истории неуклонно
возрастали по общему объему, по участию в них различных стран и народов,
по значимости для их непосредственных участников и для мирового
развития.
В непрерывной изменчивости международной жизни и факторов, под
определяющим влиянием которых складываются и эволюционируют
международные отношения, можно выделить три уровня констант. Один -
структурный, образуемый исторически накапливающимися слоями
качественных перемен в самой международной жизни. Другой - жизнь
структуры, "технология" ее собственного функционирования вне связи с
социальным, политическим, иным содержанием последнего. И третий -связи
и отношения явления со средой, в которой данное явление (международная
жизнь) возникло и существует.
Первый уровень образуют четыре класса явлений, исторически
вырастающих из международной жизни, определяющих структуру ее и на
нее влияющих: международная политика, международные отношения,
всемирная история и мировое развитие. Между этими явлениями есть как
общее, плоскости соприкосновения, так и глубокие различия.
Международная политика есть часть международной жизни, по
содержанию ее ограниченная исключительно политическими явлениями,
процессами и проблемами. Она в принципе включает: (а) собственно
международные политические отношения определенного исторического
периода, осуществляемые соответствующими времени субъектами; (б) все
случаи международной политизации проблем, отношений, бывших ранее
политическими, но не международными; или международными, но не
политическими; (в) все виды международной деятельности, уже
утрачивающей, но еще не потерявшей окончательно свой политический
характер. Пункты (б) и (в) существенны, поскольку в международной жизни
процессы политизации и/или деполитизации отдельных проблем, вопросов
могут продолжаться десятилетиями и даже веками. Видимо, международная
политика как явление может и будет сохраняться до тех пор, пока будут
существовать "чужие" друг другу социумы, в контактах между которыми
будет присутствовать потребность в решении каких-то политических
проблем, вопросов, отношений.
Международные отношения как явление возникают из триединого
процесса взаимодействия международных жизни, политики и ведущих для
своего времени субъектов последней. На определенном этапе истории из МО
выделяются межгосударственные отношения (МГО). Но, подобно тому, как
появление мировой политики не отменяет, а обогащает политику
международную, возвышение МГО не перечеркивает собой все
международные отношения: со временем можно ожидать усиления роли и
значения иных субъектов и компонентов МО. Как МО, так и МГО по
содержанию не ограничиваются только политикой: она, безусловно,
важнейшая, но всего лишь одна из сфер МО/МГО. Другие включают
международные экономические, военные, иные отношения.
Всемирная история в максимально широком и общем смысле есть вся
совокупность жизненного пути, который прошли до настоящего времени
населяющие Землю народы: по отдельности и все вместе; в их внутренней
жизни, развитии и в отношениях друг с другом; в известных и неизвестных
нам страницах этой истории. В более узком и специальном смысле всемирная
история есть та часть общей, родовой истории человечества, начиная с
которой мир складывается и функционирует все более как единая целостная
система, а не просто как сумма отдельных его частей. Иными словами, это
тот, неизбежно относительно более краткий (хотя в абсолютном измерении
достаточно продолжительный) период общей истории, на протяжении
которого бывшие "медвежьи углы" планеты не просто утрачивают свою
былую изолированность, но начинают взаимодействовать регулярно, в
постоянно растущих объемах, так что даже не желая этого, влияют на
состояние и развитие друг друга неизбежно и значимо. В любом случае
всемирная история производна от международной жизни и ее компонентов;
иначе это была бы история отдельных народов и стран.
Мировое развитие — возможный, но не обязательный аспект и продукт
истории. В широком его понимании МР - одновременно те направленность,
ход и результат общей и всемирной истории, которые предполагают не
просто некоторую совокупность явлений и процессов, не только
определенную последовательность, систему этих явлений и процессов во
времени, но прежде всего изменение их совокупного качества, равно как
внутреннего качества субъектов исторического процесса. Поразительная
устойчивость ряда культур во времени означает, что история как
последовательность событий и состоянии у таких культур есть, истории же
как развития нет или ее ход предельно замедлен. Такое положение возможно
не только в примитивных, но и достаточно высоких общественных формах:
социум по меркам времени может быть развитым, даже высокоразвитым,
но не развивающимся. Связь между развитием отдельных стран, государств,
регионов и мировым развитием сложна, неоднозначна. Высказываются
гипотезы (на наш взгляд, в принципе обоснованные), что все «иды развития
имеют циклический характер, сочетают циклы различных типов, амплитуд и
частот.
Второй, функционально-технологический уровень констант образуют
время, пространство, процесс. Характеристики эти тесно взаимосвязаны и
существуют лишь в триединстве.
Явление времени имеет в международной жизни особое значение. Его
нельзя путать с фактором времени, также важным, но по природе его
субъективным, относящимся к деятельности, намерениям и целям человека,
тогда как явление времени по природе объективно. В МП и МО
непосредственно сходятся, накладываясь и влияя друг на друга, явления и
процессы самой разной временной природы, протяженности. Здесь и
действия личности (главы государства, правительства, партии, движения),
преследующей подчас какие-то сугубо преходящие цели (добиться
переизбрания, ослабить личного соперника). Здесь и события исторически
частные, но имеющие социальное происхождение, значение (крупные удачи
или провалы отдельных партий, движений, начинаний). Здесь процессы,
эволюция которых занимает десятилетия и которые сами становятся видимы
только по прошествии некоторого, обычно существенного времени
(например, вызываемые внутренними причинами эволюционные тенденции
роста/ослабления экономического потенциала, социальной и политической
жизнеспособности, военных и прочих возможностей отдельных государств,
регионов, общественных систем). Еще более долговременны процессы
становления/упадка культур, цивилизаций, смены социально-экономических
формаций. Их полное развитие занимает века и даже тысячелетия; тем не
менее в любой данный момент такие процессы как-то влияют или способны
влиять на течение международной жизни, МП и МО, мировое развитие.
События, процессы, явления международной жизни, сколь бы
быстротечны или длительны они ни были, непременно проходят череду
своего развития: вызревают из неких предпосылок, обретают зримые формы,
достигают кульминации, идут на спад и завершаются и/или переходят в
какое-то иное качество. При этом все они не просто имеют начало и конец, в
принципе измеримые по часам или календарю (то есть хронологическому
времени). Все такие события проходят через некоторую последовательность
состояний, определенную самой природой соответствующих явления или
процесса: время объективное, какое лишь измеряют созданные человеком
системы времяисчисления.
Время-явление (объективное время) суть предельный потенциал
возможных состояний системы (живой и неживой), заложенный в ее
внутренней природе, исчерпание которого приводит к прекращению
функционирования, а тем самым и существования системы. Энтропия
системы при ее "жизни" означает не что иное, как расходование заложенного
в ней (отведенного ей) времени. Чем определяется этот предельный
потенциал и насколько он велик, не столь существенно: даже колоссальный,
он все равно конечен. Любая система по природе несет в себе неизбежность
собственного завершения. И с этой точки зрения объективное время есть
нечто, не имеющее предела вовне и заключающее предел лишь в себе самом,
точнее, в природе данной системы. Бесконечность времени - иллюзия,
порождаемая тем, что в природе и в общественной жизни одни системы
постоянно приходят на смену другим. На самом же деле для исчерпавшей
себя системы время прекращается и никогда нс возвращается вновь.
В международных отношениях и мировой политике, где явления и
процессы имеют самую разную природу и, как следствие этого, на несколько
порядков различающиеся потенциалы протяженности во времени,
необходимо учитывать модуль продолжительности процесса,
определяемого как средняя величина протяженности "типового" процесса
данного класса от одной стадии этого процесса до другой либо от начала
до конца процесса в целом (в зависимости от того, о процессе какой
потенциальной протяженности идет речь). За абсолютный модуль
продолжительности принимается период в 30 лет: в демографии
продолжительность активной жизни человека, средняя граница смены
поколений. Все, что лежит в пределах этого срока, в принципе поддается
предвидению, прогнозированию, влиянию со стороны конкретного человека:
ожидаемые результаты наступят (если наступят) в период его активной
жизни;
человек может как-то ускорить или отсрочить их приход. Все, что
превышает абсолютный модуль продолжительности, неподвластно усилиям
конкретного человека, принадлежит сфере действия закономерностей
социального развития, выступает итогом и средой последнего.
Явление в целом, любые конкретные его формы и частные случаи
всегда жестко привязаны к месту, пространству через район, где
совершаются действия, происходят события; и через расположение их
участников в абсолютной сети координат и относительно друг друга.
Пространственные координаты накладывают сильные и значимые
ограничения на все стороны человеческой деятельности, особенно в
международной жизни, МП и МО, влияя на военные, экономические,
межкультурные и многие иные связи и отношения. Пространство в
социальных, включая международные, отношениях характеризуется
сочетанием трех его аспектов: физических пределов (территории),
социальных масштабов и когнитивных масштабов.
Специфика пространства в том, что у него всегда есть (или в принципе
ему могут быть заданы) внешние пределы, сколь бы велики они ни были в
абсолютном выражении. Всегда существует или может быть представлена
некая граница, которая положит предел данному пространству (но не
пространству как явлению), рассечет, искривит его, видоизменит. Если же
такая граница почему-либо нс возникает, пространство может простираться
теоретически бесконечно. Таково понимание явления пространства в физике,
математике, философии. В этом смысле пространство есть нечто, не
имеющее предела в себе. Ограничить пространство можно только извне него.
В политическом плане это означает, что процесс (внутренний,
международный, духовный, социальный, экономический, иной), однажды
возникнув, непременно будет развиваться в пространстве и во времени, пока
не натолкнется на внешние по отношению к нему ограничения или не
исчерпает питающие его источники (либо то и другое одновременно).
Политическим пространством называется обычно та сфера
жизнедеятельности, которая оказывается фактически включенной, втянутой в
реальные политические процессы. Слова "фактически" и "реальные"
указывают на то, что при определении политического пространства должны
учитываться не только признанные границы государств и союзов,
официально утверждаемые пределы данного пространства, но прежде всего
все то, что практически охвачено соответствующим процессом. Сравнение
фактических политического пространства и его физических пределов с
официально признаваемыми может многое сказать о характере данного
политического процесса, его протекании, вероятных перспективах, а также о
его участниках.
Социальные масштабы политического пространства определяются
тем, какие силы активно участвуют в происходящих на данной территории
политических процессах или же втянуть в них. Чем больше участников, чем
разнообразнее и противоречивее их состав, политическая и практическая
значимость каждого из субъектов, его способности и возможности, тем
(скорее всего) более сложным и продолжительным окажется данный процесс,
тем серьезнее могут быть его последствия. При одинаковых
территориальных характеристиках конкретного международного
взаимодействия его социальные масштабы могут существенно различаться.
Например, сторона, проигрывающая в международном конфликте, нередко
идет на втягивание в него ранее не участвовавших сил, рассчитывая повлиять
подобным образом на течение и/или исход конфликта в желательном для
себя направлении.
Когнитивные масштабы политического пространства определяются
идеями и представлениями, находящимися в политическом обороте на этом
пространстве. Происхождение и содержание таких воззрении могут
варьироваться и взаимосочетаться в широких пределах: табу и мифы,
религиозные взгляды и учения, нравственно-этические оценки, социальные
доктрины, научные концепции, а также повседневные представления,
включая суеверия, предрассудки, псевдотеории, психологические комплексы
и их духовные продукты и последствия. В политику по множеству причин
выносится при этом лишь малая, очень специфическая часть имеющегося в
обществе в любой данный момент, период набора идей. Благодаря этому все
когнитивные компоненты политического пространства международной
жизни в принципе могут быть идентифицированы и описаны.
Международная жизнь слагается из некоей последовательности
событий. Цепь связей внутри этой последовательности может быть и очень
сложной, и предельно простой. Но в любом случае событийный ряд имеет
свои причинно-следственные связи, ннутренние логику и организацию.
Конечно, ряд этот не застрахован от случайностей, но в целом
последовательность событий, будь то в МЖ, МО вообще или в какой-то
отдельной их части, никогда не бывает произвольным их набором. Наоборот,
между отдельными эпизодами и событиями всегда обнаруживается
некоторая взаимосвязь, по-своему закономерная смена состояний "от чего-то
к чему-то", позволяющая рассматривать такую последовательность как
некоторую целостность.
Такое не произвольное, обнаруживающее внутреннюю логику it
закономерности движение некоей сложной совокупности и/или системы
явлении от одного их состояния к другому, в ходе которого происходит
смена состояний одного и того же объекта и/или системы взаимосвязей, в
которую он включен, принято называть процессом. Процесс есть
объективное выражение, материализация хода времени. Выявление
внутренней логики конкретного процесса международной жизни позволяет в
известных пределах прогнозировать его возможную или вероятную
эволюцию.
На политическом пространстве, определенном через единство
территории, социальных и когнитивных масштабов конкретных
политических явлений и тенденций, обычно развиваются, налагаясь и по-
разному влияя друг на друга, процессы четырех типов:
(1) линейные, равномерно-поступательные (когда на протяжении лет и
десятилетий процесс стабильно идет в сторону повышения, сохранения или
снижения каких-то основных его параметров);
(2) процессы волнового или циклического характера (особенно
выражены они в области национально-страновой и мировой экономики, с
разными частотой и амплитудой колебаний, с волнами "правильных" и
"неправильных" форм);
(3) процессы стадийной природы (таковы, например, войны и
конфликты: жизнь цивилизации, как и жизнь человека с ее отчетливо
выраженными качественными этапами);
(4) взрывные процессы, выражающиеся в убыстрении на много
порядков протекания данного процесса, от начала и до завершения его, по
сравнению с процессами "нормальными", "обычными" (таковы, например,
социальные катастрофы и революции).
В международных отношениях крайне существенно различать типы
множества одновременно развивающихся, переплетающихся процессов.
Линейные регулируются обычно соглашениями, договорами, правовыми
нормами, устанавливающими определенные правила соответствующих
действий (ведения торговли, обменов и т.п.).
Циклические процессы требуют способности своевременно
распознавать смену фаз цикла и переходить от одних способов и средств
регулирования к другим. Процессы стадийные предъявляют особью
требования к реализму политиков, их способности понимать, что возможно, а
что в принципе исключено на каждой конкретной стадии процесса.
Взрывные же процессы, обычно не поддающиеся никакому регулированию
(потому они и взрывные), устраивают экзамен общей готовности политиков
и систем, их способности эффективно вписываться в условия
жизнедеятельности.
Третий уровень констант - связи и отношения явления с его средой, -
изначально сложился еще на стадии становления международной жизни. Чем
сложнее явление и его структура, однако, тем более многообразными и
сложными становятся все виды связей и взаимодействий его с внешней для
этого явления средой.
Среда международной жизни в принципе включает три категории:
природно-физический комплекс, внутренний мир субъектов МП и МО с
присущими ему социальными отношениями и создаваемая человеком сфера
его обитания — города, предприятия, инфраструктуры и т.п.
Исторически определяющая роль принадлежала, безусловно,
природно-физическому комплексу. Он оснащал человека всем нужным для
жизни и обменов, устанавливал естественные границы владений и ареалов
обитания, открывал или блокировал пути торговых, военных,
межкультурных связей. Спустя тысячелетия геополитика попытается
теоретически осмыслить этот опыт. Внутренний мир субъектов МП и МО
исками оставался несложен, особенно учитывая почти личностный характер
их государственного устройства и политики. Создаваемая человеком среда
обитания им же разрушалась в непрестанных войнах, а затем воссоздавалась
вновь почти в прежних ее формах. Казалось, третьему уровню констант
международной жизни суждено оставаться малозаметным и
малоосознаваемым.
Однако XX в. внес к своему завершению поистине революционные
перемены в содержание и значение каждой из констант этого уровня - и, как
следствие, в международные жизнь, политику, отношения.
Тема 5. Явление международных отношений:
современное состояние объекта исследования
(Введение в теорию)
Тысячелетия исторической эволюции всех и всяческих обменов и
отношении между племенами, народами, странами, культурами привели к
возникновению явления международной жизни (МЖ), сформировали его
структуру, базовые компоненты, функционально-технологические
внутренние связи, взаимозависимости с внешней для явления средой
(природно-физическим комплексом; внутренним миром субъектов
международной жизни; создаваемой самим человеком сферой его
непосредственного обитания). Возникновение каждого последующего
качественного уровня международной жизни вело к се усложнению, не
отменяя" уровней исторически более ранних. В итоге сложились три
специфических временных и содержательных слоя, каждый из которых
представлен в современной международной жизни и влияет на нее.
В реальном масштабе времени, в пределах абсолютного модуля
продолжительности, и в конкретных трансграничных взаимодействиях
выделяются международная жизнь (все и всяческие взаимодействия за
пределами национальных границ вообще), международная политика (вся
политическая часть таких взаимодействий) и мировая политика (та часть
политической части трансграничных взаимодействий, что имеет в данную
эпоху, период мировое значение).
В социальном масштабе времени (до трех абсолютных модулей
продолжительности) на основе МЖ и названных видов трансграничных
взаимодействий складываются относительно устойчивые международные
отношения, включающие отношения межгосударственные (между особыми
суверенными субъектами) и их политическую часть, отливающуюся в
определенный, данному периоду присущий международный порядок.
Наконец, в историческом масштабе времени, за пределами жизни трех
последовательных поколений людей (более трех абсолютных модулей
продолжительности) из конкретных взаимодействий и более длительных,
имеющих собственную логику процессов и отношений слагаются всемирная
история (вся совокупность событий, явлений и процессов в мире) и мировое
развитие (та часть этой совокупности, которая ведет к и выражается в
качественных переменах и потому не распределена поровну во всем мире, но
концентрируется, особенно изначально, в некоторых центрах развития).
На протяжении тех же тысячелетий в среде международной жизни
минимальной изменчивостью отличался природно-физический комплекс;
фактически происходившие в нем перемены вызывались, как правило,
природными же причинами, и лишь в отдельных случаях деятельностью
человека (вырубка лесов). Центральным и важнейшим звеном эволюции
среды международной жизни десятки веков оставались субъекты МЖ и их
внутренний мир. От распада родовых, межплеменных отношений до
гражданского общества и политической демократии; от охоты и
примитивного земледелия до промышленной революции; от стадного
инстинкта до высот науки, культуры, самопознания - вот масштабы этой
эволюции, длина ее пути, величие результатов.
XX в., особенно вторая его половина, внес революционные
качественные изменения во все аспекты жизнедеятельности человека, ее
масштабы, организацию и, как следствие, в международную жизнь. Не менее
впечатляющей эволюции подверглись вначале создаваемая человеком среда
его обитания, а затем и природно-физический комплекс. Обратное
воздействие итогов этой эволюции на МЖ и ее основные компоненты еще
только начинает проявляться.
Начало XX в. отмечено становлением четвертого качественного
рубежа исторической эволюции явления международной жизни: резким
расширением доступных человеку возможностей, масштабов и пределов
деятельности (в созидании и в разрушениях). Интернационализация
основных направлений, видов жизнедеятельности человека и общества стала
с конца XIX в. и формой проявления накопленных изменений, и механизмом
их осуществления, и их мощнейшим ускорителем.
Предпосылки этого этапа сложились во многом в сфере и через сферу
международной жизни. Колонизация, промышленная революция и
перешедшая через некий критический порог концентрация капиталов
сделали возможным и потребовали широкомасштабного и возрастающего
выхода за пределы страновых рынков, то есть хозяйственного освоения
планеты и политического оформления такого освоения. Естественно,
названные процессы не распределялись равномерно по миру, но
концентрировались в объективно наиболее подготовленных для этого
центрах (ведущих державах). Столь же закономерно, что оформление этих
тенденций изначально пошло по традиционной для международных жизни и
отношений прошлого военной колее.
Интернационализация как явление возникла задолго до XX в., который
лишь поднял этот процесс на особый качественный уровень. Следует четко
различать интернационализацию как историческую тенденцию, и как
явление современной международной жизни.
Интернационализация как историческая тенденция послужила
материальной первоосновой процессов территориальной, социальной,
хозяйственной, политической интеграции. Роды сливались в племена, затем в
народности, народы и нации. Поселения складывались в деревни, городища,
города. Территории объединялись (как правило силой) в княжества. царства,
каганаты, империи; слабейшие из них распадались, уступая место лучше
организованным и более сильным. Мир стягивался воедино одновременно по
трем направлениям: росли, усложнялись и укреплялись внутренне субъекты
МО - государства; одновременно нарастали, развиваясь количественно и
качественно, все виды прямых непосредственных связен и отношений между
этими субъектами; и как следствие всего этого, международные жизнь,
политика, отношения тоже развивались, связывая мир в единое целое по
своим закономерностям и собственными средствами. Со времени, когда весь
земной шар оказался таким образом заселен и поделен, берет начало
всемирная история.
Современная интернационализация выражается не только во все
большем увеличении объемов и разнообразия международных связей и
обменов, распространении их на все новые сферы деятельности (хотя это и
важно). Главный качественный признак современной интернационализации в
том, что она порождает самостоятельные, устойчивые, су1цест-вующие и
действующие во многом уже автономно от государства формы
международных взаимодействий (союзы, соглашения и организации),
проявляется в них, формирует целые направления и области деятельности,
осуществление которых возможно только при международном
сотрудничестве и не иначе. Она приводит к ситуации, когда благополучие и
процветание даже экономически ведущих стран начинают решающим
образом зависеть от внешних рынков и связей (такая зависимость возникает,
когда страна экспортирует более 20% производимого и импортирует более
20% потребляемого ею; десятки стран имеют ныне эти показатели на уровне
35-60%). Иными словами, интернационализация превращает
международную сферу в главный источник стимулов и средств развития
любых стран, государства.
В свою очередь, в современной интернационализации также надо
различать эту интернационализацию как одно из явлений XX в. и
практические ее случаи, процессы в различных сферах отношении и
деятельности; а в интернационализации практической политические и псе
прочие аспекты. Ценность проведения подобных различий в том, что они
позволяют своевременно выявлять периодически вспыхивающие (и
имеющие огромное политическое значение) противоречия между общей
направленностью исторической тенденции на исторической же шкале
времени, с одной стороны, и реальной динамикой конкретных процессов
современного мира. отдельных его регионов, с другой.
Конкретно-практическая интернационализация происходит всегда
неравномерно и способна в отдельные, измеряемые годами и двумя-тремя
десятилетиями периоды создавать у исследователя, политика или
общественного мнения ощущение торможения, стагнации, движения вспять.
Подобное впечатление, в свою очередь, может продиктовать политические
решения и поведение, которые уже всерьез затруднят ход
интернационализации, ее развитие в каких-то направлениях или сферах.
Меняются средства интернационализации, ее движущие силы: если ныне она
идет под влиянием преимущественно экономических и научно-технических
причин, то в прошлом чаще двигалась факторами военными, военно-
экономическими. Меняются и сферы, где процессы интернационализации
проявляют себя наиболее сильно и значимо: с развитием производительных
сил, экономических связей, технологий, науки и техники одни из таких сфер
теряют значение, прекращают существование, их место занимают новые.
Ни исторической шкале отсчета времени, однако, колебания и
неоднозначность процесса интернационализации, чередование "полос" се
относительно бурных проявлений, интенсивного наращивания се масштабов
и значения с периодами затиший и, внешне, отступлений предстают как в
целом естественное протекание циклического по природе процесса. Каждое
временное замедление или отступление в динамике и содержании
конкретных процессов интернационализации позднее оказывалось периодом
закрепления в пределах некоторых территорий, сфер деятельности неких
достигнутых ранее тенденций, отношений, итогов. Иными словами, то, что
внешне предстает как торможение реальных процессов
интернационализации или даже их отбрасывание вспять, на деле является не
механическими откатами в целом (хотя нередко может сопровождаться
откатами по отдельным параметрам), но периодами закрепления ранее
достигнутых сдвигов; и как правило (но нс всегда) обеспечивает внутреннюю
консолидацию явления перед началом какого-то нового этапа его развития.
Причины приливно-отливного движения интернационализации - в
природе процессов, которые "седлает" она в каждый данный период: и том,
что собственные амплитуды и частоты циклов этих процессов различны.
Максимальных величин они способны достигать в политике, что связано с
особенностями функционирования таких мегамасшабных структур
социальной мотивации, как общество и/или крупнейшие его подсистемы.
Опыт показывает, что, как правило, объективное (через сложившиеся
внутренние, внешние, международные условия) и/или субъективное
(намеренными акциями) политическое противодействие
интернационализации, чем бы оно ни диктовалось (соображениями
безопасности, конкуренции, противостояний, т.п.), рано или поздно
сменяется спазматическими приливами интернационализации, которые
вызываются как политическими прорывами, так и/или назревшими и
императивными экономическими, технологическими, иными причинами.
В XX в. тенденции интернационализации впервые заявили о себе
явлением мировых войн, вскрыв п последующие десятилетия одно из
центральных противоречий мира XX столетия: неадекватность военных
средств и решений радикально изменявшимся условиям, характеру
надвигавшихся задач. Нараставшая сложность, а позднее целостность и
взаимозависимость мира делали цену социальных и международных
импровизаций все более высокой, доведя ее к последней четверти века до
неприемлемой. Тем самым новая среда международной жизни, еще только
формировавшаяся, уже начинала объективно диктовать требования
предсказуемости внутренних и международных процессов, максимизации
гарантий получения желаемых результатов.
Война - процесс, веками эффективный, в целом оправдывавший себя
как политический аргумент, инструмент власти и обогащения. В XX в. ни
одна из войн не закончилась так. как желали агрессор или инициатор войны
перед ее началом; большинство увенчались итогами, прямо
противоположными тем. что ожидались инициаторами войны.
Так, Первая мировая война привела к краху австро-венгерской,
российской, германской монархий; итогами Второй мировой войны стали
крах колониализма, утрата великими державами Западной Европы их
прежних места и роли в мировой политике. Войны Франции и США в
Индокитае, Португалии в ее колониях, СССР в Афганистане не принесли
военной победы сторонам, имевшим многократное силовое превосходство,
но вызвали болезненные и значительные перемены во внутренней жизни
этих государств. Подобных итогов не предвидели, не хотели и не могли
хотеть политические силы и государственные деятели, непосредственно
принимавшие решения о начале войн.
В международной жизни, более чем где-либо, необходимо видеть
различия между происходящими в мире процессами, их результатами,
последствиями и итогами. Процесс, его системные (закономерные,
неслучайные) итоги (последствия немедленные, зримые, измеряемые на
определенный момент времени) и последствия (отложенные, более
долговременные и не всегда однозначные следствия) объективны.
Отношение людей, социально-политических сил, государств к итогам и
последствиям неизбежно субъективно. Результат же есть следствие
продвижения к осознанно преследуемой цели. Поэтому результат процесса, в
том числе войны, есть субъективная оценка объективных политических,
экономических, иных последствий данного процесса с .позиций интересов,
устремлений, меры одержанного успеха тех или иных социально-
политических сил, структур, субъектов МО.
При достаточно протяженных войнах промежуточные последствия и
итоги часто резко расходятся с окончательными, краткосрочные - со средне-
и долгосрочными. Войнам, особенно масштаба мировых, предшествуют годы
и десятилетия подготовки. На протяжении этапов вызревания, начала,
ведения и завершения войны, политического оформления ее итогов интересы
и цели участников меняются, иногда неоднократно. При некоторых условиях
субъекту могут навязываться такие задачи, цели, понимания интересов,
которые сам он не выбрал бы, постарался избежать, не предвидел на ранних
фазах процесса. В обстановке войны, (пред) военного времени цели и задачи
страны формулируются и отстаиваются гораздо жестче, чем в условиях мира.
Война беспощадно выявляет реальные, действительные устремления и
возможности ее участников. В мирной жизни все это, как правило, бывает
"размыто": процесс нормальной мирной международной жизни значительно
более масштабен, всеобъемлющ, многозначен, нежели война. Современная
война небывало капиталоемка и разрушительна даже при ведении ее
неэкзотическими техническими средствами. Но гарантии желаемого исхода
(за пределами отдельных операций) она не дает и дать не может. Вот почему
войны конца XX в. начинают тяготеть к ограниченным военным операциям
прогнозируемых и управляемых масштабов (типа операций "по
принуждению к миру").
На протяжении последнего полувека впервые в истории сложился
также комплекс специализированных и прикладных наук и дисциплин,
сделавших МО, другие общественные отношения объектом и предметом
исследований. Наука прочно утвердилась как профессиональный.
социальный и политический институт, стала неотъемлемой частью
системы принятия государственных, политических, военных и иных
стратегических (например, корпоративных) решений как минимум в
наиболее развитой части мира. Фактически место науки в политике и
деятельности государства является ныне одним из ключевых факторов и
показателей принадлежности страны к числу тех наиболее развитых
государств, что определяют направленность, тенденции и темпы всей
международной жизни. Под воздействием перечисленного происходят
значимая эволюция взглядов на важнейшие проблемы международной и
внутренней жизни и как следствие, эволюция политической практики.
Принципиально важный вывод, обретенный на опыте, прежде всего,
войн XX столетия, заключается в том, что последствия и итоги,
складывающиеся в разных сферах и областях международной жизни в
определенный период или к определенному рубежу, носят неизменно
промежуточный характер. Такие итоги непременно изменятся, вопрос
лишь, когда, как это произойдет, на каких конкретных направлениях
обозначатся новые тенденции. Отныне более чем когда-либо хорошая
позиция, которую со временем можно развить в стратегические
преимущества, становится в международных жизни и политике гораздо
ценнее, особенно с учетом перспективы, нежели получение крупного, но
разового выигрыша. Создание, удержание, развитие таких позиции
возможны только в контролируемой среде (которой требуют также и
экономика, инфраструктуры, технические, информационные системы).
Война такую среду не создает, но разрушает. Потребность же в этой среде
существенно меняет психологию соответствующих субъектов МО.
В центре новой психологии ведущих субъектов МО - отказ о/и идеи и
цели статус-кво в международных и внутренних отношениях, замена ее
идеей и целями направляемых и контролируемых перемен (orderly change).
Попытки зафиксировать статус-кво, сохранять его любой ценой приводят
рано или поздно, но неизбежно к взрыву и катастрофе, что блестяще
доказано опытом Священного Союза в XIX - начале XX вв. и Союза ССР под
занавес XX в. Опыт цеплявшихся за статус-кво имперских стран Европы
оказался и во внутреннем, и в международном планах столь же
катастрофическим, как и попытка коммунизма "великим скачком" обогнать
Историю и построить некий идеальный, но основанный также на статус-кво
(лишь содержательно ином) мир в отдельной стране и во всем мире. Коль
скоро перемен в любом случае не избежать, целесообразно стремиться их
направлять, а иногда и подстегивать, форсировать, инициировать. Бесспорно,
со временем и этот подход принесет в МО свои проблемы.
Другой принципиально важный вывод касается изменившегося под
влиянием экономических теории и практики отношения к кризису вообще,
социальным и международным кризисам в частности. Явление кризиса
рассматривается не как признак надвигающейся катастрофы (от которой
необходимо спасаться как можно скорее любой ценой), а как нормальная,
неизбежная, при разумном, ответственном отношении к ней - полезная и
необходимая фаза циклического процесса, будь то в экономике, социально-
политической или международной сферах. Кризис закладывает предпосылки
последующих перемен, витков роста, эволюции, развития. Без таких
предпосылок очередная циклическая фаза процесса наступить не может;
следовательно, явление кризиса (сопряженное с рисками) объективно
выполняет важнейшую функцию открытия пути к переменам (в том числе
желаемым и контролируемым) и выведения эволюции на этот путь. Тем
самым международный кризис при условии его контролируемости
становится (может стать) одним из важнейших средств направляемого
развития мировой политики. МО. История XX в. "вылеплена" кризисами - от
национально-страновых революции до мировых войн и распада СССР.
Функции и роль кризиса объективны, нужно лишь освоиться с ними в
международной жизни так же, как это давно сделано в экономике (именно в
этом смысле и говорят об "управлении кризисами").
Еще один практически и научно значимый вывод из опыта войн и
социальных потрясений XX в. связан с предыдущим и состоит в том, что для
оказания серьезного, устойчивого, надежного по получаемым результатам
воздействия на крупные и крупнейшие социальные, иные процессы, их
направления в желаемое русло, для управления ими в такие процессы
необходимо эффективно включаться, а не стремиться оставаться от них в
стороне. Международная (и иная) стабильность возможна лишь как
прогнозируемый процесс направляемых и ожидаемых перемен и только для
участников таких перемен; для всех остальных подобный процесс может
выглядеть стабильным лишь в смысле их постоянного аутсайдерства.
Самоисключение из международной жизни и важнейших се процессов
возможно только ценой утраты роли, веса, места страны в мировых
экономике, политике, развитии.
Особый теоретический и практический интерес представляют те
случаи и периоды, когда большое число разнохарактерных процессов,
взаимоналагаясь и многократно усиливая друг друга и производимый
совокупный эффект, порождают явления своеобразного исторического и/или
социально-политического резонанса. Внешне это выражается в том, что
неожиданно для современников на территории отдельного государства,
группы стран, региона, мира в целом наступает полоса необычайно крупных
по масштабам, глубине и значению, интенсивных, быстротечных перемен -
иногда в сторону расцвета и благополучия, иногда в сторону провалов,
потрясений, кризисов. Формы таких перемен многообразны: от гражданских
войн, революций до миграций, промышленных и технологических
переворотов. Природа и механизмы подобных социальных резонансов
теоретически пока изучены крайне слабо. Но именно в эти, обычно весьма
непродолжительные периоды происходят взрыооподобное становление
нового качества глобальной и/или региональных систем МО, другие
принципиального значения и весомых долговременных последствий сдвиги в
международной жизни.
Во второй половине XX в. возникает качественно новое явление
международной жизни - глобализация. Суть его - в обретении отдельными
государствами, другими субъектами международных жизни и отношений
возможностей и потребностей осуществлять какие-то или все основные
функции своей жизнедеятельности в масштабах земного шара
(территориально), мировых экономики и политики. В последней одним из
проявлений и следствий глобализации стало с конца 60-х годов явление
сверхдержавности: появление в одной или нескольких областях,
направлениях глобальной деятельности государств, по их потенциалу и
возможностям на порядок и более опережающих в этих сферах ближайших
конкурентов. Изначально сверхдержавность заявила о себе в военной сфере -
ракетно-ядерной конфронтации СССР-США. Однако с распадом СССР
правомерно ожидать распространения явления сверхдержавности на другие
области, прежде всего, на экономику, финансы, социальные и
технологические нововведения.
Интернационализация и глобализация тесно взаимосвязаны, во многом
взаимообусловлены, но не тождественны друг другу. Первая предполагает
выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные рамки; или же
объединение действий нескольких субъектов мировой экономики, политики
вокруг общих задачи, цели, вида деятельности, предприятия.
Интернационализация не универсальна по охватываемым субъектам и
пространству, не обязательно вовлекает всех или почти всех участников
международной жизни. В каких-то случаях она может достигать (и
достигала) подобных масштабов. Но гораздо чаще и намного эффективнее
она происходит на региональном уровне и/или в приложении к i отдельным
сферам, видам, направлениям деятельности. Конкретный ее случай по типу и
характеру участников, по видам и объемам их деятельности может иметь
сугубо локальное значение и оставаться практически незамеченным в МО;
тем не менее он тоже будет одним из множества проявлений процесса
интернационализации.
Глобализация в качестве главного ее признака предполагает выход
какой-то проблемы или деятельности непременно на глобальный
(общемировой) уровень. При этом такая деятельность не обязательно должна
быть интернациональной по составу участников. Она может осуществляться
одной страной, организацией, фирмой (при условии, что те располагают для
этого соответствующими возможностями). В таких случаях обычно говорят о
глобальных державе, политике.
Явление интернационализации существует на всем протяжении
истории человечества. Меняются его конкретные формы, направления,
сферы, масштабы, последствия. Но сама интернационализация (выход неких
процессов за изначально внутристрановые их рамки) остается. Явление же
глобализации возникло только во второй половине XX в.
Интернационализация не приводит к размыванию, исчезновению ее
участников (хотя способна со временем приводить к изменениям отдельных
значимых их характеристик и признаков). В исторической перспективе она
порождает новые, более сложные формы общественной организации, как
внутренние, так и международные. Долговременные последствия процессов
и явления глобализации с этой точки зрения пока неясны.
Интернационализация создает новые центры влияния, координации,
регулирования; множит источники силы и власти: в ней заключено мощное
демократизирующее начало. Глобализация несет начала централизации,
подчинения, авторитаризма. В совокупности два явления отражают
противоречивую природу современных экономики и политики, объективно
требующих сочетания и взаимодополнения авторитаризма и демократии (а не
выбора в пользу чего-то одного) и всегда заключающих в себе гены того и
другого.
Интернационализация всех сторон жизнедеятельности человека и
общества имела последствия, выходящие далеко за рамки традиционно
рассматриваемых в связи с ней экономических отношений. В самом общем
виде перемены эти можно просуммировать следующим образом.
1. Начавшаяся еще в XIX в. промышленная и развернувшаяся с рубежа
60-х годов нашего столетия научно-техническая революции не просто
открыли перед человеком невиданные возможности прогресса и достойной
жизни. Становится все очевиднее, что главный итог обеих революций -
создание к рубежу третьего тысячелетия искусственной среды обитания
человека - техносферы, опирающейся на современные отрасли науки,
промышленности, инфраструктуры, формы производства и распределения.
Техносфера в процессе своего функционирования все более выходит за
исторически сформировавшиеся политические и административные
государственные границы, интегрируя хозяйство, коммуникации, инфра- и
организационные структуры различных стран.
2. Техносфера втягивает в оборот беспрецедентные территории, массы
людей и материальные ресурсы. Она не может существовать без
ежедневного "питания" ее огромными объемами энергии, информации,
сырья; строгого соблюдения технологий материального производства и
функционирования общества в целом, включая его политические и
государственные структуры. Серьезный сбой в одном из звеньев цепи
рождает шлейф последствий в системе в целом, подчас крайне далеко
(социально, структурно, географически) от точки начального сбоя.
3. На этой основе формируется все более взаимозависимый и
целостный мир, причем особенно ускоренно в последние 20-25 лет.
Целостность не означает ни гармоничности этого мира (в нем крайне много
противоречий); ни того, будто он управляется (или должен управляться) из
некоего единого центра (это пока технически невозможно, не говоря о
препятствиях ценностного и политического плана). Целостность мира в том,
что взаимодействия в нем приняли системный характер, когда мало-мальски
серьезные сдвиги в одной части мира неизбежно дают отзвук в других его
частях, независимо от воли, намерений участников таких процессов. Еще в
начале XX в. мир был иным: кризисы, катастрофы, войны в одних его частях
могли оставаться без последствий и незамеченными в других.
4. Наиболее развитые в промышленном и иных отношениях страны и
регионы, объективно выполняющие роль центров жизнедеятельности
современного человечества (Европа, Северная Америка, Япония) даже при
желании не могли бы вернуться к традиционным хозяйствованию и образу
жизни ("переехать из города в деревню") без тяжелейших для себя
социальных последствий: для этого там просто нет свободных территорий и
ресурсов. Поэтому вокруг центров техносферы начинают объективно
складываться концентрические круги стран и регионов, выполняющих по
отношению к ней функции поддержки и обеспечении энергией, сырьем,
кадрами; зоны, в которые выносятся вредные или сопряженные с
перемещением особенно больших масс производства. За этими пределами
лежат пространства, тсхносфере (пока?) не нужные, нс имеющие
непосредственного значения для ее функционирования.
5. Техносфера объективно требует отказа от архаических форм.
средств и методов регулирования социальной жизни в пользу научно
обоснованных рациональных критериев управления, развитой системы
обратных связей, высокого профессионализма исполнителей. Однако,
сталкиваясь с исторически сложившейся системой социальных связей,
отношений и интересов, эти требования находят выход и выражение в
унаследованных в основном от прошлого общественно-политических и
идеологических когнитивных системах. Во внутренней жизни стран распад
авторитарных форм, вытеснение их политической демократией, автономиями
и самоуправлением, сами по себе прогрессивные, часто объективно
открывают пути усилению сил консерватизма и реакции. В международной
жизни этот же по сути процесс выразился в распаде колониализма,
утверждении политического и правового равноправия народов и государств,
в образовании системы международных органов и организаций,
регулирующих различные стороны отношений между государствами,
другими субъектами мировой экономики и политики. В целом как во
внутренней, так и в международной жизни политика как стихийное
столкновение социально-исторических сил все заметнее теснится началами
сознательного, целенаправленного, рационального регулирования,
основанного на праве, институциях и знаниях. пока при доминировании в них
консервативного социального содержания.
6. Относительная нормализация повседневных условий жизни,
ограничение масштабов и вытеснение крайних форм насилия, успехи
сельского хозяйства, медицины, социальных программ (в том числе
международных) привели к резкому росту численности населения. За
последние 40 лет XX в. суммарный прирост населения Земли был таким же,
как за предшествующие 500 тыс. лет. Нс всегда осознается, что выживание и
тем более благополучие и развитие человечества напрямую зависят от
стабильного, социально эффективного в мировых масштабах
функционирования техносферы. В определенном смысле ее центры
(промышленно развитые страны) принадлежат уже не только себе, но всему
миру. Это означает, что современное человечество физически не сможет
выжить, полагаясь лишь на стихийные механизмы регулирования социально-
исторического процесса, центральных его направлений и компонентов: ни
при эгоистическом использовании техносферы лишь в интересах "золотого
миллиарда", ни в случае ее революционного и/или техногенного
(само)разрушения. Техносфера - основа выживания всей планеты,
возможного лишь через сохранение, укрепление, развитие, повышение
эффективности техносферы и всех механизмов регулирования, включая
международные.
7. Вопреки всем воинам, революциям, конфронтациям (во многом
диалектически благодаря им) международные отношения на протяжении XX
в. обнаруживали устойчивую тенденцию все более превращаться в особую
область регулируемых общественных отношений: единственную,
субъектами в которой выступают сложные социальные образования,
обладающие собственной внутренней организацией и структурой. От
создания Версальской системы, через Лигу Наций, ООН, комплекс
международных финансовых (МВФ, ВБ, МБРР, ЕБРР) и экономических
(ГАТТ/ВТО) институций, региональные структуры (ЕЭС/ЕС, ОБСЕ, ЛАГ.
ОАЕ и др.) до неформальных "клубов" и G7 возрастала регулятивная
компонента мировой политики и международных отношений. Содержание
МП и МО все более перемещается со стихийной борьбы, основанной на
праве сильного, к функциям координации, согласования, а для этого - к
отказу от исключительно военно-силовых форм и средств и их постепенному
дополнению и замещению нормами международного права, функциями и
процедурами международных организаций, неформальными
договоренностями на высшем уровне.
8. Однако в целом регулятивный потенциал современных МО все более
отстает от потребного. Прекращение конфронтации, избавление от угрозы
глобальной ракетно-ядер-ной войны с особой силой выявили практически
почти полное отсутствие в современном мире надежных, эффективных и
демократических международных механизмов, способных обеспечивать
силовое (при необходимости) поддержание принятого регионального и
международного порядка, динамическую стабильность международной
жизни, направляемый и контролируемый ход перемен. Олигархический
характер мирового порядка конца XX в. со временем чреват возможностью
серьезных дестабилизирующих последствий. Пока неясно, в какой степени
"полюса" многополярного мира готовы будут пойти на налаживание
действительно демократических институтов регулирования международной
жизни и получат в этом поддержку иных слоев мирового сообщества.
Современный акцент на темах отделения, самоопределения, суверенитета и
т.п. делает вероятной опасность того, что отставание регулятивного
потенциала МО от потребностей в объективно необходимом
регулировании может в обозримом будущем (в перспективе до 15-20 лет)
стать одной из центральных угроз международной стабильности и
выживанию человека.
9. В результате создания техносферы и под ее воздействием масштабы
хозяйственной и иной деятельности человека стали таковы, что уже
оказывают огромное разрушительное воздействие на природу.
Долговременные последствия этого неясны, но тревожны. Техносфера
вовлекает в оборот такое количество материальных ресурсов, в том числе
невозобновляемых или возобновляемых чрезвычайно медленно, что уже в
2010—2050 гг. человечество может испытать нехватку ряда жизненно
необходимых ресурсов. Человек впервые вынужден осознать, что Земля
есть космический корабль, потенциал жизни (отведенное время) на
котором небеспредельны, и надо думать о рациональном их расходовании и
о будущем, которое неизбежно потребует широкого хозяйственного выхода
человечества в Мировой океан и в космос.
10. Идеология устойчивого развития (sustainable development)
привлекательна по целям и как идеал, но (как и всякая идеология)
неопределенна по путям и средствам достижения поставленных целей. Она -
первый ответ мирового сообщества на бесспорный и пугающий факт резкого
и глубокого дестабилизирующего воздействия человека на природно-фи-
зический комплекс. Вместе с тем уже сейчас очевидно и в целом признано,
что возврат к прежнему экологическому балансу невозможен, а установление
нового потребует в качестве условия и предпосылки коренных перемен не
только в технологиях, но образе жизни, социальных ожиданиях, во всем
устройстве общества и мира. В обозримом будущем мировая политика и
международные отношения станут ареной политических столкновений по
проблемам, вызываемым к жизни растущими масштабами последствий
влияния всей деятельности человека на природно-физический комплекс.
Вес перечисленное - не завершившиеся процессы, но более или менее
проявившиеся тенденции. Развиваясь циклически, со многими взлетами и
падениями, они, однако, уже рождают собственные итоги и последствия,
оказывают растущее влияние на характер и динамику МП и МО конца XX -
начала XXI вв. Можно выделить как минимум семь групп такого рода
последствий для международной жизни.
Первая — принципиальное изменение значения международной сферы
для внутреннего развития государств и народов, и в итоге глубокая
эволюция связей между внутренней жизнью государства, общества, и
факторами, влияющими на страну и ее развитие извне. На ранних этапах
истории участие в международной жизни было необязательным дополнением
к жизни внутренней. Войны, агрессии могли существенно помешать
внутреннему развитию. Но за этими пределами внешние причины редко
выступали постоянным и значимым фактором внутренних жизни, эволюции.
Десятки племен, народов и стран существовали в (почти) полной изоляции от
внешнего мира, обходясь внутренними ресурсами и добиваясь при этом
неплохих для своего времени результатов. Так продолжалось веками.
К заключительной трети XX в. сложилось принципиально новое
положение: ни одна страна не имеет и не может иметь серьезных
перспектив развития, не участвуя активным образом в международных
материальных, информационных и культурных обменах. Более того, ни одно
из наиболее развитых государств не смогло бы сохранить достигнутые
уровень, качество и образ жизни, социальную и политическую стабильность,
место и вес в международной жизни, не участвуя энергично и эффективно в
процессах интернационализации. Мир конца XX в. характеризуется
насыщенной, плотной структурой трансграничных связей практически во
всех областях, прежде всего в имеющих ключевое значение для современных
экономики, финансов, информации, технологии, науки и техники, культуры.
Конечно, в нем возможны отдельные исключительные случаи национального
прогресса в условиях кризиса внешней среды и, напротив, застоя и упадка
данной страны при в целом восходящем развитии региона, мира. Но на
статистически значимом уровне для абсолютного большинства землян и
государств развитие собственных стран уже стало возможно и
достижимо лишь через их включенность в мировое развитие.
Вторая группа - возрождение и качественное развитие явления
международной жизни. МО не утратили исторически сформировавшихся
основных их черт. По-прежнему ведущее место занимают отношения
межгосударственные (единственные, субъекты которых суве-рснны), а в них
политические и политикоэкономическис. Как и раньше, важны факторы
силы. К военным ее сторонам добавились невоенные (финансовые,
экономические, научно-технические, информационные); технология
использования силы существенно усложнилась сообразно условиям
современного мира и задачам, какие он ставит перед политикой. Но
характерное для европоцентристских МО XVIII - первой половины XX вв.
засилье отношений межгосударственных, надолго подавивших иные формы
и уровни МЖ/МП/МО, все заметнее отходит в прошлое (что дало основания
ряду авторов с рубежа 70-х годов говорить о кризисе государства как
социального института и субъекта МО). Возродившиеся в новом качестве
и/или впервые возникшие многочисленные новые явления и процессы все
заметнее выступают как определяющие по отношению к МО и МП,
международной жизни в целом и внутренней сфере государств. МЖ,
сводившаяся некогда к прямым межродовым, межплеменным,
межэтническим обменам, начиная со второй половины XX в. бурно
развивается в небывалом диапазоне сфер, направлений деятельности, составе
участников.
Третья - складывающееся в заключительной трети XX в. новое, более
сложное разграничение общественных явлений, процессов и отношений на
внутренние, внешние и международные. Граница между внутренним и
международным пролегала в соответствии с видимыми и потому понятными
критериями. Вычленение из этого конгломерата внешнего требует
обращения к такому особому структурообразующему признаку, как
суверенитет.
Суверенитет - политическое и властное верховенство, носящее в
пределах данного исторически сложившегося социума абсолютный
характер. Понятие ведет происхождение от "суверен" - в Европе
средневековья властелин, никому не обязанный своими владениями
(добившийся их сам либо получивший по наследству, но не в порядке дара
или награды от вышестоящего). Такое верховенство означает, что
обладающая им власть - высшая на данной территории и/или по отношению
к данному населению. В этих пределах власть свободна управлять,
повелевать, принимать решения, не подчиняясь никому и ничему кроме того,
что установит для себя сама. Все остальные властные структуры данных
территории и социума являются низшими по отношению к высшей и обязаны
подчиняться ей. Попытки внешних сил вмешаться в дела данной власти (в
пределах ее территории и социума), а также ликвидировать данный
суверенитет, сместить саму власть (идут ли они изнутри или извне страны)
рассматриваются как враждебные акты, на которые власть вправе ответить,
как сочтет нужным. По признаку суверенитета внутреннее - то. что
фактически является объектом высшей власти суверена, будь то монарха
или государства; внешнее - то. что под такую власть не подпадает;
международное - то, что не подпадает под власть ни одного из суверенов.
Последнее с ростом числа международных организаций, субъектов МЖ и
МП увеличивается количественно и по диапазону.
Четвертая - энергичное возвращение явления мировой политики в
новом составе субъектов. Многообразие и интенсивность МЖ и ее
политических компонентов требуют политического оформления, тем более
что в ней действует множество разнопорядковых субъектов. Уже давно
нормой стали "интернационалы" идеологически родственных политических
партий, международные объединения профсоюзов, разных политических,
идеологических, религиозных течений. Своя традиция сложилась у ООН,
международных организаций межправительственного характера. Все чаще в
мир выходят с политическими вопросами, инициативами неполитические
международные объединения. Субъекты МП по-своему строят отношения
(от сотрудничества до конфликтов) с государствами. Конец XX в. отмечен
также становлением единого мирового информационного пространства.
Политика, i политическая жизнь могут развиваться лишь в тех пределах, где
есть общность информационного поля: иначе невозможны ни политические,
ни иные отношения между субъектами. Но и наоборот: расширение
целостного информационного пространства неизбежно тянет за собой
политику, увеличивает потребности в ней, практические пределы и
возможности ее функционирования. Взлом (с приходом в конце 60-х годов
эпохи компьютеризации и электронных СМИ) былой монополии власти на
информацию распахивает государства и общества влияниям внешнего мира.
Повседневной практикой стало обращение внутренних сил к использованию
внешней политической, моральной, практической поддержки, что
дополнительно стимулирует развитие МП, усиление ее роли и влияния в
международных и во внутренних делах. Мировая политика становится во
второй половине XX в. ареной и важнейшим средством гуманизации
государства как социального института, его превращения из силы,
господствующей над населением и обществом, в силу, призванную им
служить. Если в итоге государство перестанет выступать лишь орудием элит,
это повлечет новые глубокие сдвиги в международной жизни и
межгосударственных отношениях.
Пятая группа - новая мировая политика в условиях все более
целостного, взаимосвязанного мира объективно трансформирует былую
среду международной жизни в неотъемлемую составную часть процесса и
организации жизнедеятельности человечества, в сферу внутреннюю по
отношению к единому, целостному и взаимозависимому миру. Тем самым
обнаруживается и подтверждается суть МЖ и МО как особого, исторической
протяженности процесса трансформации ранее "чужих", разобщенных между
собой социально-территориальных систем (от рода до государства) в нечто
по социальному качеству более масштабное, сложное, высокоорганизованное
и цельное. Такое нечто не должно быть единым в политико-
административном смысле; но требует общих компонентов политических
психологии, сознания, культуры, чтобы оказалось возможным и
необходимым поддержание такого единства в повседневности и на
макрошкале времени. Наличие международных структур, выполняющих
информационно-координирующие и регулятивные функции, доказывает, что
соответствующие отношения в мире и/или его части достигли объема,
уровня, значения, когда такие функции необходимы; открывает новые
возможности для дальнейшего развития связей, отношений. Одно из
последствий - формирование и развитие стабильных структур
международных отношений: плотной сети связей, норм, отношений,
институтов и процедур (политических и иных), уже автономных от
конкретных государств и правительств, давно ставших данностью, не
считаться с которой все более затруднительно.
Шестая группа - цикличность описываемых процессов, которые
развиваются, как правило, через внутристрановой сепаратизм и
международный регионализм. Один из парадоксов такого развития -
появление "суверенитетов внутри суверенитетов" (бывшие союзные
республики в составе СССР, Бавария в Германии, некоторые субъекты РФ).
Объективно ускоряя эрозию суверенитета - "священной коровы" внутренней
и международной политики, эти процессы подготавливают неизбежное в XXI
в. ниспровержение государства с пьедестала его социально-политической и
правовой исключительности, перевод в ранг корпорации по управлению
социально-территориальной системой.
Седьмая группа последствий сопряжена с исподволь объективно
назревающей на протяжении уже нескольких десятилетий потребностью в
постепенном "вытягивании" и налаживании "вертикали" органов
самоуправления, управления и координации от уровня крупных
внутристрановых регионов (штаты, провинции, земли) до регионов
международных и до глобального уровня в целом. Такая структура - не
замена государств и межгосударственных отношений, а дополнение к
функциям и роли того и другого. В какой мере подобные процессы могут и
будут сопровождаться появлением политических и/или иных
самоидентификаций на уровне цивилизаций - вопрос открытый, как и то,
приведут ли цивилизационные самоидентификации (если они будут иметь
место) к каким-либо меж-цивилизационным трениям, проблемам,
столкновениям. Но в любом случае институт государства как рубеж
разграничения внутренних, внешних и международных процессов будет
испытывать нарастающие по силе и масштабам вызовы традиционной
интерпретации своей роли; а межгосударственные отношения, теряя свободу
взаимодействий по законам "дикого поля", станут все более
трансформироваться в регионально- и глобально-внутрисистемные, не
достигая еще при этом плотности и интенсивности внутристрановых.
По-видимому, международные отношения как "дикое поле" смогут
возродиться вновь лишь при теоретически допустимом столкновении с
внеземными цивилизациями и/или в случае политического отмежевания от
Земли развитых инопланетных поселений землян -перспектива в любом
случае весьма неблизкая.
Тема 6. Теория международных отношений:
предмет анализа и предмет теории
(Введение в теорию)
Проблема соотносимости научного инструментария с объектом и
предметом исследования и делаемыми на основе использования этого
инструментария выводами имеет для теории МО особое научное,
практическое и политическое значение. Изучаемая ТМО реальность в
большинстве случаев сложна, масштабна и продолжительна, сбор и
осмысление эмпирического материала по многим важнейшим проблемам ее
способны занимать десятилетия и даже века. Исследуя МО, легко (особенно
в прошлом) добросовестно не заметить (или объективно не иметь
возможности научно оценить) эту их специфику, а потому оказаться
склонным, вынужденным абсолютизировать грани, аспекты, проявления
объекта и предмета анализа, очевидные сегодня, в ущерб иным - заявившим о
себе много ранее; недооцененным сегодня; тем, что проявятся, станут
актуальны в обозримом будущем. По сути это проблема того, как видят и
определяют международную реальность ученый, практик, образованный по
стандартам времени человек; и как такое видение, в свою очередь,
сказывается на архитектуре и содержании теории. Отсюда требование и
теоретико-методологическое значение различения предмета теории МО и
предмета МО-анализа.
Претендуя на статус теории, соответствующая часть науки о МО
должна отвечать фило-софско-методологическим критериям, которые в
любой науке позволяют различать ее теоретические компоненты от иных:
методологии, эмпирики, частных концепций, прикладных форм.
Теория в широком смысле — комплекс идей и представлений, в
совокупности дающих истолкование и объяснение какого-либо явления или
класса явлений. В этом смысле все науки о международных отношениях
(включая историю МО и внешней политики, дипломатии, исследования
фактологически-описательного характера и т.д.) могут быть отнесены к
теории:
каждая из ее дисциплин и все они вместе являются неким комплексом
идей и представлений (причем именно комплексом, а не единым целым) и
дают (порознь и в совокупности) систематизированное изложение,
истолкование и объяснение (или сумму объяснений) своего предмета.
Множественность объяснений, однако, равнозначна отсутствию
объяснения, а значит, и согласия в понимании предмета науки. С объектом
исследования особых разночтений не возникает: названные дисциплины
изучают международные и межгосударственные отношения, причем
последние на практике выступают чаще всего одновременно и в качестве
первых. Монографии и учебники по современным МО и/или их истории
рассматривают прежде всего и главным образом отношения между
государствами. Попытки объяснения МО - особенно в русле школ
геополитики, политического реализма, стратегического анализа - также
строятся, исходя из признания (осознанно или де-факто) государства в
качестве главного, центрального, даже единственного для этих концепций
субъекта отношении (актора). Сами же сторонники этих направлении
признают, что их дисциплины не обладают прогностическими
способностями, этим важнейшим признаком любой научной теории.
Объяснительный потенциал названных дисциплин, как представляется,
ограничен выявлением прежде всего конкретных связей между конкретными
же явлениями и процессами. Иными словами, традиционные направления
науки о МО, помещающие в центр своего внимания государство как некий
целостный субъект МО, в идеале способны с высокой мерой достоверности
установить причины конкретных этапа или явления МО (например, холодной
войны), но уже доказали свою неспособность объяснить МО как явление.
Последнюю задачу призвана решать теория иного, более узкого и
специального типа (она обозначается здесь словами "теория МО", ТМО).
Функция теории в узком смысле - обеспечить целостное представление о
закономерностях и существенных связях некоторой области
действительности (в данном случае - МО, что бы под ними ни понималось),
и на этой основе дать исследователю и практике достаточно надежный
прогностический инструментарий. Решение задач такого типа требует
постановки в центр внимания исследователя проблем и связей наиболее
глубинного характера.
Между двумя видами теории ("широким" и "узким") много общего и
еще больше принципиальных различий. Общее в том, что "узкая" теория
(УТ) не может возникнуть без того, чтобы предварительно не появились и не
получили значимого развития теории "широкого" вида (ШТ).
Преимущественно конкретно-описательное видение объекта и предмета
исследований объективно выполняет задачу накопления эмпирического
материала, изначального гипотезо-творчества и обычно предшествует самой
возможности постановки проблем причинности более глубокого, скрытого от
непосредственных наблюдения и опыта плана. "Узкая", специальная теория
всегда стремится соединить в целостную подсистему знания некую
совокупность "широких" теорий какого-то значимого круга явлений, найти
между ними общее. Причем УТ создается и развивается именно на базе
комплекса ШТ (пусть и отрицая отдельные из последних), а не где-то
"рядом" с ним и в отрыве от него. В дальнейшем, после становления УТ и ее
научного признания, ШТ обычно интегрируются в УТ как сумма частных
теорий, решающих строго определенные задачи или классы задач.
В данном цикле статей "широкая" теория применительно к
международным отношениям обозначается как "наука о международных
отношениях" (НМО). По-видимому, "широкую" теорию как явление
правомерно считать функционально первым уровнем собственно научно-1 го
(в отличие от ненаучного и донаучного) познания.
Различия между "широкой" и "узкой" теориями обнаруживаются по
каждому из их существенных признаков. Два вида теорий изучают разные
типы объектов исследования: "широкая" теория - явления, группы и классы
явлений; "узкая" - сферу действительности. Для двух видов теории различны
и типы предметов исследования: для ШТ это определенные аспекты, грани,
свойства изучаемых явлений; для УТ - существование (суть эволюция)
данной сферы деятельности во времени, пространстве, связях с окружающей
ее средой. Различны познавательные и практические цели и задачи теории:
ШТ призвана дать толкование и объяснение явлений, то есть наделить их
неким смыслом и/или ценностным содержанием ("хорошо/плохо"); УТ дает
понимание объективных внутренних закономерностей данной сферы и
наделяет прогностическими возможностями. Методологически ШТ в
большей степени опирается на философию и специальные (отраслевые)
методы исследований; УТ - на формализованную методологию науки,
логику, формализованные методы исследований, общую теорию систем.
Соответственно, определение объекта и предмета исследований носит в ШТ
преимущественно интуитивный или описательный характер; в УТ -
выстраивается по четко формулируемым критериям. Содержание теории
образуют в ШТ - эмпирические материалы, интерпретации, объяснительные
схемы, в том числе и донаучного характера; в УТ- выведенные согласно
принятой (см. выше) методологии представления о возможных, вероятных и
невозможных вариантах состояния данной сферы деятельности при
определенных условиях и/или в определенный период ее развития.
Организация теории тоже существенно различна: в ШТ это сумма,
совокупность, максимум комплекс представлений; УТ объединяет свои
положения в некую целостность.
Таким образом, "узкая" теория есть самая сложная, развитая и
абстрактная форма научного знания. Тут важна каждая из характеристик: УТ-
форма именно научного знания с присущей ему спецификой, а не всякого
знания вообще (ШТ может относиться и к последнему классу). Это сложная
форма, далеко ушедшая от таких важных, но начальных форм научного
знания, как классификации и типологии (особенно на базе наиболее
очевидных признаков), первичные объяснительные схемы. Это развитая
форма: становлению теории предшествует долгое (иногда многовековое)
накопление иных форм научного знания, многочисленные попытки его
организации в рамках различных гипотез, концепций, частных теорий.
Наконец, УТ всегда абстрактна, поскольку ее задача - отображение объекта
и предмета анализа в самых существенных их признаках, связях,
закономерностях и в то же время - во внутреннем единстве и в их целостных
связях с внешней для них средой. В силу всего перечисленного теория
обычно кратка, но предельно емка.
Любая теория включает четыре типа компонентов:
(а) некоторую исходную эмпирическую основу (то есть накопленные
опыт, наблюдения), требующую теоретического осмысления;
(б) исходную же теоретическую основу: разного рода аксиомы,
допущения, постулаты, в совокупности описывающие идеализированный
объект будущей теории, как он представляется на начальной стадии его
исследования;
(в) логику теории, или допустимые в рамках данной теории правила
логического выведения доказательств и заключений;
(г) собственно содержание теории: всю совокупность созданных в
данной теории выводов, концепций, утверждений вместе со всеми их
доказательствами.
Изложенные положения, естественно, полностью относятся и к теории
международных отношений. Центральную методологическую роль в
формировании теории играет идеализированный объект - модель
исследуемой части реального мира в совокупности важнейших для нее (этой
реальности) связей (важнейших с точки зрения той науки, в рамках которой
создается данная теория). Последний соотносится и с реальным объектом
науки, и с ее предметом, то есть с теми гранями и/или компонентами
объекта, которые изучаются данной наукой. Это соотношение зависит от
объема и характера накопленных об объекте и предмете изучения знаний, а
также от их организации в некоторую систему представлений (если таковая
сложилась).
По ходу познания, в процессе становления и развития новой научной
дисциплины соотношение объекта, предмета исследования и идеального
объекта не остается неизменным. Парадокс любой науки в том, что поиск
теоретического объяснения реальности приходится начинать с создания
априорной (гипотетической) идеальной модели, а потом посредством
большого (иногда крайне большого) числа ее сопоставлений с практикой,
опытом корректировать модель в сторону ее большего соответствия объекту
исследования. В процессе таких пересмотров не просто уточняется
изначальная модель, но обычно в корне меняется (иногда неоднократно)
понимание предмета познания.
На протяжении научного познания конкретной реальности объект
исследования меняется на несколько порядков медленнее, нежели
представления человека о нем (или даже практически не меняется). Предмет
исследования при неизменном объекте может изменяться многократно (при
эволюционирующем объекте изменяется непременно и не один раз).
Идеализированный же объект меняется обязательно и чаще, чем предмет,
поскольку по мере познания развиваются объем, качество, организация
научных знаний, накапливаемых человеком. По сути, каждой существенно
новой трактовке предмета исследования предшествует и позднее из нее
вытекает новый идеальный объект.
Применительно к ТМО эти положения обретают особое значение.
Исторические масштабы времени, в которых функционирует и
эволюционирует явление МО, несоизмеримы с продолжительностью жизни
отдельно взятого человека. Отсюда - субъективное ощущение неизменности
международных отношений в основном и главном для них на протяжении
истории (за исключением разве что XX в. или даже только второй его
половины). Отсюда же неизбежны длительные сроки верификации ранее
высказанных гипотез и концепций. За подобные сроки меняются столь
многие социально-исторические факторы и обстоятельства, что возникает
проблема правомерности и особых правил сопоставления в рамках одной
теории явлений и процессов, относящихся к качественно разным эпохам.
Это, в свою очередь, предопределяет исключительно высокую устойчивость
первоначальных объяснительных схем и идеальных объектов,
сформулированных по отношению к МО еще в средние века и даже во
времена античности.
Разумеется, любое предположение не может ни приниматься, ни
отвергаться лишь на основе его давности или, напротив, новизны. Однако
чем раньше была сформулирована идея, гипотеза, концепция, тем
объективно в большей степени содержание ее определили вопросы и
мышление соответствующего времени, и тем в меньшей мере такой
идеальный объект включает современные представления и отвечает
современным, осознанным и четким правилам разработки и проверки
научных гипотез. Характерно, что именно общественные науки, в том числе
и особенно наука о МО, переживают в настоящее время период мощного
прилива шаманства, невежества, графомании, необъяснимого трепета перед
духовными продуктами психологической компенсаторики и социально-
психологических патологий. Значительно более развитые методологии,
категории, теоретические системы естественных наук оставляют для
подобных самоутверждений неизмеримо меньше места и возможностей.
Современные представления о международных отношениях в общем и
целом сложились в период безраздельного господства государства как по
сути единственного типа субъектов МО и полного суверена внутри страны
(сочетание двух этих признаков позволяло ясно и удобно отделять
"внутреннее" от "международного"). Восприятие монополизма государства
(института, выходящего во внешнюю сферу с только ему присущими
функциями) как "само собой разумеющегося" оказалось печатью времени,
наложенной на первоначальные идеальные объекты в области ТМО.
Невольной и потому особенно показательной "вершиной" такого,
интуитивного восприятия МО стала катастрофа марксистской попытки их
определения как "вторичных и третичных, вообще производных,
перенесенных, непервичных производственных отношений" (К. Маркс). Не
будем заострять внимание на том, что каждое слово здесь требует
собственного определения. Но в рамках учения о "базисе" (экономике,
диктующей остальное) и "надстройке" (нечто вроде малозначащего
украшения над базисом) МО смотрятся как "украшение над украшением":
жестко детерминируемые процессами "базиса", сами они почти не в
состоянии влиять на последний. Если немарксисты принимали вплоть до
конца 60-х годов XX в. роль государства как данность, выстраивая вокруг
этой роли концепции МО, то классики марксизма видели в государстве
орудие господствующих классовых сил, лишенное собственных интересов,
мотивации, содержания и потому обреченное в конечном счете "отмереть".
Соответственно, концепции немарксистского происхождения фактически
(вольно или невольно) свели отношения международные к
межгосударственным. Марксизм вообще не дал (поскольку не считал это
важным и нужным) теории МО и МГО, подменив ее концепцией мирового
развития. И те, и другие при этом попали в плен "государство-центризма",
только одни - приняв идею и абсолютизировав ее, другие - отвергнув ее с
порога и полностью.
Одна из принципиально значимых сложностей формирования ТМО
связана с тем, что применительно к международным отношениям на первый
взгляд крайне сложно оценить баланс известного о МО и неизвестного с тем,
чтобы иметь возможность ответить на вопрос, базируется ли данная теория,
условно говоря, на 10% потенциально возможной и необходимой
информации, 50 или же на 90%. В лучшем случае "фактору неизвестного"
можно дать интуитивное описание, не более. Связано это отчасти с
развитием объекта, предмета и субъекта познания МО в процессе их
познания; отчасти с невозможностью научного эксперимента в сфере МО.
Однако теория МО начала складываться в период, когда уже многие другие
научные дисциплины стихийно прошли свой путь от "широких" теорий к
"узким", а потому в принципе известны условия и процедуры, необходимые
как для построения новой "узкой" теории, так и для приблизительной оценки
соотношения известного и неизвестного на текущем этапе ее становления и
развития. Такую возможность предоставляет системное видение объекта и
предмета теории.
Можно (и необходимо, естественно) исследовать конкретное явление,
процесс (например, взаимоотношения государств А и Б в определенный
период). Можно сделать предметом исследования некие сходные (внешне
или по сути) явления и процессы - например, войны, конфликты, переговоры
и т.п. Но можно задаться вопросом, какое место занимают отдельные
явления, процессы, определенные их типы в более крупных структурах,
отношениях, тенденциях развития? Очевидно, два первых подхода способны
дать частные'теории явлений и процессов, действительные лишь в некой
полосе состояний и их закономерностей. Третий же подход, не отрицая, а
интегрируя два первых, в принципе способен дополнить их
продиктованными логикой системного видения выводами о характере,
структуре, механизмах и закономерностях действия определенной системы
(связей, отношений, состояний, т.д.); о возможном и/или вероятном ее типе,
временном и пространственном масштабах, каких-то значимых
особенностях.
Разумеется, нельзя подобным образом выйти на законченную "узкую"
(специальную) теорию; но можно и весьма полезно получить
предварительное общесистемное о ней представление, определить в общих
чертах вероятные место и значение в ней созданных к данному моменту
"широких" теорий, оконтурить имеющиеся "белые пятна".
На протяжении многих веков проблема предмета анализа и тем более
предмета теории применительно к познанию МО не возникала, поскольку
научная мысль вообще не добралась еще в своем развитии до подобных
методологических изысков. В рамках европейской мысли, . берущей начало
из античных Афин и Рима, явление МО описывалось и изучалось в двух
взаимосвязанных, но отчетливо разных плоскостях. "Отношения между
народами" в прямом смысле этих слов оказались в центре внимания прежде
всего этических и правовых воззрений и учений. От стоиков (IV-III вв. до н.
э.), через римское "право народов" (jus gentium, II-I вв. до н. э.), идеологию и
ценности христианства проходит идея единства человеческого рода,
равенства всех рас, народов, индивидуумов, а значит, и их равноправия перед
лицом Бога прежде всего, но и в мирской жизни тоже. Отсюда - все и
всяческие варианты разумного и справедливого устроения мира, по
интеллектуальному счету утопические, но по высшей, нравственной шкале
оценок сыгравшие главную роль в том, что человечество все же выбралось из
дикости и дошло до некоторой цивилизованности.
Параллельно с этими воззрениями и долгое время в минимальной связи
с ними в рамках учений и рассуждений о власти и политике получали
рассмотрение отношения между государствами (хотя термин этот не
использовался: его ввел Н. Макиавелли лишь в XVI в.). В исторически
длительном разделении двух видов отношений решающую роль сыграли
положения христианства, "теоретически" разделившего идеалы и
политическую действительность ("Богу - Бо-гово, кесарю - кесарево"), а в
дальнейшем закрепившего это разделение в идеях греховности всего земного
(включая социальные, государственные, правовые институты и отношения)
и, наоборот, благостности "града небесного", основанного на всеобщей
любви к Богу. Политический и практический смысл этого деления
заключался в обосновании таким образом высшего характера духовной
власти по сравнению с властью светской. На протяжении двенадцати веков
Ватикан, опираясь на эти представления, царил в Европе, контролируя
коронации (или, говоря по-современному, "королевскую номенклатуру"),
проводя в отношении светских правителей политику "разделяй и властвуй".
Подчеркнем в связи с последним, что в условиях феодализма и тем
паче более ранних формаций отношения правителей между собой, а также
каждого из правителей - с его ближайшими родственниками, министрами и
вассалами оставались фактически межличностными: еще не сформировались
институты, структуры общественного бытия. Это положение блестяще
отражено в работах Н. Макиавелли (особенно в "Государе"). Поэтому и
международные отношения эпох древности, античности и средневековья
несли на себе сильнейший отпечаток отношений межличностных (не
сводясь, однако, только к последним).
В борьбе с Ватиканом за освобождение светской власти из-под диктата
власти духовной, клерикальной и во многом как идеология и одно из
последствий этой борьбы появилась созданная Ж. Боденом в XVI в. теория
государственного суверенитета. От нее прослеживают начало "классические"
теории государственного права и МО, которые возникли в Европе на
протяжении XVI-XVIII вв. и ставшие уже во второй половине, нашего
столетия основой школы "политического реализма". Не имея возможности
пересказывать эти теории и адресуя читателя к доступной литературе,
отметим только три существенные для нашего рассмотрения общие их черты.
Все эти теории могут по современной шкале быть отнесены к разряду
"широких"; все они созданы в рамках христианско-нормативного подхода
(см. темы 1 и 2) и решающим образом опираются на него; все они в
совокупности закрепили категорию "государство" и понятие
"государственный суверенитет" объективно в функции центрального и
единственного водораздела между "внутренним" и "международным".
Граница между государствами как линия этого водораздела была явлением
столь реальным, самоочевидным и важным (особенно в вопросах войны и
мира), что интуитивное понимание "международности" как прежде всего
"межгосударственности", отождествление двух этих категорий закрепилось в
литературе вплоть до второй половины XX в.
Школа "политического реализма" (с конца 40-х годов, начало ее
принято связывать с работами Г. Моргентау), вершина нормативного
подхода в науке о МО, использует в качестве базовых категории, не
поддающиеся четкому определению и измерению: "сила", "баланс сил",
"национальный интерес". МО для нее - это сфера борьбы государств за силу,
власть и влияние (два первых передаются в английском языке одним словом
"power", третье понятие обозначает процесс и результат использования
"power"). В таких МО нет места иным типам субъектов (либо иные типы
обречены бросать в МО вызов государствам и их суверенитету). Концепция
"по-литреализма" не допускает развития явления МО/МГО: государства по
ней обречены на вечное противоборство, что слишком очевидно
противоречит практике современных МО (как, например, быть с интеграцией
типа ЕС?). Эта самоисчерпанность концепции вынуждает ныне ее
сторонников искать в международной сфере иной тип субъекта, который был
бы способен перехватить у государства эстафету противоборства. Так,
видимо, родилась концепция "конфликта цивилизаций", суть которой в
якобы неизбежном перемещении противоборства в мире из сфер идеологии и
МГО в область межцивилизационных взаимодействий. В рамках школы
"политреализма" остается, однако, открытым вопрос: можно ли будет
межцивилизационные связи, отношения, конфликты и т.п. считать
международными (причем "почему, на основании каких критериев?" равно
относилось бы к ответам и "да", и "нет")?
Мысль о том, что международные отношения не тождественны
межгосударственным и не сводятся только к последним, а главное,
решающим образом связаны с ходом и достигаемым на определенных этапах
уровнем мирового развития и определяются им, была заложена в основание
марксистской концепции общественно-исторического процесса (здесь и
далее подразумевается научный марксизм, а не идеологические его
интерпретации). Основу марксистской теории социальной истории, помимо
идеи развития, составила гипотеза, что развитие подчиняется неким
объективным (то есть не зависящим от воли человека) закономерностям и
потому проходит через ряд сменяющих друг друга, непременных для всех
субъектов развития качественных этапов - формаций.
Главным критерием и решающим признаком последней марксизм
избрал способ производства, соответственно и формации назывались
"социально-экономическими". Признавалась, однако, специфичность
развития и проявлений одной и той же формации у разных народов. Каждая
формация, в свою очередь, имеет собственные этапы (эпохи, периоды)
развития, что определяет социально-историческое качество конкретных
обществ как субъектов развития. Логично предположить, что по мере
формационного перехода стран, народов, человечества от "низших"
формаций и этапов к "высшим" должны меняться, как-то развиваться и
усложняться и международные отношения. Отражением такого восприятия
стал распространенный в советской литературе тезис об отношениях внутри
социалистического содружества как качественно более высоких по
сравнению с досоциалистическими МО. Но это восприятие осталось
интуитивным, не разработанным научно сколь-нибудь подробно.
Классический и современный научный марксизм не создали своей
специальной теории МО. Попытки такого рода делались начиная с 60-х годов
XX в., но были задавлены конъюнктурными соображениями политики и
идеологии. Тем не менее,формационный подход стоило бы воспринять и
доработать, отказавшись от его методологической однобокости: склонности
абсолютизировать явление формации, идею последовательной смены
формации по ходу истории и представление о неизбежности смены
формаций. Безусловно, формация как явление существует (и нуждается в
значительно более глубоком, чем до сих пор, изучении); но это лишь один из
факторов социальной истории, понимание механизмов которого возможно
только при условии его сопряжения с другими, прежде всего
цивилизационным. Формации сменяют друг друга лишь генетически — в том
смысле, что каждая последующая вырастает из предыдущей. В реальных,
повседневных жизни и политике они сосуществуют, просто позднейшие
оттесняют предшественниц на второстепенные роли. И ныне в самых
развитых странах периодически вскрываются факты рабовладения,
действуют чисто феодальные структуры, сохраняются элементы
классического раннего капитализма и т.д. Иное дело, что все они уже не
играют в жизни общества былой определяющей роли. Наконец, и развитие -
не неизбежность, но возможность, открывающаяся, видимо, только при
определенных условиях и притом с некоторой, зависящей от этих условий
вероятностью: в противном случае в мире (и России) не стояла бы так остро
проблема, как выйти на стабильное развитие.
Пока научный марксизм буксовал в им же спровоцированных к жизни
идеологии и политике, христианско-позитивистский подход к исследованию
МО дал широчайший спектр'теорий и концепций (см/ темы 1 и 2). Спектр
настолько широкий, что уже к середине 70-х годов XX в. стало очевидно: ни
одна из этих концепций, теорий и школ не может претендовать на роль
специальной теории МО. В сумме же все они также не образовывали единой
специальной теории (УТ), хотя безусловно составляли теорию "широкую".
С конца 70-х годов в науке о МО практически утвердилось
представление, что собственно МО не есть нечто изолированное,
автономное; что они суть часть более общего процесса мирового развития,
им определяются и ограничиваются, хотя и сами влияют на его ход и
результаты. На рубеже 90-х годов эта позиция получила мощное
подкрепление. "С одной стороны, сложная череда событий, приведших в
конечном счете к распаду Советского Союза, заставила исследователей МО
еще сильнее осознать взаимосвязь текущих процессов с крупномасштабными
историческими переменами (large-scale historical change). С другой - еще
более расширилось признание того, что крупномасштабные исторические
перемены невозможно понять, не принимая во внимание систему
международных отношений. ... Еще ранее сложилось признание того, что
наука о МО основывается на чрезвычайно статической концепции
международной системы и не располагает теоретическим инструментарием,
который позволял бы понять процессы, вызывающие такие перемены"2. В
данном случае интересен прежде всего тот факт, что позитивистские
исследования МО в результате десятилетий кропотливой научной работы
вышли на признание идеи, декларированной марксизмом как аксиома: о
взаимосвязи и взаимообусловленности международных отношений и
мирового развития (МР). Соответственно, резко возрос в 90-е годы интерес
ученых к проблематике взаимосвязей МО и МР, что, в свою очередь, ведет к
эволюции взглядов на предмет теории.
Значительную лепту в эту эволюцию вносят явления интеграции и
глобализации. Интеграция типа ЕС - прецедент добровольного,
ненасильственного "сращивания" ряда государственных организмов (в том
числе еще недавно воевавших друг с другом) во все более единое целое, -еще
и теоретическая проблема науки о МО, заставляющая задаваться вопросом об
условиях и механизмах того переходного состояния, на протяжении которого
отношения ранее междуна-. родные, продолжая оставаться
межгосударственными, тем не менее постепенно перетекают во внутренние -
но уже по отношению к качественно более сложному, "высокому" целому,
нежели исходные. Слияния государств в новое образование бывали и в
прошлом, хотя носили силовой характер. Глобализация ставит ту же
проблему, но уже в масштабах земного шара и мировой политики: если из
прежних МО рождается нечто "внутреннее", то и МГО должны принимать
характер внутренних отношений. Что в таком случает происходит с МО,
сохраняются ли они, каким может стать новое их содержание?
На 90-е годы приходится оживление внутринаучной дискуссии, по
ходу которой несколько дисциплин (история МО, теория мирового развития
и политология) стремятся четче оформить линии разделов и зоны
сопряжения с теорией МО. А значит, каждая из них в какой-то мере
переосмысливает и свой предмет исследования.
Размежевание исторической науки (в части истории политики,
государства и политических институтов, международных отношений) и тогда
еще только нарождавшейся политологии (political science) началось в конце
XIX в.-и к середине XX в. утвердило главный водораздел: история
восстанавливает в максимально доступной ей полноте ход и контекст
явлений, процессов и событий прошлого, ищет им конкретные объяснения в
практических и духовных условиях определенного времени. Политология,
занимаясь лишь одной сферой прошлого и настоящего -политической, ставит
своей целью вывести на основе множества достоверно установленных
частных случаев одну общую теорию политики. В этом смысле политология
выступает в роли "узкой" теории по отношению к истории как теории
"широкой".
Появление на рубеже 60-х годов XX в. работ по теории МО было
поначалу встречено достаточно агрессивно многими историками
международных отношений, как представляется, главным образом по двум
причинам. Во-первых, сработал естественный во всякой науке рефлекс
защиты собственной сферы от того, что поначалу непременно кажется
посягательством, вторжением "чужих". Во-вторых, историки именно МО,
дипломатии и внешней политики в силу полученной ими в начале века
подготовки чаще всего были недостаточно знакомы с теорией политики
(политологией), не владели ее инструментарием и понятийным аппаратом. В
свою очередь, теоретики МО подчас глядели свысока на копошащихся в
пыли "мелких" фактов историков.
Взаимная притирка истории и теории МО заняла около двух
десятилетий, после чего дискуссия о разграничении этих дисциплин
возобновилась, но уже в принципиально ином, конструктивном ключе.
Историки МО признают необходимость и полезность теории МО, ее
ценность в понимании тех исторических явлений и событий, объемы
фактологии по которым не позволяют скрупулезно восстановить все детали
прошлого. Теоретики МО осознали и признали бессмысленность "чистого",
не опирающегося на'истррию теоретизирования. И первые, и вторые теперь
еще в студенческие годы получают достаточное знакомство со смежными
дисциплинами и понимают язык друг друга. В целом между историей и
теорией МО сложились отношения взаимных признания, заинтересованности
и сотрудничества.
В среде исследователей и теоретиков МО признание доминанты
мирового развития вызвало поиски различных вариантов стабильности и
путей ее обеспечения (см. тему 2), но также и интерес вообще к теориям
перемен и развития. Христианско-позитивистская линия в ТМО оперирует
понятием "перемен" (change); категория "развития" прилагается обычно к
внутренней эволюции государств, экономик, стран и народов (см. литературу
по теориям модернизации, развития per се, догоняющего развития и др.).
Речь пока идет лишь о признании самой проблемы развития и взаимосвязи
МО и МР. Можно говорить о том, что постепенно ширится признание
развития самих. МО как явления на протяжении истории; высказываются
предположения о желательности разработки широкой теории МР, которая в
качестве частного раздела включала бы ТМО.
На этом фоне и возникла в последние годы дискуссия между ТМО и
наукой о МО в целом, с одной стороны, и политологией, с другой.
Инициативу проявили отдельные политологи, попытавшиеся включить ТМО
в более широкую теорию политики. На первый взгляд, подход не вызывает
принципиальных возражений: в обоих случаях предметом анализа
выступают политические явления и процессы. Политология, однако, до сих
нор строила свои концепции на основе изучения внутриобщественной
(внутригосударственной) политической жизни, притом на эмпирическом
материале исторически достаточно развитых общества и государства. То есть
объект и предмет исследования науки политологии заведомо обладают
внутренней целостностью, и немалой.
Теория МО рождается на материале жизни международной, и это
различие носит неформальный характер. Во-первых, политология по
определению занимается сферой политики; но политические МО - лишь
часть МО вообще, притом не всегда ведущая: теория МО должна иметь
своим предметом явление в целом. Во-вторых (что гораздо важнее),
субъекты политики и-жизнедеятельности внутри социума объединены не
только единым центром власти, но и некоторой общностью (пусть
минимальной); субъекты же МО, мировой политики не признают наличия
над собой высшей власти и при этом хорошо осознают свою разность, часто
несовместимость. В-третьих, во внутриобщественной сфере применение
силы означает обычно крах, как минимум глубокий кризис политики именно
потому, что выявляет критическое нарушение общности. В сфере
международной применение силы - исторический факт, обычай, который
получает ныне новую легитимацию ("принуждение к миру"), а потому
составляет один из центральных качественных признаков самого явления
МО.
С учетом этих различий, гипотетическая общая теория политики (если
бы она оказалась возможна) должна в качестве специальных разделов
включать как традиционную политоло-гию, так и теорию МО. При этом в
последней МО должны рассматриваться в двух неразрывных их'качествах:
как явление и как процесс. Как явление отношения международные, видимо,
интересны их отличием от внутренних, даже известным
противопоставлением последним. В явлении МО нас прежде всего
интересует его специфическое качество, которое одно лишь и может служить
обоснованием формирования новой теории.
Как процесс международные отношения суть проявление этого
специфического их качества на всех этапах существования явления: от его
генезиса; через прагосударственную стадию с характерным для нее
безусловным доминированием межличностных отношений во всех сферах
жизни, включая международную; через этапы становления и развития
государства до его выдвижения в качестве основного, а практически
единственного типа субъекта МО. На этой, предыдущей стадии
складываются и обретают кажущиеся вечными и неизменными
"двухмерность" мировой политики и МО (отношения между субъектами
одного типа развиваются как бы на плоскости - в двухмерном пространстве);
проявляются такие аспекты взаимосвязей в поле (в данном случае - поле
МГО), как их геополитичность, а именно связь с пространственной
организацией поля, роль в них баланса сил и т.п. На этой же стадии
формируются как реальность и приковывают к себе растущее внимание
исследователей внутренний мир субъекта МО (с прицелом на его внешнюю
политику, "поведение"), специфические процессы и взаимодействия
субъектов МО в сферах МО/МГО (такие, как переговоры, конфликты,
сдерживание и пр.).
Со второй половины XX в. постепенно прорисовывается новая,
"постгосударственная" стадия МО как процесса: государство уже не
единственный субъект МО, хотя по-прежнему доминирует в них. На этой
стадии заявляют о себе многочисленные принципиально новые для сферы
МО феномены: международная интеграция как явление и процесс;
взаимозависимый целостный мир; попытки направляемых изменений
мирового развития; стабильные структуры международных отношений;
появление мирового сообщества и постепенно стихийно складывающееся
распределение ролей в нем (не сводящееся только к чьему-либо лидерству).
Мир как бы тянется вверх, обретает не только цельность, но и непременно
присущие всякой цельности внутреннюю стратификацию, иерархичность,
"трехмерность". Такие МО и мир уже невозможно объяснить прежней,
"двухмерной" концепцией геополитики (то есть по сути "теорией поля",
нашедшей приложение в решении строго определенных задач в физике и
психологии, в данном же случае переносимой на межгосударственные
отношения).
Просуммируем изложенное. Очевидно, на разных этапах эволюции как
явления МО, так и всей совокупности наук о МО (включая ТМО) предметом
анализа объективно становились отдельные грани, аспекты и компоненты
явления (наиболее актуальные для своего времени, легче поддающиеся
наблюдению, документированию, наиболее значимые для решения каких-
либо когнитивных, этических проблем эпохи), но не явление МО в целом.
Между тем предметом теории должно в идеале быть именно явление в
полной совокупности всех его компонентов и во всей протяженности во
времени от зарождения до финала. Причем специфика ТМО в том, что ее
объект и предмет эволюционируют в социальном и историческом масштабах
времени.
Понятно стремление отдельных исследователей и школ видеть в роли
теории МО прежде всего свое направление. Ретроспективно уже бесспорна
неправомерность расширительной интерпретации концепции отдельного
явления (даже при условии ее научной безупречности) до статуса общей
теории сферы действительности. Множество предметов анализа, однако,
естественным следствием имеет превосходящее множество частных
концепций (так как любой предмет анализа поддается нескольким
интерпретациям), и чем выше становится их число, тем очевиднее, что они не
образуют единой целостной теории. Но и тем глубже размывается, эро-
зирует доказательная сила "широких" теорий, делая когнитивно
неотвратимой потребность науки, сознания в теории "узкой", специальной,
обобщающей все, до нее сделанное.
По-видимому, международные отношения суть отношения, связи,
вообще любые взаимодействия внутренне хотя бы минимально
оформленных, организованных социумов, осуществляемые в духовном,
социально-политическом и физическом пространствах, в -которых еще не
выработаны, не установились никакие стандарты, критерии, нормы
общности либо процессы их выработки, признания и закрепления носят еще
исторически начальный характер, а фактические итоги и продукты таких
процессов качественно как минимум на порядок отстают от достигнутого
во внутрисоциалъных отношениях.
Тогда МО как явление возникают, когда появляются хотя бы два
внутренне оформленных социума, которые добровольно или вынужденно
вступают в постоянные контакты, связи, отношения, взаимодействия друг с
другом. МО как явление исчерпывают себя, если и когда все ранее
участвовавшие в них социумы объединяются в единое, властно оформленное
целое, где все связи, отношения и взаимодействия с момента объединения
принимают внутренний характер. Естественно, оба эти крайних состояния -
идеальные модели; реальные МО и их субъекты обычно пребывают в
состоянии, занимающем промежуточное между описанными полюсами
положение.
Такое понимание МО, однако, дает возможность приблизительно
очертить вероятную структуру общей теории международных отношений
как процесса, в идеале и в историческом масштабе времени ведущего к
трансформации совокупности изначально разрозненных, взаимно
отчужденных социумов в интегрированное целое, обозначив тем самым
предмет этой теории. По мере теоретического изучения МО структура теории
МО, видимо, будет стремиться к включению в нее:
I) раздела, посвященного международным явлениям и процессам,
основное содержание которых подлежит анализу в реальном масштабе
времени (менее одного абсолютного модуля продолжительности - АМП, то
есть тридцати лет; см, темы 4 и 5):
-концепции между народной жизни как явления, охватывающего все
сферы современности и служащего базой, первоосновой явлений более
сложного и "высокого" характера. Эту нишу отчасти заполняют сейчас
конкретно-описательные исследования интернационализации,
международных обменов, связей и коммуникаций;
- концепции международной политики в мировом, региональном и
локальном измерениях последней (международных политических и иных
взаимодействий, международного общения, многосторонних и/или
международных организаций, общественных движений и т.п.);
- концепции отдельных аспектов, типов и видов конкретных
международных взаимодействий (например, переговорного процесса,
конфликтов, определенных видов поведения-санкции, сдерживания, разного
рода принуждений и т.п.);
II) раздела, посвященного международным явлениям и процессам,
основное содержание которых обнаруживается обычно лишь в социальном
масштабе времени (до трех АМП):
- концепции субъектов МО определенных эпохи, периода; эволюции
типа субъектов МО сообразно эволюции самих МО и мировому развитию,
включая концепции процесса формирования и осуществления внешней
(международной) политики субъектов МО;
- концепции межгосударственных отношений, включая как их
традиционные военно-силовые формы, так и иные: сотрудничества,
взаимозависимости, интеграции;
- концепции мирового порядка и стабильных структур МО как
явлений, способных развиваться на основе относительно долгих периодов
международной стабильности (понятие и содержание явления миропорядка,
конкретные его виды, природа и значение для эволюции МО как явления
структур типа ООН, а также ОВСЕ, НАТО, АСЕАН, иных региональных
систем сотрудничества);
III) раздела, посвященного международным явлениям и процессам,
основное содержание которых способно реализоваться только в
историческом масштабе времени (более трех АМП):
- концепции соотношения стабильности и безопасности,
стабильности и перемен, безопасности и развития собственно в МО, а
также на стыке МО, международной жизни в целом и мирового развития;
- концепции явления и процессов глобализации, последствий их для МО
в целом, различных вариантом миропорядка и стабильных структур МО, для
формирования иерархии (стратификации) субъектов МО, международных
жизни и политики; формирование явления мирового политического
процесса;
- концепции взаимосвязи МО,'мирового развития в целом с
идеологическими системами, в том числе идеологией .устойчивого развития
(sustainable development);
IV) теории межуровневых переходов, которые включали бы:
- анализ предпосылок, условий и механизмов перехода явлений и
процессов одной временной протяженности в другую, с ней смежную
(например, перерастания текущих процессов в тенденции макросоциальных
протяженности и значимости; этих последних - в исторические, или
наоборот);
- качественный анализ зависимости МО, мирового развития и родовой
жизни человека на планете от факторов экологического, природно-
географического, космического, естественно-физического характера;
- представления о механизмах и закономерностях волновых
(циклических) природы и характера процессов эволюции и развития МО,
международной жизни, человечества в целом;
особенно волновой природе присущих этим процессам переходных
состояний и периодов.
Вырисовывающаяся из общей картины современной науки о МО
гипотетическая структура будущей общей ("узкой", специальной) теории
МО, конечно, не исчерпывающая. Она, однако, позволяет уже сейчас
скоординировать между собой множество частных концепций и "широких"
теорий, четче обозначить "белые пятна" в формирующейся ТМО (связанные
главным образом с необходимостью разработки общей теории процессов и
устойчивых состояний применительно к сфере социально-исторического).
Тема 7. Субъекты мировой политики и международных
отношений:
явление, критерии, основы типологии
Никакие отношения не существуют сами по себе, в отрыве от их
участников. Многовековой монополизм государства в международных
отношениях не требовал определения того, что казалось очевидным, само
собой разумеющимся: МО, дипломатия, внешняя политика, война и мир - все
это есть отношения между государствами.
Три тенденции XX в., особенно второй его половины, сломали эту
самоочевидную гармонию. Развитие института государства вкупе с
интернационализацией всех сфер современной жизни заставили по иному
взглянуть на проблему участия государства в МО. Традиционно оно
складывалось из сочетания дипломатии, военной политики и разведки. Но к
концу XX в. государство из внутренних соображений и интересов не может
не иметь собственных внешней экономической, финансовой, научно-
технической, экологической политик. Данный список минимален, любые
претензии на весомое место в МО расширяют его по диапазону и
содержанию. Означают ли такие тенденции, что постепенно все, чем
занимается государство, составит сферу МО? Если нет, то где пределы, за
которыми роль государства кончается; и что означал бы подобный предел
для самих МО как явления?
Распространение демократии еще более осложнило проблему. С
точки зрения права, от имени государства могут выступать только его
законные органы власти и/или назначенные ими представители. Но наука, да
и реальная политика не могут игнорировать тот факт, что в демократической
стране с многопартийной системой оппозиция имеет отличные от
правительства интересы, оценки, цели. Внешние силы, другие государства
должны считаться с возможностью перемен во внешней политике
демократической страны в случае смены партий, лиц у власти. То есть
оппозиция фактически влияет в какой-то, иногда немалой степени на
отношения демократии с другими участниками МО. Тогда что есть участие
демократического государства в МО; чей голос должна принимать наука за
позицию такого государства? Еще сложнее случай, когда в результате
раскола в стране, ее элите происходит интернационализация внутреннего
конфликта, и внешний мир оказывается перед дилеммой (и искушением):
кому из сторон и по каким основаниям оказать поддержку, а кому отказать в
ней.
Появление в МО второй половины XX в. непрестанно ширящегося
круга новых для этой сферы участников негосударственной природы
(международных организаций, общественных, политических движений и
объединений, транснациональных корпораций и др.) побудило многих
исследователей заговорить даже о "конце эпохи государств" в МО.
Юридически суверенитет и власть государства внутри страны (как
принципы) остаются неизменны. На практике возможности государства
ограничиваются чувствительно, в растущем числе сфер и многими
способами (как прямо, так и косвенно). Особенно сильно ощущают на себе
такие ограничения государства средние и малые: по данным на середину 90-х
годов, ВВП 10 крупнейших корпораций превышал ВВП 100 наименьших
государств мира. Новые участники МО не обладают и не могут обладать
суверенитетом - этим особым признаком, до сих пор выделявшим и
государства, и МО из множества иных институтов и отношений. Ни по какой
шкале не поддаются оценке одними и теми же критериями государство и
новые участники МО - это игроки слишком разных весовых категорий
(причем "разных" не обязательно в пользу государства). Но как-то
сопоставлять вес тех и других в МО надо.
Все перечисленное поставило проблему субъекта МО в связи с
проблемой определения предмета теории МО (см. тему 6). В самом деле,
если одним из центральных признаков МО остается суверенитет их
субъектов, то никакие иные субъекты в МО допускаться не могут. Но
современные МО уже невозможны без международных структур (ООН, ВТО
и тысячи иных) разного типа и назначения. Конец XX в. стал периодом
распространения явления "суверенитета в суверенитете", формально
заложенного еще в структуре бывшего СССР и признанного международно в
1945 г., когда БССР и УССР были приняты в ООН. Но если признак
суверенности оттесняется, замещается способностью фигуранта выходить за
пределы национальных границ, то к МО нужно будет относить спорт,
туризм, организованную преступность, многое иное. Подобное
расширительное толкование МО ведет к размыванию, утрате специфических
объекта и предмета исследований.
Если признаются множественность типов и разнохарактерность, даже
несоизмеримость субъектов в современных МО, то закономерным итогом
такого признания должны стать стратификация субъектов МО по
комплексу общих для всех них критериев, а также систематизация
(типологизация) МО по видам и типам участвующих в конкретных
отношениях субъектов. Выполнение этих задач требует определения
категорий "субъект" и "отношения" применительно к сфере МО.
В западной литературе по теории МО для обозначения участника таких
отношений используется понятие "actor" (дословно "тот, кто действует",
"проявляющий активность", "актор"). Неверно в данном случае переводить
"actor" как "актер": последний всегда играет чью-то роль по заранее
написанному сценарию; "актор" же - только свою, импровизируя ее по ходу
жизни. Это и нс "действующее лицо": под "актором" может пониматься как
индивид, личность, так и (чаще всего) некая структура, вплоть до
крупнейших (государств, ТНК, интеграции). Поскольку за "актором"
признается наличие интересов, целей, представлений и т.п., то по смыслу и
содержанию понятие "актор" синонимично русскоязычному "субъект" (в
английском языке понятие "субъект" отсутствует, а слово "subject", при
внешнем сходстве с этим термином, имеет общие с ним смысловые корни, но
расходится в современном содержании).
Латинское "subjectus" означает "находящийся в основе"', в этом смысле
понятие "субъекта" и "субъективного" использовались античной и
европейской средневековой философией. Современное понимание категории
субъективного ведет начало с Р. Декарта и рождалось в рамках и под
определяющим влиянием философских споров XVII-XVIII вв. о теории
познания. Дискутируя одновременно и с официальным богословием (для
всякой веры истина всегда сокрыта и дается человеку лишь в божественных
по происхождению откровении, озарении), и с философией и наукой своего
времени, которые не шли дальше мысли, что непосредственный опыт и
наблюдение человека, не отменяя промысла Божьего, все-таки имеют
практическое значение, Р. Декарт утверждал: истина открывается отдельному
человеку (а не народу в целом) как итог его собственных размышлений и
сомнений, а не принятия на веру чужих мнений и оценок. Ключевое значение
обретали не сами наблюдение, опыт, но восприятие, истолкование,
объяснение их. На языке науки XX в., субъект, процесс и результат
мышления впервые стали рассматриваться Р. Декартом как отличные
принципиально от остальной материальной субстанции, логически
противостоящие ей. Человек способен постигать и постичь остальной мир;
сам же мир, не обладая даром мышления, обречен оставаться объектом и
предметом познания его человеком.
Высшая способность к постижению принадлежит Богу; Р. Декарт, не
оспаривая этого задолго до него сформулированного утверждения, поставил
на второе место человека, и сосредоточился полностью на нем, его вкладе в
процесс познания. Позднее два первых положения стали восприниматься
наукой как нечто само собой разумеющееся; третье же с течением времени
постепенно начало отождествляться с субъективным, вытесняя из
содержания субъективного все остальное; а затем и противопоставляться
всему существующему вне и помимо мыслящего субъекта, то есть
существующему "объективно".
Приняв декартовскую трактовку субъективного, И. Кант изучал те
законы внутренней организации субъективного, которые открывают
человеку возможность достигать необходимого знания. Итогом стало учение
о категориях как формах регуляции мышления, категориальном синтезе,
представлении субъекта как родового, вмещающего в себя весь исторический
опыт познания. Дальнейшее развитие категорий субъекта и субъективного
связано с именем Г. Гегеля, поставившего в центр внимания (считающего
"субъектом") проблему мышления, абсолютную идею как вечную,
вневременную основу всякого развития.
Марксизм воспринял декартовско-гегелевскую линию анализа,
одновременно радикально, в нескольких отношениях сразу расширив и
изменив понимание "субъекта" и "субъективного" (что имело не только свои
теоретико-методологические "плюсы", но и "минусы"). Субъективное стало
рассматриваться как самостоятельный класс явлений, однако
противопоставление субъективного материальному (в ранних школах
философии означавшее не более чем при-оритезацию факторов в рамках
качественного описания) превратилось почти в пропасть между ними.
Субъект и субъективное непосредственно связываются с практикой, а не
только с явлением, процессом и результатами познания, как это делала
предшествующая философия от Р. Декарта до Гегеля. Открывая новые
возможности для познания человека и общества, такой подход как бы
отдавал субъективное в "заложники" миру объективного с его автономными
от человека законами. Немарксистская философия принимала человека и его
способность к познанию как данность. Марксизм рассматривает то и другое
как продукт истории, культуры и социальной среды. И пока наука не дошла
до открытия системного подхода, прямых и обратных связей, этот в
принципе здравый подход немало поспособствовал еще большему усилению
психологического ощущения "вторичности" субъекта и субъективного по
сравнению с "объективными" явлениями, процессами и их
закономерностями. Центр внимания при этом перешел с личности на массы,
в которых марксизм увидел силу, творящую Историю и преобразующую
бытие. Личность же оказалась растворенной, потерянной в массе. Марксизм
переместил центр тяжести с познания мира на его преобразование
деятельностью активного человека. Задача эта актуальна и для современных
МО, но решаться она может лишь па базе развития познания, использования
его результатов, а не в противопоставлении ему "практики масс".
Так, понятие "субъект" оказалось в атеистически-марксистской линии в
исследовании МО, которая в свою очередь восприняла его из более ранних
течений европейской мысли. Однако между категориями "субъекта" и
"актора", помимо отмеченных сходств, есть различия. Главное из них в том,
правомерно ли считать субъектом (если да, на каких условиях) социальные
образования. Понятие "актора" уходит от постановки вопроса, принимая
способность социальных структур действовать самостоятельно как данность.
Марксизм же отвечает на вопрос утвердительно в плане историческом
("народ-творец Истории"), не оговаривая условий, позволяющих считать
субъектами реальные социальные образования.
Участником событий, процессов, МО в принципе можно оказаться
помимо собственных воли и действий. В последнем случае можно быть
участником МО, не выступая при этом ни актором, ни субъектом этих
отношений. Учитывая, что фигурантами МО выступают исключительно
социальные образования различного рода; что категория "актора" до сих пор
уходила от постановки проблемы условий превращения суммы индивидов в
единое целое; -предпочтительным представляется использование в теории
МО понятии "субъект", "субъект МО".
Понятие субъекта применительно к МО и теории МО используется
нами в его операциональном смысле (прикладном, практическом, а не
философском): под субъектом подразумевается "некто", имеющий
способность познавать и действовать в собственных интересах и целях на
основании результатов познания, а также осмысления опыта (своего и
социального). и фактически пользующийся этими своими способностями
хотя бы в одной сфере деятельности.
Прикладные социальные дисциплины (социология, социальная и
политическая психология и др.) различают три типа субъектов: личность -
индивид, то есть отдельный человек; контактную группу - ограниченное
число непосредственно общающихся между собой и действующих как
единое целое индивидов (например, команда); и сложные социальные
структуры, разные по масштабам, множеству иных параметров, но единых в
их организации и функционировании.
С позиций наук о человеке, личность всегда субъект по самой ее
природе. Даже если человек от рождения психически неполноценен и/или
признан судом недееспособным, это лишь особое качественное состояние его
как субъекта. Утрата качеств субъекта возможна лишь при "сломе личности"
(особая тема в психологии и психиатрии).
Применительно к социальным образованиям, в которых участвуют
более двух человек, встает проблема определения и доказательства в каждом
конкретном случае их субъектности (наличия у них необходимых и
достаточных признаков субъекта, а также стремления и способности
выступать субъектом определенных отношений). Для социальных
образований, действующих на протяжении длительного времени (годы,
десятилетия и более), их субъектность желательно доказывать
применительно ко всему и/или определенным периодам функционирования
таких образований.
Контактная группа, действующая как единое целое (особенно на
протяжении длительного времени), производит впечатление субъекта.
Однако ее ограниченная численность не позволяет выявить механизмы такой
субъектности: имеет ли здесь место просто высокая степень согласия и
согласованности действий нескольких людей (то есть лишь сумма
субъектов), или же возникает новое качество: "коллективный субъект"
(допустимы первое, второе и некоторое их сочетание).
Многочисленность "населения" всех больших социальных групп и
сложных социальных структур делает практически невозможным их
функционирование на основе только межличностных отношений, требуя
специальных внутренних механизмов обеспечения субъектности,
способности таких образований существовать и действовать как единое
целое. Чем больше индивидов входит в социум, структуру, тем выше
вероятность серьезных расхождений в их социальном и ином положении,
интересах и представлениях, мотивации и т.д. Поиск единства действий
может еще более осложняться значительными физическими размерами
(территорией; масштабом фирмы, движения) и сложностью функций,
которые необходимо или желательно выполнять как для поддержания жизни
и деятельности такого образования, так и для достижения им каких-либо
целей.
Можно выделить комплекс объективных признаков, полный набор
которых только и придает большой социальный группе и/или сложной
социальной структуре субъектность -свойства и качества сложного
социального субъекта. (Неполнота такого комплекса признаков может
свидетельствовать о том, что будущий сложный социальный субъект
находится еще в некоторой стадии становления; переживает сильный и
глубокий системный кризис; или уже достаточно далеко прошел по пути
распада. Полное отсутствие признаков означает, что мы имеем дело с
реальной или аналитической социальной совокупностью, но не с целостным
сложным социальным субъектом.)
Субъект должен существовать как некая реальная "плоть", а не
обобщающее аналитическое понятие. Должны проявляться практические
формы жизни и деятельности субъекта как структуры (а не просто
некоторой суммы людей), без которых нельзя выделить субъект из
окружающей среды и материального мира. Следовательно, должна в
принципе существовать возможность очертить объективные, измеримые
пределы сложного социального субъекта. Для государства это территория,
границы, население; для партии, движения - их численность, наличие
локальных структур, ареал деятельности; для ТНК - материнская фирма(-ы),
экономические параметры, география и содержание ее интересов,
деятельности и т.п.
При этом субъекту должна быть присуща явная и несомненная
целостность, внутренняя органика, самостоятельное качество, а не простая
сумма качеств образующих его компонентов. Применительно к сложному
субъекту это требование означает обязательность хотя бы минимальных
форм социальной организации: только они придают сумме исходных
компонентов новое, системное качество.
Целостность, внутреннее единство социальной организации
(структуры) слагаются из двух неразрывно связанных их частей. С одной
стороны, необходим некоторый организационный "стержень", базовый
модуль (матрица) организации, выполняющий технологические (аппаратные)
и, шире, политические, социально-управленческие и идеологические
функции, связанные с созданием и поддержанием желаемых направленности
и содержания общественного сознания. Последнее крайне важно, поскольку,
с другой стороны, входящие в данную социальную структуру люди, группы,
организации должны сознавать и признавать факт своего включения и
участия в более широкой, нежели они сами, социальной структуре, обычно
обладающей по отношению к ним некими правами, полномочиями, властью.
Это, в свою очередь, предполагает наличие у организации и ее членов
"самосознания организации", конкретными проявлениями которого могут
быть патриотизм по отношению к стране или народу, верность партии,
движению, церкви, идеологии или религии, ведомственная или
корпоративная солидарность и т.п.
Главные признаки любого субъекта - наличие у него мотивов,
целеустремленности, воли и способности действовать ради достижения
стратегических, отсроченных целей, в том. числе принося им в жертву цели
более частные, близкие, непосредственные (подчас в ущерб реальным,
неиллюзорным интересам субъекта). Эти признаки отличают субъекта от тех
даже сложных систем, которые способны только реагировать на изменения в
среде обитания и в самих себе, но не обладают механизмами целеполагания,
воли и самоподчинения. Наличие у сложной социальной структуры таких
механизмов требует существования у нее некоторого "управляющего
центра", способного сформулировать и поставить цели деятельности
субъекта как единого целого. В свою очередь, "управляющий центр" должен
быть способен корректировать поведение субъекта, подчинять действия
внутренних его подсистем установкам, исходящим из управляющего центра.
Поэтому сложный социальный субъект - это такая (и только такая)
реальная физически существующая форма социальной структуры
(организации), которая обладает одновременно и в целостности: (а)
объективным внутренним структурно-организационным единством
(объективной системностью); (б) осознанием себя как целостного и
неделимого образования (системным самосознанием, системной
идеологией); (в) способностью к высшему целеполаганию, отличному от
суммы целей составляющих ее компонентов и подсистем (системным
целеполаганием): (г) способностью формировать и осуществлять
долговременные, рассчитанные на достижение отдаленных макроцелей
стратегии поведения, при необходимости ценой и средствами
самопринуждения (системными стратегиями); (д) развитыми обратными
связями внутри системы, позволяющими подчинять деятельность такой
организации и саму ее структуру достижению общесистемных целей
(системными обратными связями).
Применительно к сфере МО такому определению субъекта могут
отвечать государства, их союзы и интеграции, любые международные
организации, транснациональные корпорации, общественные движения и
ассоциации (при условии, что каждая соответствующая структура обладает
всем комплексом необходимых и достаточных признаков).
Мера и уровень организации сложного субъекта варьируются в
широких пределах. Вследствие внутренних кризисов и/или изменений во
внешних обстоятельствах сложный социальный субъект способен на время
утрачивать свою субъектность, превращаясь на такой период просто в
социальную структуру, а позднее снова восстанавливаться в качестве и роли
субъекта (подобное происходит весьма часто).
"Отношение" суть философская категория, характеризующая факт и
содержание взаимозависимости элементов определенной системы.
"Общественные отношения" предполагают наличие такого рода связей
между социальными группами (от малых до крупнейших), структурами, а
также внутри них в процессе их жизнедеятельности. Международные
отношения -частный случай общественных; специфика категории МО - в
указании на трансграничные характер и содержание отношений.
Философское (то есть предельно абстрактное) понимание категории нс
может иметь непосредственного операционального приложения. Для ее
научно-теоретического и практического использования категорию
необходимо определить также через понятийный ряд, к которому она
принадлежит, построенный по принципу восхождения от конкретного,
частного, низшего К общему, абстрактному, высшему. Для понятия МО
таким рядом является "контакты-нзаимодсйстния-связи-отношения".
Если контакт предельно быстротечен и уже потому ограничивает
потенциальные масштабы как самих участников, так и их возможных целей,
доступных решению в процессе и результате контакта задач, к тому же
нередко случаен, то взаимодействие допускает в принципе увеличение всех
перечисленных параметров как минимум на порядок. Оно, однако, не
обязательно носит стабильный, регулярный характер и также может быть
случайным. Связи устанавливаются на основании стабильных, постоянных
или как минимум регулярных, периодических взаимодействий, а потому в
целом не могут быть случайными (хотя конкретное их содержание
подвержено влиянию случая), и продвигают названные выше параметры
участников и самих связей еще на порядок. Отношения вырастают из
особенно длительных, устойчивых, значимых связей между субъектами и
потому никогда не случайны (по конкретные взаимодействия в рамках
отношений в значительной мере случайны). Отношения допускают
достижение самых высоких масштабов участников и самих отношений, их
исторической продолжительности, значимости решаемых задач и объективно
получаемых результатов (но не каждое конкретное отношение выходит на
эти предельные уровни).
Любая из категорий понятийного ряда "контакт-взаимодсйствие-связь-
отношение" предполагает наличие каких-либо субъектов этих явлений,
процессов: каждая категория обозначает специфический вид
соприкосновения или связей между субъектами, рисунок, структуру и
процесс этих связей, а также материальные, политические, духовные и иные
"продукты", образующиеся в процессе данного вида связей и только через
этот вид. Последствия и результаты такого рода (то есть включающие
познавательные и психологические компоненты, а потому требующие
индивидуального и общественного сознания) возможны лишь в связях и
отношениях между людьми и/или структурами, обладающими собственными
интересами, целями, волей. Правомерно утверждать, что если существует
некоторая совокупность каких-то субъектов, то связей и отношений между
ними может и не быть; но коль скоро есть связи и/или отношения, в них
обязательно представлены субъекты, тип и природа которых определяют
формальную, функциональную и содержательную стороны соответствующих
связей и отношений.
По природе и типу участвующих в них субъектов все контакты,
взаимодействия, связи и отношения делятся на три класса:
мсжличностные, участником и/или субъектом которых выступает
индивид в его собственном качестве; индивид в связях с контактной группой;
а также контактные группы в общении между собой. Главный признак
межличностных отношений - непосредственность общения индивидов и/или
контактных групп друг с другом;
межструктурные, субъектами и/или участниками которых могут
выступать только и исключительно различные сложные социальные
субъекты, но не личность и не контактная группа (последние в этом случае
выполняют роль и функции агентов связей и отношений более высокого
уровня). Классический пример межструктурных отношений - обмен
дипломатией
ческими нотами между государствами. Отличительная черта
межструктурных отношений -принципиальная несводимость их к двум
другим классам, особенно к отношениям межличностным;
смешанные, участниками и/или субъектами которых выступают
одновременно индивид (личность), всевозможные контактные группы и
сложные социальные субъекты: государство, его учреждения, частные
фирмы, общественные организации, юридические лица и т.д. К этому типу
принадлежат международные и межгосударственные отношения.
Контакты и взаимодействия по определению всегда имеют место
только в реальном масштабе времени. Связи способны охватывать диапазон
от реального через социальный до исторического масштабов времени.
Отношения, тоже по определению, могут иметь место лишь в социальном и
историческом масштабах времени. Тем самым во многом предопределяется
распределение субъектов по видам и типам их взаимозависимости: в
социальном и историческом масштабах времени способны действовать
только сложные социальные субъекты (притом наиболее устойчивые среди
них), продолжительность "жизни" которых соизмерима с такими
горизонтами времени. Конечно, субъекты этого типа способны действовать и
действуют также и в реальном масштабе времени, тогда как индивид,
контактная группа в принципе не могут выходить за нижние границы
социального масштаба времени.
В пределах больших групп и сложных социальных субъектов, во
взаимосвязях между ними присутствуют все рассмотренные выше виды и
типы контактов, взаимодействий, связей и отношений по всем горизонтам
времени; в контактных же группах и их взаимосвязях - только
межличностные. В динамике МО особое значение имеет то, что индивид,
занимая определенное место и выполняя функции в сложном социальном
субъекте, преследует при этом свои интересы и цели.
Основу систематизации субъектов МО по видам, типам отношений
разных временных и социальных уровней образуют горизонт времени и
уровень интернационализации жизнедеятельности общества (см. тему 4). В
совокупности два эти фактора задают необходимые и возможные в таких
условиях типы взаимосвязей между субъектами, а тем самым и типы
субъектов-участников этих взаимосвязей.
В реальном масштабе времени трансграничная деятельность всех
видов принимает формы международной жизни (МЖ). Она способна в
принципе распространяться на все сферы деятельности (иной вопрос, какие
из сфер охватывает МЖ фактически в определенный период), включает все
(от контактов до отношений) типы взаимосвязей, и потому открыта
субъектам любого типа - от личности до крупнейших сложных социальных
субъектов. МЖ по сравнению с другими уровнями трансграничных связей и
отношений наименее формальна и минимально структурирована, что
открывает возможности участия субъектам всех типов, но и является
закономерным следствием такого их участия.
Международная политика как специальная часть МЖ регулирует
формальными и еще более неформальными способами и средствами саму
МЖ (наряду с другими действующими на МЖ факторами) и в принципе
также открыта всем видам взаимосвязей, видам и типам субъектов, как и МЖ
в целом (поскольку регулировать ей приходится все виды фактического
участия различных субъектов в МЖ). Но на уровне МП происходит
разделение на "субъектов вообще", субъектов каких-либо конкретных
отношений и связей (кроме политических) и субъектов международной
политики.
"Субъекты вообще" обладают субъектностью и принципиальными
способностями выходить в МЖ и/или МП, но по каким-либо причинам
временно или постоянно не пользуются этими способностями. Тем не менее
они должны быть в поле зрения исследователя и политика, так как при
определенных условиях и/или повороте событий могут резко
активизироваться в сферах МЖ и МП. "Субъекты вообще" - различные
внутрисоциальные структуры, которым может оказаться необходимой
внешняя поддержка; новые силы, движения, еще только приступающие к
поиску контактов и друзей во внешнем мире; фирмы, готовящиеся к внешней
экспансии, и т.п.
Специфика субъектов конкретных отношений понятна из названия -
они участвуют в одной или нескольких сферах МЖ, на постоянной или
периодической основе, в доступных, необходимых и желательных для них
объемах, но по разным причинам (отсутствие потребности, практических
возможностей) не вступают в политическую часть МЖ. Субъекты
конкретных отношений осуществляют основную массу связей в МЖ, от
частного туризма, межшкольных обменов до хозяйственной деятельности
транснациональных корпораций. Именно в этой среде рождаются проблемы,
решать которые призваны уровни международной и мировой политики,
межгосударственных отношений.
Поскольку международная политика - явление широкое, помимо
прочего включающее и политическую часть трансграничных отношений и
связей сугубо локального качества (межплеменных, межэтнических,
конфессиональных; раздел "сфер влияния" местных неформальных сил и их
лидеров и т.п.), то ее субъектами могут быть как личность и контактные
группы, так и сложные социальные субъекты. Главное условие получения
признания в качестве субъекта МП - способность продемонстрировать
реальное (пусть очень ограниченное) влияние в какой-то части МЖ и/или
МП. Поэтому субъектами МП часто пытаются стать и становятся индивиды,
группы и образования, не обладающие никаким созидательным потенциалом,
но сумевшие на время получить "демонстрационные возможности"
(последнее особенно характерно для политического терроризма на любой
почве). Созидательную часть МП образуют локальные политические
механизмы, а также складывающиеся в МП транснациональные
общественные силы и движения, способные в ряде случаев добиваться
внушительного международного влияния.
В реальном масштабе времени функционируют межгосударственные
отношения (МГО) и мировая политика (МирП). Но значение конкретных
событий, явлений и процессов на этих двух уровнях МЖ проявляется
полностью лишь в социальном и историческом масштабах времени. В то же
время их исторический смысл в реальном масштабе времени неоднозначен,
обусловлен теми альтернативами развития, что так или иначе
материализуются в социальном масштабе времени. Отсюда ограничение на
тип субъектов: в МГО и МирП могут действовать лишь сложные социальные
субъекты (но их взаимосвязи охватывают весь типологический спектр - от
контактов до отношений).
Субъектом межгосударственных отношений выступает только и
исключительно государство: иных субъектов в МГО не может быть по
определению. Тем самым государство "автоматически" оказывается
субъектом мировой политики и международных отношений.
Выходя в сферы МГО, МирП и МО, государство действует не
непосредственно, но через своих представителей и уполномоченных: глав
государств и правительств, министров, дипломатов, специально назначаемых
лиц (послы, доверенные лица по особым получениям, главы делегаций на
переговорах и т.д.). В своей деятельности все перечисленные лица опираются
на ведомства, занимающиеся внешними делами (министерства иностранных
дел, обороны, финансов, органы разведки, внешней торговли) и другие
структуры, которым даются полномочия для ведения дел и отношений в их
сферах компетенции.
Осуществляя внешние сношения от имени и по поручению данного
государства, каждое ведомство, каждый представитель государства
привносят в официальный курс личные способности, кругозор, опыт,
информированность, квалификацию; ведомственные и личные интересы и
ценности. В определенных условиях должностное лицо и ведомство могут
забывать об интересах государства, отодвигать их далеко на задний план и
преследовать сугубо собственные цели и выгоды, даже в ущерб своим стране
и государству.
Но как бы ни действовали и чем бы ни руководствовались люди и
организации, представляющие в мире государство, они никогда не
превращаются в самостоятельных субъектов МГО, МирП и МО: таковым
остается (и признается в мире) лишь государство. Его вина и беда, если оно
не сумело найти себе лучших представителей. Но и лучшие, и худшие
представители государства что-то значат в МГО, МирП и МО только до тех
пор, пока продолжают оставаться на назначаемых или выборных постах в
своей стране. Даже высшие представители страны, ее "первые номера"
(главы государств и правительств) не являются самостоятельными
субъектами МГО/МирП/МО: само их присутствие в этих сферах отношений
возможно лишь постольку, поскольку за ними продолжает оставаться
государство. Уйдя от власти, отдельные лица сохраняют (иногда расширяют)
способность влиять на общественное мнение в мире, на позиции каких-то
сил; но действуют при этом уже в личном качестве как субъекты МЖ, но не
субъекты МО/МГО.
Частью межгосударственных отношений выступает международный
порядок - состояние МГО, в целом устойчивое на протяжении срока (двух-
трех и более десятилетий), в течение которого сохраняется неизменным
распределение международно-политических ролей ведущих государств и
союзов эпохи (линии союзов и противостояний, лидеры сотрудничающих и
соперничающих групп государств, страны-активисты и аутсайдеры данного
порядка и т.п.). Поскольку международный порядок суть частный случай
МГО, его субъектами вы ступ а ют только и исключительно государства.
Мировая политика, долгое время оттесненная на задний план
межгосударственными отношениями, со второй половины XX в. в целом
поднимает свое значение (хотя процесс этот идет неравномерно) и,
предшествуя собственно МО как отношениям более долговременного и
сложного характера, как бы вытесняет их собой на более высокий уровень
горизонтов времени и общественных отношений. При этом мировая
политика решает новые для себя задачи, а потому выступает в исторически
новом составе субъектов.
Развивающаяся на уровне МЖ интернационализация экономических
связей и отношений объективно тяготеет к созданию все новых форм
преодоления государственных границ. Естественно, во главе этого процесса
идет крупнейший бизнес, что делает ТНК субъектами МЖ, МП и МирП.
Реакцией на политическое усиление бизнеса и "размывание" прежнего
абсолютного всевластия государства на его территории является
деятельность старых и новых политических сил и движений, создающих свои
международные союзы (Социнтерн, Международный консервативный
альянс, "Гринпис" и т.п.); а также и активность государств, во многих
случаях предпочитающих выступать во внешней сфере не прямо, но через
международные организации и неформальные клубы, имеющие внешне
"общественный" характер.
Субъектами мировой политики оказываются те из обозначенного круга
сложных социальных субъектов, которые способны обеспечить себе
(посредством того или иного набора средств) длительное и в целом
устойчиво высокое, значимое практическое влияние как на
структурообразующие сегменты мирового общественного мнения (СМИ,
различные международные институты и форумы, научный мир), так и на
позиции ведущих государств, а нередко и на состав правительств этих
государств (через международно координируемую деятельность
политических партий и клубов политических и властвующих элит).
В историческом масштабе времени проблема субъектов отношений
возникает применительно к уровням собственно МО, а также мирового
развития (МР). В обоих случаях субъектами отношений выступают лишь
сложные социальные образования: личность и контактная группа не могут:
быть субъектами отношений, на порядки превышающих по длительности
-продолжительность жизни человека, по масштабам-пределы его
индивидуальных возможностей. Тем не менее ограничение круга субъектов
международных (в отличие от межгосударственных) отношений оказывается
сложной задачей.
Личность не может быть их субъектом по определению; но могут ли
быть таким субъектом непосредственно и в прямом смысле народ, нация,
класс? В научной литературе, публицистике часто приходится сталкиваться с
утвердительным ответом на этот вопрос. Согласиться с ним можно, однако,
только в философском и историческом смыслах, но не в операциональном
его приложении к теории МО.
Трудно даже умозрительно представить себе такие практические
формы международных (в прямом смысле слова) отношении, которые
позволили бы непосредственно участвовать в них десяткам и сотням
миллионов людей, к тому же разбросанных по огромным территориям, то
есть физически разобщенных. Еще более невероятно предположение, что
сотни миллионов землян вдруг одновременно ощутили бы одну общую
потребность, побуждающую их вступать в отношения подобных масштаба и
характера. Операционально общечеловеческих интересов и потребностей до
сих пор нет, МО же существуют уже тысячелетия. А главное, если бы
непосредственные отношения между народами вдруг почему-то
понадобились бы и оказались практически возможны, то с научной точки
зрения не было бы никаких оснований выделять их в самостоятельный класс
отношений, какими являются международные; это были бы обычные
межличностныс отношения. Беспрецедентно масштабные, опирающиеся на
предельно мощную мотивацию, на пока неизвестные науке и практике
средства прямого общения миллиардов людей; но по сути своей обычные
межличностные отношения, как те, что складываются между парой
общающихся людей. Специфика же МО не в количественной мере, а в
общественном и историческом качестве.
Из определения МО (см. тему 6) следует, что отличительная их
особенность - не только участие в МО исключительно лишь сложных
социальных субъектов, но и то, что МО как явление живут и развиваются
между такими субъектами в пространстве (физическом, социальном и
когнитивном), не связанном однозначно ни с одним из субъектов-участников
(ничейном, спорном или умозрительном); еще лишенном сложившегося
социально-территориального комплекса; где по этой причине нет ни
завершенной целостности (хотя всегда есть целостность в процессе
становления), ни оформляющих ее политико-организационных структур, ни,
естественно, дееспособной и признаваемой высшей власти. Однако в
пространстве не "пустом", а таком, где присутствуют все же конкретные
взаимодействия, связи и отношения, рождающие у их участников
потребность в установлении правил игры и в обустройстве практических
условий ее ведения, то есть потребность в политическом оформлении
жизнедеятельности.
Все изложенное применимо не только к современным МО или МГО
известных нам типов. Ретроспективно оно полностью справедливо для
исторически начальных связей и отношений между родами, племенами,
этносами. Не исключены и будущие МО между цивилизациями, иными
макросоциальными образованиями (при условии, если будет оформлено их
внутреннее организационно-политическое единство). Далеко не каждая
этноконфессиональная, иная общность, однако, достигает в ходе ее эволюции
такого оформления. Напротив, нередко крупные, ранее целостные общности
распадаются, уступая место более мелким, между которыми
устанавливаются новые МО (распад Римской империи и переход от нее через
феодализм к Европе нового и новейшего времени; эволюция постсоветского
пространства с распадом СССР).
Чтобы стать субъектом МО, сложный социальный субъект должен не
просто вступить в МО, но и удержаться в них, что возможно лишь при
наличии способности постоянно или достаточно регулярно, не эпизодически
присутствовать и действовать во внешнем мире, влиять на других участников
МО. Желающий закрепиться в неких отношениях субъект может добиться
этого лишь через де-факто признание его в этом качестве теми субъектами,
которые ранее образовали отношения и фактически распределили между
собой позиции и роли в них. Опыт доказывает, что борьба за признание и
допуск на значимую роль в системе МО может растягиваться на десятилетия,
трансформируясь по ходу этого процесса в самостоятельные периоды
эволюции МО, в исполненные драматизма переходы от одного миропорядка
к другому.
Насколько правомерно в свете всего изложенного поднимать в
операциональном плане, с позиций теории МО саму проблему субъекта
мирового развития1. Коммунистический эксперимент, поставленный в
бывшем СССР (как ни относиться к самому эксперименту, его итогам и/или к
СССР), объективно с научной точки зрения свидетельствует, что человек
пока не располагает ни теоретическими знаниями, ни необходимым
арсеналом социальной инженерии для того, чтобы иметь возможности быть
хозяином своей судьбы в историческом масштабе времени и на
макросоциальных уровнях (от государства и выше).
Однако переход от стихийных (а потому неизбежно силовых и,
следовательно, трагических) путей и форм социальной эволюции к осознанно
направленному общественному развитию диктуется даже не столько
моралью и тем более не любознательностью науки, сколько императивом
выживания человечества на все более густозаселенной, испытывающей
растущий дефицит ресурсов планете, перенасыщенной военными и
гражданскими средствами ант-ропогенных катастроф. Иными словами,
человек в интересах своего родового выживания должен стать субъектом
собственного развития в операциональном, а не только философском
смысле - но в историческом масштабе времени и на макр'осоциальном
уровне. В пределах рассматриваемой нами темы это означает, что
получающие выход в МО социально-территориальные системы (комплексы)
должны будут на постоянной основе, а не от случая к случаю, действовать
осознанно, как единое целое, притом в долговременном масштабе и в
общесистемных своих интересах. Пока вся политологическая литература
едина в признании того, что современные демократии по их природе
системно ориентированы на мышление и действия в пределах срока
очередных выборов и весьма уязвимы перед давлением со стороны групп
специальных интересов.
Применительно к проблеме субъектов МО и МР особое значение имеет
деление сложных социальных субъектов по типу и характеру их
происхождения на первичные (сложившиеся стихийно, исторически) и
вторичные (образуемые специально, целенаправленно). Исторически в МО и
тем самым в МР доминируют первые. Динамика современных МО, однако,
оказывается все более тесно связанной со вторыми, которые в принципе
более отвечают требованиям осознанной субъектности.
Первичные сложные социальные субъекты имеют долгую непростую
историю (от нескольких веков до тысячелетий). Они объемлют своими
институтами и нормами все социальные отношения в данном социуме,
отличаются общей инерционностью и (нередко) кажущейся размытостью
социально-политической структуры. Их самосознание теснейшим образом
связано с исторически присущими такому субъекту системами воззрений,
религией, идеологией. Народы и территории, исторически сложившиеся в
такой субъект, обычно в дальнейшем не могут выйти из его состава либо
такой выход предельно затруднен. Самороспуск, самоликвидация первичного
субъекта не предусматриваются или прямо запрещены. Политический финал
его наступает вследствие особенно мощной агрессии извне или
катастрофических внутренних потрясений. Основной тип первичного
сложного субъекта - исторически долго формировавшееся государство:
другой тип - институционально оформленные мировая религия (Ватикан),
идеология.
Вторичные сложные социальные субъекты создаются специально в
более или менее осознаваемых, вербализированных целях, постановка
которых уже несет в себе неизбежность их глубокой ревизии, даже отказа от
них под влиянием неодолимых перемен во внутренних и/или внешних
(международных) условиях. Самосознание подобных субъектов
раскрепощено осознанием потенциальной возможности такого поворота
судьбы. Это, с одной стороны, делает неизбежным прекращение рано или
поздно существования вторичного субъекта (не тождественное физической
его гибели и обычно принимающее форму реорганизации, трансформации).
С другой стороны, до наступления такой конечной стадии вторичный
субъект обнаруживает значительную гибкость в организационном
приспособлении ко всем переменам, что позволяет ему избегать
катастрофических потрясений, снижать масштабы и ограничивать издержки
неизбежных кризисов и дестабилизации. При создании вторичного субъекта
обычно предусматриваются условия и процедуры возможных реорганизации,
роспуска, добровольного выхода участников из его состава. К сложным
субъектам вторичного типа в сферах МЖ/МП/МО/МР могут быть отнесены
международные организации, а также государства и межгосударственные
объединения, получившие политическое оформление уже в XX в., особенно
второй его половине на принципах союзов, интеграции и конфедераций.
Последствия этого для реалий и теории МО еще предстоит выяснять.
Вам также может понравиться
- Косолапов - анализДокумент47 страницКосолапов - анализTetianaОценок пока нет
- Циганков ТМВДокумент316 страницЦиганков ТМВTetianaОценок пока нет
- Циганков социологияДокумент211 страницЦиганков социологияTetianaОценок пока нет
- Проблемы категоризации при контент анализеДокумент9 страницПроблемы категоризации при контент анализеTetianaОценок пока нет