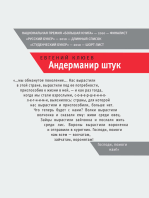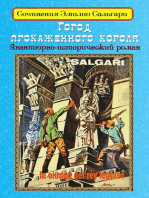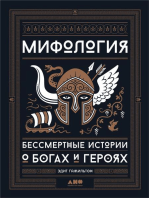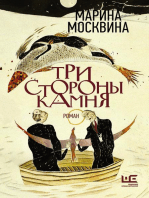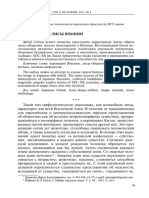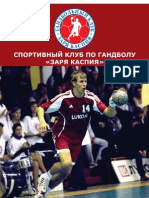Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
OWLS TEXT Fin 0
Загружено:
avnesterov0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
5 просмотров13 страницA paper on owls in arts in XVII century
Оригинальное название
OWLS_TEXT_Fin_0
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документA paper on owls in arts in XVII century
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
5 просмотров13 страницOWLS TEXT Fin 0
Загружено:
avnesterovA paper on owls in arts in XVII century
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 13
Антон Нестеров (МГЛУ)
«И всегда отличать одно от другого», или о «символических
контекстах» совы и филина в европейской живописи XV – XVII
вв.
Что же касается поучения, каким мир
должен быть, то к сказанному выше
можно добавить, что для этого
философия всегда приходит слишком
поздно. В качестве мысли о мире она
появляется лишь после того, как
действительность закончила процесс
своего формирования и достигла своего
завершения. <…> Когда философия
начинает рисовать своей серой краской
по серому, тогда некая форма жизни
стала старой, но серым по серому ее
омолодить нельзя, можно только
понять; сова Минервы начинает свой
полет лишь с наступлением сумерек.
Гегель. Философия права.
У А.А. Милна в «Винни-Пухе» есть сценка – Кролик приходит в
гости к Сове:
«Он подошёл к двери, позвонил и постучал; потом снова постучал и опять
позвонил. Словом, он звонил и стучал, стучал и звонил до тех пор, пока,
наконец, наружу не высунулась голова Совы и не сказала:
– Убирайся, я предаюсь размышлениям, – ах, это ты!
Сова всегда так встречала гостей»1.
Милн в своей детской книжке иронично обыгрывает ту
символическую роль, которой наделяет сову европейская культура – птица,
олицетворяющая мудрость, атрибут Афины Паллады, эмблема учености…
Ученость Совы из «Винни-Пуха» оставляет желать сильно лучшего: «хотя
она была очень-очень умная и умела читать и даже подписывать свое имя –
С а в а»2 (как видим, с ошибкой), ее «ученые» советы бесполезно-
бессмысленны, а действия – совершенно неадекватны обстоятельствам. Так
что назвать милновскую Сову «птицей мудрости» можно разве что с очень
большой натяжкой.
Но примерно такую же, как у Милна, «репутацию» сов мы
обнаруживаем и в культуре Возрождения и раннего Нового времени: гораздо
чаще сова олицетворяет не мудрость, а ограниченность и косность, и с ней
связано больше отрицательных, чем положительных символических
коннотаций.
Характерным образом, суммируя символические значения, связанные
с совой в христианском искусстве, Джордж Фергюсон пишет: «Так как сова
скрывается во тьме и боится света, она символизирует Сатану, Князя Тьмы.
И как Сатана обманывает род людской, так сова вводит в заблуждение птиц,
так что они попадаются в силки, расставленные охотниками. Также сова
символизирует одиночество, и этим объясняется ее появление в сценах,
изображающих отшельников за молитвой. С глубокой древности считалось,
что сова наделена мудростью, потому она часто изображается рядом со св.
Иеронимом. В несколько ином значении сова выступает атрибутом Христа,
принесшим себя в жертву, дабы спасти сынов человеческих, «просветить
сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лк
1:79), потому сова присутствует на некоторых изображениях Распятия»3.
Символам свойственна текучесть – истолкование их зависит от
контекста, воображения созерцающего, это всегда – пульсация смыслов. Еще
средневековый богослов Петр из Поитеры (ок. 1130–1215) говорил, что
символ может совмещать противоположные значения – так, лев олицетворяет
Христа, ибо ему неведом страх, но ярящийся лев указывает на дьявола4. Но
«совиная символика» интересна тем, что отчасти позволяет проследить сами
механизмы, формирующие полисемантическое наполнение символа, пути его
генезиса.
В античности сова прочно связывалась с культом богини Афины,
выступая ее устойчивым атрибутом. В Афинах начиная примерно с 510 г. до
н.э. на протяжении нескольких веков чеканили серебряные монеты –
тетрадрахмы, на аверсе которых изображался лик богини – покровительницы
города, а на реверсе – ее священная птица, сова (если быть точным –
домовый сыч, Athenae noctua) (Рис. 1).
При этом интересно, что сам миф, связанный с этим атрибутом богини,
дошел до нас только в латинских источниках. Его приводят Овидий в
«Метаморфозах» (2 – 8 гг. н.э.), Гигин в «Мифах» (II в. н.э.), присутствует он
и в двух Ватиканских мифографах (Первом (последняя четверть IX в. н.э.) и
Втором (XI в. н.э.))». Совой Афины стала Никтимена, превращенная богиней
в сову.
Овидий, по сути, не столько пересказывает миф, сколько упоминает его
– по всей видимости, считая общеизвестным – и даже не считает нужным
уточнять, в какую именно птицу превратилась Никтимена:
…an quae per totam res est notissima Lesbon,
non audita tibi est, patrium temerasse cubile
Nyctimenen? avis illa quidem, sed conscia culpae
conspectum lucemque fugit tenebrisque pudorem
celat et a cunctis expellitur aethere toto.'
(Ovidius Metamorphoses 2. 591 – 595)5
О преступлении том, которое знает весь Лесбос,
Разве же ты не слыхал? Никтимена на ложе отцово
Как покусилась? Она, — хоть и птица, — вину сознавая,
Взоров и света бежит и стыд скрывает во мраке,
И прогоняют ее все птицы в просторе небесном.
(Пер. С. Шервинского)
Гигин передавая историю Никтимены лапидарно, все же дает ряд важных
деталей:
«Nyctimene Epopei regis Lesbionun filia virgo formosissima dicitur fnisse.
hanc Epopeus pater amore incensns compressit: quae pudore tacta silvis
occultabatur. quam Minerva miserata in noctuam transformavit, quae pudoris causa
in lucem non prodit sed noctu paret»6.
[Никтимена, дочь Эпопея, царя Лесбоса, была, как говорят, очень
красивой девушкой. Ее отец Эпопей, охваченный любовью к ней, сочетался с
ней. От стыда она пряталась в лесах. Минерва, пожалев ее, превратила в
сову, которая по причине стыда не выходит при свете, но показывается
только ночью (Пер. Д. Торшилова)7.]
«Первый Ватиканский мифограф» следует за Овидием, по сути,
пересказывая его:
«Nyctimone, postquam cum patre concubuit et agnouit facinus, se in siluis
abdidit et lucem refugit; ubi deorum miseratione conuersa est in auem. Quae pro
tanto facinore auibus est ammirationi»8.
[Никтимона (Sic), сойдясь с родным отцом и узнав о совершенном ею
преступлении, скрылась в лесах и избегала света дня. Боги из сострадания
превратили ее в птицу. 2. Но и птицы, <глядя на нее>, цепенеют от столь
безобразного преступления (Пер. В.Н. Ярхо)9.]
А вот второй Ватиканский мифограф указывает, что за птица – и
почему именно она – является атрибутом Афины:
«In huius tutelam noctuam ponunt quod sapientia etiam <in> obscuritate
proprium fulgorem teneat».
[Её считают покровительницей совы, чтобы мудрость даже в темноте
сохраняла свой блеск.]
А рассказывая историю Никтимены, ставшею этой совой, указывает:
«Alii dicunt filiam Preti fuisse patrisque uim timentem aufugisse quam Minerua
mutauit in noctuam10.
[А другие говорят, что она была дочерью Прета, и боясь силы отца,
убежала, и Минерва превратила ее в сову.]
Отметим важную для нас деталь: два из четырех источников, Гигин и
Второй Ватиканский мифограф, четко указывают, какая именно птица из
отряда совообразных является атрибутам Афины – это «noctuae», домовый
сыч.
Однако у Овидия в «Метаморфозах» упомянут еще один «совиный»
миф, связанный с атрибутикой совсем другой богини: это история Аскалафа,
сына Ахеронта, который поведал богам, что Персефона нарушила условие,
которое боги выдвинули залогом ее возвращения на землю из мрака Аида:
она не должна была ничего вкушать в царстве мертвых, Аскалаф же
рассказал, что она ела там зерна граната – и в отчаянье Персефона
превратила юношу в филина:
…ingemuit regina Erebi testemque profanam
fecit avem sparsumque caput Phlegethontide lympha
in rostrum et plumas et grandia lumina vertit.
ille sibi ablatus fulvis amicitur in alis
inque caput crescit longosque reflectitur ungues
vixque movet natas per inertia bracchia pennas
foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus
ignavus bubo, dirum mortalibus omen.
(Ovid Met. V, 543 – 550)
Стон издала владычица тьмы, и отверженной птицей
Стал чрез нее Аскалаф: окропив флегетоновой влагой
Темя его, придала ему клюв и округлые очи.
Он, потерявший себя, одевается в желтые перья
И головою растет; загибаются длинные когти;
Новые крылья еще непроворными зыблет руками.
Гнусною птицей он стал, вещуньей грозящего горя,
Нерасторопной совой, для смертных предвестием бедствий.
(Пер. С. Шервинского)
Заметим, что в латинском тексте у Овидия здесь названа совсем другая
птица: «bubo» – «филин». У Апполлодора в «Мифологической библиотеке»
в связи с историей Аскалафа сказано “
». В переводе В.Г. Боруховича эта фраза звучит как
«Аскалафа Деметра превратила в филина»11. Greek-English Lexicon – Liddell
& Scott – дает для слова «» определение «a horned or earned owl» – и обе
эти птицы принадлежат к роду Bubo – филинов, а не сов.
Тем самым, в античной традиции присутствуют две птицы, связанные с
богинями: сова Афины (Ср.: Ян Саендрам по рисунку Хендрика Гольциуса.
1575 – 1652. Афина. Рейксмюсеум, Амстердам – Рис. 2) и филин Прозерпины
(Ср.: Криспин дю Пассе. Прозерпина. (1611 – 1637. Рейксмюсеум,
Амстердам. Рис. 3). И если с первой связаны ассоциации благие, со второй –
исключительно дурные. Так, Плиний в естественной истории пишет:
«Ночные птицы также имеют изогнутые когти, например noctuae
(домовой сыч), bubo (филин), ululae (совка). Все они днем подслеповаты.
Филин – кладбищенская птица похорон и считается крайне дурным
предзнаменованием, особенно во время общественных ауспиций; он обитает
на пустошах и в местах, куда редко наведываются – устрашающих и
труднодоступных, он – дурное знамение ночи (noctis monstrum), голос его –
не пение, но крик. Потому, если видят его в городе или днем – в любом
случае, это зловещие предзнаменование; однако я знаю ряд случаев, когда он
садился на крышу частных домов – и это не имело каких-либо дурных
последствий»12.
В ряде средневековых бестиариев прослеживается последовательное
разделение двух птиц, но… осложненное некоторыми лингвистическими
трудностями. Дело в том, что бестиарии – род моралистической
христианской литературы, и привычки животных в них уподобляются
поведению праведника или грешника, а описания того или иного вида
ориентированы на библейские тексты. Но для Западной Европы вплоть до
Реформации – это Вульгата, то есть, перевод св. Иеронима, выполненный в
ветхозаветной части с греческой Септуагинты, созданной в III – I в. до н.э. в
Александрии.
И интересующие нас птицы упоминаются в Библии в нескольких
местах (приведем цитаты из Синодального перевода с указанием в
квадратных скобках соответствующих греческих и латинских слов,
использованных 70-ю Толковниками и Иеронимом: Левит 11 : 16–17: «<Из
птиц же гнушайтесь сих …> страуса, совы, [ – в Септуагинте, noctua
– в Вульгате] чайки и ястреба с породою его, филина [ – в
Септуагинте, bubo – в Вульгате ], рыболова и ибиса»; Второзаконие 14 : 15–
16: <Но сих не должно вам есть …> и страуса, и совы [ – в
Септуагинте, noctua – в Вульгате], и чайки, и ястреба с породою его, и
филина [ – в Септуагинте, herodius – в Вульгате] , и ибиса, и
лебедя», 1 Царств 26 : 20 «ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как
гоняются за куропаткою [ – в Септуагинте, perdix – в Вульгате]
по горам»; Псалтирь 101 : 7: «Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как
филин [ – в Септуагинте, bubo – в Вульгате] на развалинах».
Как видим, для «совы» в Септуагинте последовательно используется
слово «noctua», а вот греческое слово «», образованное из двух
слов «» – «ночь» и «» – «ворон» передается в Вульгате по-
разному: и как «bubo» – «филин», и как «perdix» – «куропатка», и как
«herodius» – «цапля». С осторожностью можно предположить, что перед
нами слово, обозначающее не столько видовую, сколько родовую
принадлежность – ночную птицу: от совообразных до «ночной цапли», т.е.
квакши обыкновенной, и козодоя.
Название «» явно вызывает проблемы у средневековых
читателей и переводчиков – так, в написанном на латыни «Абердинском
бестиарии» оно присутствует в виде латинизированного заимствования-
кальки и используется для обозначения совы – именно она изображена на
миниатюре, предваряющей текст. Что до самого текста, он гласит:
«De nicticorace Factus sum sicut nicticorax in domicilio. Nicticorax est avis
que amat tenebras noctis. In parietinis habitat quia in ruinis maceriarum que sunt
sine tecto domicilium servat. Lucem refugit, in nocte volitans cibum querit.
Mystice nicticorax Christum significat qui noctis tenebras amat, quia non vult
mortem peccatoris sed ut convertatur et vivat. <…> Habitat nicticorax in rimis
parietum quia Christus nasci voluit de populo Judeorum: Non sum inquit missus
nisi ad oves que perierunt domus Israel. <…> Lucem refugit, quia vanam gloriam
detestatur et odit<…> De hac luce dicitur: Auferetur ab impiis lux sua, id est
presentis vite gloria. Lux igitur refugit lucem, id est veritas humane glorie
vanitatem. <…> In nocte volitans escas querit, quia peccatores in corpus ecclesie
predicando convertit»13.
[О никткораксе. «Я как никторакс на развалинах» [Пс. 101 : 7].
Никтокоракс – птица, любящая тьму ночи. Она живет на руинах, ибо селится
в разрушенных остовах домов без крыш. Бежит света, летая в поисках пищи
в тишине ночи. На уровне мистической аналогии никторакс олицетворяет
Христа, который любит ночную тьму, ибо не хочет, грешникам смерти – а
именно их олицетворяет тьма, но хочет, чтобы те обратились и жили [Иез. 18
: 32]. <…> Никторакс живет в трещинах стен, подобно тому, как Христос
родился среди еврейского народа, сказав: «Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева» [Мф. 15 : 24]. <…> Христос бежит света, который
есть тщеславие, оно же ему – противно и ненавистно. <…> Сказано о
таковом свете «Чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их
сокрушилась» [Иов 38 : 15] – ибо подобный свет есть ни что иное, как
восхваление тщеты. <…> В ночи же летает в поисках пропитания подобно
тому, как Христос проповедуя обращает грешников в тело церкви»].
Использование латинской кальки с греческого слова в «Абердинском
бестиарии» несколько странно – тем более, что в Вульгате в переводе
соответствующего псалма стоит, как уже говорилось выше, «bubo» –
«филин». Ответ, видимо, отчасти заключается в том, что автор бестиария
опирался здесь на греческий «Физиолог» – последовательность
развертывания латинского текста и проводимых в нем параллелей ясно
указывает на это, так что, видимо, оттуда и пришел греческий «никторакс»*.
*
Характерным образом, и в русских переводах «Физиолога» слово «» вызывает у переводчика
проблемы: он не может подобрать ему правильное означающее в родном языке и переводит единое слово
разложением на компоненты, из которых оно составлено, так что появляется «ночной вран»: «Рече
Псаломьникъ: «Быхъ яко нощныи вранъ на нырищи». Фисилогъ рече, птица си любить нощь паче дне.
Господь же нашь Исус Христос възлюби ны «во тме седяще и сени смертнеи» , люди сътранныя, паче
июдеи, имже и сыновьство от человекъ обещание приемьшимъ. Да темь Спасъ глаголаше: «Не боися, малое
мое стадо, яко благоволи Отецъ мои дати вамъ царствие небесное» и прочее. Но речеши ми, яко нощныи
вранъ нечисть по Закону. Добре апостоль рече: «Не виде греха, законныи грехъ сотвори» и поубожи ся, да
Но также можно параллельно предположить, что здесь присутствует
явное желание вывести «авиарные» ассоцииации Псалмопевца из
негативного контекста, связанного с филином, bubo, который в Абердинском
бестиарии описывается следующим образом:
Unde Rabanus: Bubo inquit, in tenebris pecca torum deditos, et lucem
iusticie fugientes significat. Unde inter immunda animalia in Levitico deputatur.
Unde per bubonem intelligere possumus quemlibet peccatorem. <…> Avis feda
esse dicitur, quia fimo eius locus in quo habitat commaculatur, quia peccator illos
cum quibus habitat, exemplo perversi operis dehonestat14.
[Рабан в связи с этим говорит: "Филин означает тех, предался тьме
греха и бежит света праведности". Потому упомянута птица сия среди
нечистых в книге Левит (Левит 11, 16). Следовательно, мы можем почитать
филина за обозначение всякого грешника. <…> Говорят, что птица сия
нечиста, ибо пачкает гнездо свое своими же нечистотами, подобно тому, как
грешник бесчестит тех, с кем рядом живет, являя им пример неправедной
жизни...].
Филин, bubo – это олицетворение зла, но для авторов Абердинского
бестиария Псалмопевец не может отождествляться со злом, и перед нами
попытка от этой связи, поелико возможно, уйти.
Тем самым, мы видим, как средневековая традиция западного
христианства, опирающаяся на латинский текст Вульгаты, формирует два
поля ассоциаций, связанных с семейством совиных птиц – с совой, noctua
будут связаны довольно нейтральные, а иногда и вполне положительные
ассоциации, тогда как с филином, bubo – резко негативные. Перед нами, по
сути, та же линия, что идет от античности, где благая, мудрая сова выступает
атрибутом Афины, а мрачный филин связан с Прозерпиной.
Вот только дальше это проецируется на национальные языки – со
всеми их отличиями и совершенно разными корнями для обозначения
соответствующих птиц, и тем фактом, что художники далеко не всегда были
по совместительству блестящими орнитологами.
И все же, если посмотреть, как это проекция происходит, в
европейской живописи Ренессанса и раннего Нового времени можно
выделить несколько мотивных групп, по которым будут распределяться
символические ассоциации, связанные с изображениями представителей
семейства совиных.
В венском Музее истории искусств хранится «Покаяние св. Иеронима»
(1502) Лукаса Кранаха Старшего (Рис. 4): на переднем плане фигура
коленопреклоненного перед распятием святого, левая его рука поднесена к
лицу, правая отведена назад, и в ней сжато яблоко, напоминающее о
первородном грехе. За спиной Иеронима возвышается кряжистое дерево с
развилкой, на ветвях которого сидит пара птиц: попугай (вверху) и филин
вся спасетъ и да възнесетъ» - Физиолог. СПб: Наука, 1996. С. 15.. Заметим, что «ночной вран»
присутствовал в русской церковной традиции – в изводах Библии на старославянский – вплоть до редакции
перевода библии 1751 г., где интересующий нас стих псалма передан как «Ѹ҆подо́ бихсѧ неѧ́сыти
пѹсты́ ннѣй, бы́ хъ ѩ҆́кѡ нощны́ й вра́нъ на ны́ рищи» - Елизаветинская Библия
1751: https://bible.by/elzs/19/101/.
(внизу). Изображение попугая вполне типично для сцен, связанных с
мотивами первородного греха: согласно легенде, попугай был единственной
птицей, которая подняла крик, когда Ева потянулась за яблоком на Древе
познания – так он пытался ей помешать. Кроме того, попугай может
выступать атрибутом Богоматери, ибо в его крике слышится «Ave», и так
птица славит Приснодеву15. Филин же, изображенный на дереве ниже
попугая, символизирует грешные помыслы и искушения, обуревающие
святого, а само расположение птиц на картине указывает, что Иерониму
удается с ними совладать. Кранах на этом полотне двух птиц, создает своего
рода идеальную парадигму, позволяющую «верифицировать»
символическую интерпретацию сов во множестве работ других художников.
Тот же мотив искушения видимо, придан сове, появляющейся у Босха
на «Триптихе св. Вильгефортис» (1497, Галерея Академии, Венеция. Рис. 5).
На центральной панели триптиха изображено мученичество св.
Вильгефортис. Согласна легенде, она была дочерью царя-язычника,
принявшей христианство и не желающей выходить замуж вне уз
христианского брака. Отец же настаивал на том, чтобы она вышла за одного
из сватавшихся к ней князей, тогда девушка взмолилась Богу об избавлении
от нежеланного союза – и чудом у нее выросла борода. Жених в ужасе
отказался от брака – и разгневанный отец велел распять дочь-ослушницу.
Именно сцену распятия и изображает центральная панель босховского
триптиха. На переднем плане слева нарисован упавший в обморок
несостоявшийся жених Вильгефортис – причем взгляд зрителя привлекает
сова, вытканная выше колена на чулках-штанах юноши. Композиционно этой
детали отдано примерно то же место, что черепу Адама в изножии Креста в
сценах Голгофской казни – согласно ряду Апокрифов, Адам был похоронен
на Голгофе, а пролившаяся на него кровь Христа совершенно буквально
смывает с рода людского Адамов грех. И в таком контексте сова,
несомненно, представляет то искушение «человеческим, слишком
человеческим», которые Вильгефортис преодолела ценою мученичества.
У Альбрехта Дюрера на рисунке тушью с проработкой акварелью
«Мария среди животных» (1503, галерея Альбертина, Вена. Рис. 6) в правом
углу можно разглядеть двух птиц: притаившегося в дупле сухого пня филина
– соотносимого с дьяволом, который с рождением Христа утрачивает власть
над миром и вынужден теперь таится и действовать обиняком, и
нахохлившуюся сову, расположившуюся на земле слева от того же пня – она
символизирует древнюю мудрость, которая уступает теперь место мудрости,
принесенной Христом.
Этой здравомыслящей мудрости мира сего порой отдается должное –
как на одной из эмблем Жан Жака Буассара из сборника 1594 г. с девизом
«Expers Fortunae est sapientia» – «Мудрость свободна от капризов судьбы»
(Рис. 7) где изображена женщина, читающая за кафедрой книгу – справа от
нее сидит «мудрая» сова, а сзади по реке плывет челнок Фортуны, но
женщина его игнорирует. Можно указать и на гравюру Хендрика Гольциуса
«Суд Соломона» (1604. Рейксмюсеум, Амстердам. Рис. 8) под балдахином
трона над головой царя восседает сова.
И все же чаще отношение художников к этой мудрости более, чем
настороженное – лишь шаг отделяет ее от ереси – и обычно этот шаг уже в
прошлом. Этот мотив явственно звучит у Босха в триптихе «Искушение
святого Антония» (1505 – 1506, Музей старинного искусства, Лиссабон), где
на главной панели представлена в центре развертывается дьявольская месса
(Рис.9): негритянка держит дискос, на нем восседает некое существо,
одновременно напоминающее младенца и жабу, и держит алхимическое
яйцо; стоящая слева от нее женщина в уборе, пародирующем папскую тиару,
предлагает сосуд с «вином [псевдо]причастия», за которым тянется мужчина
со свиной головой – на голове же у него устроилась сова, символизирующая
«мудрость мира сего» – многомудрие ереси – причем, ереси сладкоголосой,
что подчеркивается лютней, которую мужчина сжимает под мышкой16. Этой
сцене вторит и полустертый рельеф на полуразрушенной стене справа: в его
центральном поясе изображена мартышка – олицетворение дьявола, который
есть «обезьяна Бога», сидящая на барабане (что прочитывается как отсылка к
Первому посланию коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий»
(1 Кор. 13 : 1) и принимающая жертвенные подношения – а за всем этим из
нише в стене наблюдает сова (Рис.10).
При этом хотелось бы подчеркнуть: символические значения тех или
иных деталей любого полотна следует интерпретировать, исходя из общей
структуры данного произведения. Так, сюжет босховского «Св. Иеронима за
молитвой» (1505, Музей изящных искусств, Гент. Рис. 11), вполне вторит той
кранаховскому «Покаянию св. Иеронима», о котором говорилось выше, при
том, что композиционно работы Босха и Кранаха весьма сильно отличаются.
У Босха Иероним изображен в центре композиции распростертым справа
налево на камне и сжимающим в руках распятие. На картине тоже
представлен филин, сидящий на гнилом стволе поваленного дерева. Однако
не надо переносить интерпретацию того, что делает на полотне эта птица, с
работы Кранаха на босховскую картину. В левом нижнем углу у Босха мы
видим свернувшегося калачиком и спящего у входа в нору лиса, а на ветках
дерев, изображенного в левом верхнем углу – пару птиц и гнездо с кладкой.
По сути, это прямая визуализация евангельского стиха: «Лисы имеют норы, а
птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить
главу» (Мф. 8 : 20)17. И тогда филин на этой картине соотнесен со стихом
Псалмопевца: ««Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на
развалинах» (Пс. 101 : 7).
Но чаще во времена Возрождения сова/филин ассоциировались с
дьяволом. Так на гравюре Мастера Амстердамского кабинета «Встреча
Марии и Елизаветы» (1480 – 1485. Рейксмюсеум, Амстердам. Рис. 12),
отсылающей к рассказу евангелиста Луки о посещении Богоматерью сразу
вскоре Благовещения своей двоюродной сестры Елизаветы, которая
встретила ее словами: «благословенна Ты между женами, и благословен плод
чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
(Лк. 1 : 42 – 43), представлены обнимающиеся на пороге дома Мария и
Елизавета, ее муж Захария, стоящий в дверях, и входящий во дворик дома
Иосиф. Задником же этой сцены служат далекие купы деревьев и стайка
мелких птиц, прогоняющих от своих гнезд сову. Параллель здесь очевидна –
птахи прогоняют ночного хищника подобно тому, как Иисус и Иоанн
Предтеча (которого вынашивает во чреве Елизавета) положат конец власти
князя мира сего над людскими душами. Заметим, что о нападении стаек
мелких птиц на сов днем говорит еще Аристотель в «Истории животных»: «В
дневное время малые птахи сбиваются в стаю вокруг совы <…> и клюют ее,
и выщипывают ей перья, и потому птицеловы используют сову как
приманку, когда ловят птичек»18. Читал ли Мастер Амстердамского кабинета
Аристотеля – вопрос открытый: сюжет о нападении пичуг на сову был в ту
пору достаточно расхожим, повторялся во множестве бестиариев и
естественнонаучных трактатах, а главное – так действительно ловили птиц
(тут достаточно взглянуть на гравюру Яна Колларта по рисунку Яна ван дер
Страта «Охота на птиц с приманками и птичьим клеем» (1594 – 1598.
Рейксмюсеум, Амстердам. Рис. 13). Но заметим: резцу того же Мастера
Амстердамского кабинета принадлежит гравюра «Аристотель и Филлида»
(1483 – 1487. Рейкмюсеум, Амстердам), созданная на сюжет легенды о том,
что великий философ, дабы уговорить гетеру Филлиду перестать домогаться
внимания его воспитанника, Александра Македонского, позволил ей ездить
на себе, как на лошади…
Интересно, что на портрете Иоганна Куспиниана (1502. Коллекция
Оскара Райнхарта «Ам Рёмерхольц», Винтертур. Рис.14 ) работы Лукаса
Кранаха мотив «мелкие птицы изгоняют сову», почти как у Мастера
Амстердамского кабинета, соединен с мотивом Рождества – над головой
Куспиниана сияет Вифлеемская звезда…
Что до сюжета «ловли птиц на приманку из совы», позже он
эволюционировал у Тициана, делавшего набросок для гравюры Джованни
Паоло Кимерлини «Скворечник смерти» (ок. 1570. Рейксмюсеум, Амстердам.
Рис. 15), в аллегорическую притчу о том, что и радости жизни, и попытки
обрести мудрость есть не более, чем приманка Смерти. На гравюре
представлены две группы, сидящие у небольшого водоема – одна погружена
в чтение, другая – музицирует, и никто из сидящих не замечает стоящий по
центру композиции нашест с совой-приманкой, которой манипулирует,
дергая за ниточку, пристроившийся под деревом слева скелет. Еще один
скелет на заднем плане преследует в ужасе убегающих от него женщин.
Если тициановский рисунок наполнен одновременно иронией и
горечью, то гравюра Хендрика Гольциуса по рисунку Карела ван Мандера
«Каждый думает, что его слова – сокол» (1590 – 1594. Рейкмюсеум,
Амстердам. Рис. 16) откровенно насмехается над «мудростью Минервы». На
рисунке ученый муж в очках, – явная отсылка к персонажу, изображенному
на знаменитой гравюре Питера ван дер Хейдена по рисунку Брейгеля «Elk et
Nemo» («Каждый и Никто». 1556 – 1560. Рейксмюсеум, Амстердам) –
любуется совой, сидящей у него на правой руке, одетой в перчатку для
соколиной охоты, а за его спиной паясничают два шута в характерных
нарядах. Стоит напомнить, что одна из надписей на брейгелевской гравюре
гласит: «Никто не познал себя».
С легкой руки Андреа Альчиато на излете XVI в. сова (вернее, филин)
обрела еще одно символическое значение – она стала атрибутом старости. В
очередном издании «Emblemata», вышедшем в 1550 г. в Лионе, Альчиато,
щеголяя своим знанием античности, дает среди прочего эмблему с девизом
«Senex puellam amans» – «Старик влюбился в девицу», чей пояснительный
текст:
Dum Sophocles (quamvis affecta aetate) puellam
A quaestu Archippen ad sua vota trahit,
Allicit & pretio, tulit aegrè insana iuventus
Ob zelum, & tali carmine utrunque notat.
Noctua ut tumulis, super utque cadavera bubo,
Talis apud Sophoclem noctra [=nostra] puella sedet.
[Когда Софокл, несмотря на преклонные лета, склонил гетеру ублажать его,
завоевав ту предложенной им наградой, Архипп же [ее бывший любовник]
воспылал гневом. Сходя с ума от ярости, он обоих их высмеял стихами: как
филин при могиле, как стервятник при трупе, сидит моя дева при Софокле].
История эта восходит к мало тогда известному в Европе (ибо: graecum
est, non legitur) труду Афинея «Пир мудрецов», где говорилось: «А уже на
закате жизни, по словам Гегесандра [FHG.IV.418], Софокл был влюблен в
гетеру Архиппу, и оставил ее своей наследницей. И когда Архиппа жила с
дряхлым Софоклом, то ее прежний любовник Смикрин так остроумно
ответил на вопрос, что делает Архиппа: Она как сова на гробнице»19.
В лионском издании «Emblemata» 1560 г. pictura изображала гробницу
и сидящего на ней филина, на заднем плане можно было различить
влюбленную пару под деревом; в Лейденском переиздании 1591 г. pictura
стала читаемей: на переднем плане старик и юная девушка милуются под
деревом, на заднем плане на земле лежит труп, на котором восседает филин
(Рис. 17).
В 1575 г. Герард ван Гронинген издает серию гравюр «Десять
возрастов человека» (Рейксмюсеум, Амстердам. Рис. 18). Восьмой возраст
был представлен стариком, который идет, тяжело ступая и опираясь на палку
за мальчонкой – а за спиной старика, слева, на перилах сидит,
нахохлившись, сова – предвестие ждущей того могилы.
Заданная, почти случайно, Альчиато связь совы/филина с
сенильностью постепенно укрепляется – изображение птицы можно
встретить во множестве граверных циклов, связанных с возрастами человека,
а затем метонимически переходит на аллегорические изображения времен
года – в них ведь зима традиционно изображалась в виде старика. Так, на
гравюре Джованни Орланди «Триумф зимы» (1592. Британский музей. Рис.
19) повозку Зимы влекут пара павлинов и пара филинов. Правда, следует
отметить, что мы имеем здесь с двойной метонимией: Зиму у Орланди
сопровождает еще одна аллегорическая фигура – едущее на свинье
Обжорство (прежде всего, это отсылка к роскоши рождественского пира). А
Сова/филин – один из атрибутов Чревоугодия – так, на гравюре Хейнрика
Альдегревера из цикла «Семь смертных грехов», Чревоугодие изображено
едущим на свинье, сжимающим в руке штандарт с ежом, а за спиной греха
приписанный ему герб – с кошкой в основном поле и с совой, сидящей в
навершии (1552, Британский музей).
Но вслед за этим с совой происходит еще одна символическая
метаморфоза: XVII век во многом – век сатиры, а сатирикам нужны внятные
аллегории – и сова, подслеповатая и беспомощная днем, превращается в
символ… рогоносца. Именно в этом качестве она представлена на гравюре
Питера де Йоде Младшего по рисунку Якоба Йорданса «Человек с совою в
окне» (Между 1620 и 1668. Рейксмюсеум, Амстердам. Рис. 20).
И дальше символические коннотации, связанные с совой развиваются в
сторону сожаления об ошибках прошлого, упущенных возможностях,
которые видятся задним числом: «задним умом крепок».
1
Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все. Пересказал Б. Заходер. М.: Дом, 1992. «С. 146.
2
Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все. Пересказал Б. Заходер. М.: Дом, 1992. «С. 43.
3
Ferguson George. Signs & Symbols in Christian Art. London, Oxford, New York: OUP 1961. P. 22.
4
Cage, John. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkley, Los Angeles: University of
California Press, 1993. P. 83.
5
Ср. пер. И. Шервинского:
О преступлении том, которое знает весь Лесбос,
Разве же ты не слыхал? Никтимена на ложе отцово
Как покусилась? Она, — хоть и птица, — вину сознавая,
Взоров и света бежит и стыд скрывает во мраке,
И прогоняют ее все птицы в просторе небесном
6
Hygini Fabulae. Ed. By Mauricius Schmidt. Hermannum Dufft, 1872. P. 128.
7
Гигин. Мифы. СПб: Алетейя, 1997. С. 256.
8
Le premier mythographe du Vatican, texte établi par Nevio Zorzetti et traduit par Jacques Berlioz, Paris 1995 (Collection
des Universités de France):
https://digiliblt.uniupo.it/xtf/view?docId=dlt000364/dlt000364.xml;chunk.id=d1485e2421;toc.depth=1;toc.id=d1485e151;br
and=default;query=Mythographus%20Vaticanus#
9
Первый ватиканский мифограф. СПб: Алетейя, 2000. С.
10
Mythographi Vaticani I et II, cura et studio P. Kulcsar Turnhout 1987.
https://digiliblt.uniupo.it/xtf/view?docId=dlt000566/
dlt000566.xml;chunk.id=d1897e596;toc.depth=1;toc.id=;brand=default;query=Mythographus%20Vaticanus%20II#
11
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Ленинград: Наука, 1972. С. 40.
12
Pliny, Natural History, X, 16.
13
The Aberdin Besriary. Aberdeen University Library MS 24. Folio 35v.
14
The Aberdin Besriary. Aberdeen University Library MS 24. Folio 50r – 50v.
15
Grote L. Diirer-Studien/ Zeitschrift des deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft 19 (1965). S. 116, note 19.
16
Rembert Virginia Pitts. Hieronymus Bosch and the Lisbon Temptation: a view from the 3rd millennium. New York:
Parkstone Press, Ltd. P. 207.
17
Ruppel Wendy. Salvation through Imitation: The Meaning of Bosch's "St. Jerome in the Wilderness"/ Simiolus:
Netherlands Quarterly for the History of Art , 1988, Vol. 18, No. 1/2 (1988). P. 8 – 9. Насколько же редко
визуализируется этот сюжет см.: Levine Carol F.. "Vulpes fossa habent or the miracle of the bent woman in the gospels
of St Augustine, Corpus Christi College, Cambridge, MS 286," Art Bulle- tin 56 (1971), pp. 489-504.
18
The Works of Aristotle. Translated into English under editorship of J.A. Smith and W.D. Ross. Volume IV. Historia
Animalium. Oxford: Claredon Press, 1910. IX. I. 609a.
19
Афиней. Пир мудрецов. В 15 книгах. Книги 9 – 15. Пер. Н.Т. Голинкевича. М.: Наука, 2010. С. 295
Вам также может понравиться
- Мир в картинках. Эзоп. "Ворона и Лисица" и другие басниОт EverandМир в картинках. Эзоп. "Ворона и Лисица" и другие басниОценок пока нет
- Tsvetovye Obrazy V Poeme S Esenina PugachevДокумент7 страницTsvetovye Obrazy V Poeme S Esenina PugachevAnaОценок пока нет
- Кто такая Сова МинервыДокумент1 страницаКто такая Сова МинервыИрина ВоенбендерОценок пока нет
- Книги СивиллДокумент285 страницКниги СивиллВиктор Павленков100% (1)
- Мир в картинках. История любви. Греческие гетеры, КлеопатраОт EverandМир в картинках. История любви. Греческие гетеры, КлеопатраОценок пока нет
- 100 знаменитых любовниц и фавориток королей (100 znamenityh ljubovnic i favoritok korolej)От Everand100 знаменитых любовниц и фавориток королей (100 znamenityh ljubovnic i favoritok korolej)Оценок пока нет
- Drugoe Polusharie 23 2014 PDFДокумент31 страницаDrugoe Polusharie 23 2014 PDFEvgenij KharitonovОценок пока нет
- царь эдипДокумент4 страницыцарь эдипangelinaОценок пока нет
- Жан Лоррен НаркиссДокумент4 страницыЖан Лоррен НаркиссВарвара БудивскаяОценок пока нет
- SongДокумент368 страницSongAnna JuniedОценок пока нет
- Bezumie I Ego Bog Sbornik 2007Документ195 страницBezumie I Ego Bog Sbornik 2007videnageorgievaОценок пока нет
- Antichnost ZadanieДокумент9 страницAntichnost ZadanieДианаОценок пока нет
- КамниДокумент28 страницКамниSpinolaОценок пока нет
- Istoria Urodstva История УродстваДокумент456 страницIstoria Urodstva История УродстваElen Korotkova100% (1)
- Mikhail Yampolskiy Tkach I Vizioner Ocherki Istorii Reprezentatsii Ili O Materialnom I Idealnom V Kulture 2007Документ834 страницыMikhail Yampolskiy Tkach I Vizioner Ocherki Istorii Reprezentatsii Ili O Materialnom I Idealnom V Kulture 2007Алена ВасельковаОценок пока нет
- Между Христом и Антихристом: «Поклонение волхвов» Иеронима БосхаОт EverandМежду Христом и Антихристом: «Поклонение волхвов» Иеронима БосхаОценок пока нет
- Evreinov N N Azazel I DionisДокумент134 страницыEvreinov N N Azazel I DionisASTRAОценок пока нет
- Миф о Медее в Трактовке Кристы ВольфДокумент5 страницМиф о Медее в Трактовке Кристы ВольфИрен ИренОценок пока нет
- Открытие ЛилитДокумент25 страницОткрытие ЛилитСмиронов АлександрОценок пока нет
- Kopt TextileДокумент15 страницKopt TextileІрина НесенОценок пока нет
- Азазель и ДионисДокумент75 страницАзазель и ДионисАртём ДруидОценок пока нет
- чехов невестаДокумент39 страницчехов невестаСветлана РоманюкОценок пока нет
- Книжная миниатюра Древнего ЕгиптаДокумент12 страницКнижная миниатюра Древнего ЕгиптаIris Arkhipova CassisОценок пока нет
- Людвиг Тик - Комедии и драмы - 2015 PDFДокумент562 страницыЛюдвиг Тик - Комедии и драмы - 2015 PDFJonОценок пока нет
- Алая аура протопарторга. Абсолютно правдивые истории о кудесниках, магах и нечисти самой разнообразнойОт EverandАлая аура протопарторга. Абсолютно правдивые истории о кудесниках, магах и нечисти самой разнообразнойОценок пока нет
- Bilety LiteraturaДокумент78 страницBilety LiteraturansttatarnikovaОценок пока нет
- 1993 Mikhail Yampolskiy Pamyat Tiresia Intertextualnost I KinematografДокумент464 страницы1993 Mikhail Yampolskiy Pamyat Tiresia Intertextualnost I KinematografTatiana TsvetkovskayaОценок пока нет
- Античные мотивы в Сонетах к Орфею Р.М.РилькеДокумент6 страницАнтичные мотивы в Сонетах к Орфею Р.М.РилькеАнастасия БагаОценок пока нет
- The True Meaning of The Names of The StaДокумент7 страницThe True Meaning of The Names of The StaАртём ДруидОценок пока нет
- Ž Š À . Ž Á Å® ® ®¡à Âà Áâ ÀДокумент10 страницŽ Š À . Ž Á Å® ® ®¡à Âà Áâ ÀFunny StarОценок пока нет
- Афи́на том1Документ6 страницАфи́на том1muppusittarОценок пока нет
- Полумесяц и Звезда (Константин Дегтярев) - Проза.руДокумент11 страницПолумесяц и Звезда (Константин Дегтярев) - Проза.руEnigmatumОценок пока нет
- ЭССЕ ПО ОДИССЕЕДокумент13 страницЭССЕ ПО ОДИССЕЕВалерия ГудковаОценок пока нет
- 18 - ИН и содержание трагедий СофоклаДокумент3 страницы18 - ИН и содержание трагедий СофоклаМария100% (1)
- Volshebnye Lisy YaponiiДокумент18 страницVolshebnye Lisy YaponiiAlan FlameheartОценок пока нет
- египетДокумент4 страницыегипетNesty WorldОценок пока нет
- Tema Neomifologizm PostmodДокумент5 страницTema Neomifologizm PostmodУрсу ЕвгенийОценок пока нет
- Макроэкономика PDFДокумент57 страницМакроэкономика PDFДмитрий ВолчковОценок пока нет
- Дом ребёнкаДокумент90 страницДом ребёнкаkomron bobomurodovОценок пока нет
- ДокументДокумент3 страницыДокументКатя МазуренкоОценок пока нет
- Handball 3 2009Документ108 страницHandball 3 2009api-3796318Оценок пока нет
- 29 - 01 - Виктор Никитич Лазарев - ВВ 29 (1968) PDFДокумент29 страниц29 - 01 - Виктор Никитич Лазарев - ВВ 29 (1968) PDFIryna NesenОценок пока нет
- федющенко светлана геннадиевна модель - Яндекс нашлось 734 тыс. результатовДокумент1 страницафедющенко светлана геннадиевна модель - Яндекс нашлось 734 тыс. результатовмарияОценок пока нет