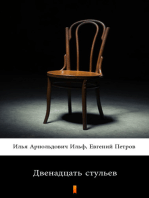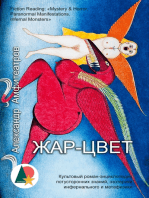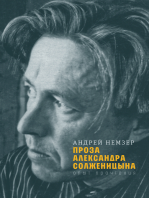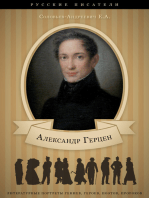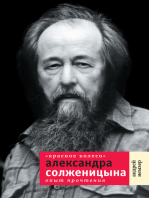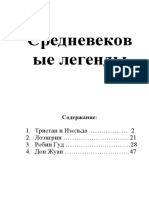Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Бютор М.,Роб-Грийе А.Изменение.В лабиринте.1983
Загружено:
Grigory Asoyan0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
408 просмотров344 страницыАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
TXT, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате TXT, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
408 просмотров344 страницыБютор М.,Роб-Грийе А.Изменение.В лабиринте.1983
Загружено:
Grigory AsoyanАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате TXT, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 344
ИЗМЕНЕНИЕ
В А\БИ РИ НТЕ ДОРОГИ ФЛАНДРИИ
ВЫ СЛЫШИТЕ ИХ?
Романы Перевод с французского
Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1983
И(фр)
Б98
4703000000-160 028(01)-83
Michel Butor LA MODIFICATION 1957
Alain Robbe-Grillet DANS LE LABYRINTHE
1959
Claude Simon LA ROUTE DES FLANDRES
1960
Nathalie Sarraute VOUS LES ENTENDEZ? 1972
Предисловие и справки об авторах Л. Андреева
Оформление художника И. Сальниковой
л лл qq (Б) Предисловие, переводы, кроме отмс-
•lob-oo w ченного *, оформление. Издательство
«Художественная литература*. <1983 г.
Предисловие
Четыре французских романа — «Изменение» Мишеля Бютора, «В лабиринте» Алена Роб-
Грийе, «Дороги Фландрии» Клода Симона, «Вы слышите их?» Натали Саррот,—с которыми
предстоит познакомиться читателю, принадлежат к литературной школе «нового романа»,
или же, по другому распространенному названию,— «антиромана». Пожалуй, ни одно
явление зарубежной литературы середины XX века не вызывало столько споров, сколько
вызвал «новый роман». Спорили даже сами «новые романисты», отрицавшие существование
единой школы и отстаивавшие каждый сбою неповторимость.
Ныне споры приутихли, «новый роман» стал историей — стал непреложным фактом истории
литературы. Время уже сказало свое веское слово и оценило этот феномен, хотя
заговорили, зашумели о «новом романе» всего лет тридцать тому назад. Впрочем,
некоторые из «новых романистов» начали публиковать свои произведения гораздо
раньше.
Однако ни в 30-е, ни в 40-е годы ныне знаменитые писательские имена не вызвали к
себе никакого интереса. «Они шли против течения»,— признает позже Натали Саррот. А
главное течение в те годы определялось подъемом демократического движения, пафосом
Народного фронта, антифашистского Сопротивления. Это была эпоха «ангажированной»
литературы, т. е. литературы, осознающей свою социальную ответственность, свою
общественную роль. К 50-м годам волна общественного подъема на Западе спала,
воцарилась гнетущая атмосфера «холодной войны», надежды сменились безнадежностью,
навеянной стабилизировавшимся — как казалось — «потребительским обществом».
Болезненно ощущалась такая перемена во Франции, где демократический подъем был
особенно мощным, а спад особенно удручающим. Не удивитель-
3
но, что школа «нового романа» возникла именно во Франции и аналогичные явления в
других странах воспринимаются как результат прямого влияния французской школы.
«Новый роман» быстро стал признаком смены вех, широко разрекламированной и
общепринятой ее приметой. Следует сразу же сказать: его подали и подняли как знамя
искусства дезанга-жированного, социально безответственного. Предоставлял ли сам
«новый роман» возможность для такой оценки его места и значения? Несомненно. Однако
«новый роман» сложнее, значительнее, чем расхожее мнение о нем. Чтение «новых
романов» — занятие для читателя непривычное, и знакомились с ними относительно
немногие. Суждения о «повых романах» стали привилегией узкого круга специалистов,
тогда как широкой публике были доступны лишь шокирующие декларации и лозунги,
обеспечивавшие «повому роману» и рекламу, и громкий резонанс, и роль броского
символа новой эпохи.
Надо представить себе Францию накануне 50-х годов — Францию эпохи Сопротивления,—
чтобы понять, каким вызовом могла прозвучать опубликованная в 1957 году статья
Алена Роб-Грийе «О нескольких устаревших понятиях». Со свойственной этому писателю
категоричностью в ней сообщалось, что классическое искусство безнадежно устарело,
устарели и персонажи как таковые, и привычка рассказывать в романе «истории».
Читатель вдруг узнал, что все его увлекавшее, освященное традицией,— не более чем
музей, собрание вышедших из моды экспонатов. Еще не ушла в прошлое эпоха, приметой
которой был пафос социальной ответственности и идейности, а Роб-Грийе во
всеуслышание заявлял: «Искусство не ищет опоры в какой бы то ни было истине,
существующей до самого искусства, и можно сказать, что оно не выражает ничего,
кроме самого себя». Дерзким вызовом прозвучал вывод Роб-Грийе: «Писатель должен
создать мир, но создать его из ничего, из пыли...» И много раз он повторял с тех
пор: «Мне нечего сказать, у меня лишь потребность в создании форм».
Эссе Натали Саррот «Эра подозрений» было опубликовано в 1956 году и сыграло немалую
роль в оформлении того, что получило название «нового романа». Саррот в свою
очередь — и не менее категорично — осудила роман с такими безнадежно несовременными
его признаками, как персонаж и интрига, «история», положенная в основу
произведения. Бальзак и Толстой, по ее убеждению,— «музей», которому она
противопоставляет Марселя Пруста как «зачинателя». Вскоре, однако, признаки «музея»
Саррот обнаружила и в Прусте — по мере того как в качестве единственно возможной
формы современного, нового романа утверждала свой собственный метод письма.
4
Итак, «новый роман» начинал с ниспровержения, с отрицания традиционной системы
романа (и потому его сраау же стали именовать «школой отказа»). Читателя этой
книги, конечно, поразит броская новизна романов, в которых действительно нелегко
разыскать привычного героя и определить, что за история рассказывается писателем.
Между тем «новый роман» — это не просто новые литературные приемы, а реализованное
в жапре романа миропонимание, и судить о нем следует не по тому, чего в нем нет или
что оп отрицал, а по тому, чем в действительности «новый роман» оказался.
Миропонимание, выраженпое в жанре «нового романа», сложилось в определенных
условиях, условиях спада демократического движения и деполитизации искусства. По
книгам «новых романистов» трудно, как правило невозможно, определить, какую
политическую позицию занимают их создатели. А ведь опи пе чужды политическим
страстям и нередко проявляли свое отношение к тем или иным политическим событиям,
занимая обычно левые позиции. «Новые ромаиисты» отделили художника от гражданина,
доверив искусству задачи чисто художественные. Они намеревались оставить социальную
историю с ее бурями за пределами тех «башен из слоновой кости», в которые они,
согласно давпей традиции «чистого искусства» и не опасаясь показаться
традиционными, замыкали искусство. Но голос истории прорывался через непрочные
стены. Он слышится, к примеру, в восклицании Натали Саррот: «Какая сочиненная
история могла бы соперничать с рассказом о концентрационных лагерях или о битве под
Сталинградом?» Он, этот голос, звучит и в «сочиненных историях» — два из четырех
публикуемых в настоящем сборнике романов возвращают читателя к эпохе минувшей
войны.
Различим оп и в других произведениях. Декларироваппая «новым романом» «эра
подозрений» — это эра разочарований в реаль ной действительности. «Новый роман»
абсолютизировал разочаро вание и распространил его на всю реальность, на реальность
как, таковую. "*
Уместно напомнить об одном собрании «новых романистов», которое не оставляет
сомнения в том, что их группа — не просто ряд имен в случайно составленном списке.
Весной 1959 года еженедельник «Леттр франсэз» организовал встречу входивших в моду
писателей. На этой встрече Мишель Бютор произнес следующие знаменательные слова:
«Мы находимся в такой стадии, когда стены разваливаются и речь идет о паилучшем
использовании обломков, которые сохраняются в груде мусора, в пыли... Мы не знаем и
не можем знать,— добавлял Бютор,— где мы находимся... куда идем». Нечто подобное
говорил и Клод Симон: «Рассказчик знает
5
о реальности только фрагменты, только крохи, которые он постигает с помощью
органов чувств, сознавая безграничность своего неведения и ограниченность своих
возможностей».
Нет ничего удивительного в том, что Роб-Грийе намеревался создавать романы «из
пыли», а Саррот предполагала наппсать книгу «ни о чем». Само собой разумеется, что
такая концепция романа делает необходимым его коренную реформу, т. е. исключение
персонажа и его «историй». «История» сама по себе — отражение мира, в котором может
быть обнаружена связь составляющих целое частей и зафиксировано хотя бы
относительное представление об этом целом. «История» — способ контакта с
реальностью и ее дешифровки. Равно как и персонаж. Он потому так раздражал «новых
романистов», что они видели в нем наглядное воплощение существующей за пределами
искусства реальности, тем паче — той социально определенной целостности, которая
носит название «тип». «Пыль» рассыпающегося мира не может стать объектом типизации:
отказ от конкретно-исторического изображения реальности лежит в основе эстетики
«нового романа», каковы бы ни были его отношения с этой реальностью (а они были
куда более сложными, нежели открыто провозглашенное желание писать «ни
о чем»).
Если вообразить мир таким, каким он предстает в декларациях «новых романистов», то
среди развалин остается место только для воспринимающего мир индивидуального
сознания и для романа, который увековечивает это восприятие и преобразует
сомнительную объективную реальность в реальность несомненную, реальность романа,
его субъективной, «новой» формы. Если судить по основополагающим высказываниям
«новых романистов», то «новый роман» может показаться разновидностью современного
натурализма (изображение лишь «крох», лишь фрагментов, без попыток постижения
сущности). Но в отличие от классического натурализма в «новом романе» на передпий
план выдвигается индивидуальное сознание, всемогущее «я». Оно не принадлежит
какому-нибудь определенному персонажу и не является способом раскрытия
определенного внутрецпего мира, не принадлежит оно и автору, лирическому герою. «Я»
/оказывается единственным способом организации фрагменЛш^фассыпающегося мира» в
реальности романа, смысл которого может исчерпываться самой этой организацией, т.
е. самим фактом написания романа. Поскольку роман, по словам Роб-Грийе, «не
выражает, но ищет», он преобразуется в форму «поисков самого себя» — в
«единственную для самого себя реальность». Итак, обновление во имя обновления?
Сочинение новых приемов как самоцель?
Однако «новый роман» ставит читателя перед лицом очевид-
6
ного парадокса: «единственная для самого себя реальность» романа оказалась формой
отражения объективной действительности, выражением определенного миропонимания.
«Единственная реальность» романа тождественна рассыпающемуся миру — поэтому она.
предстает в виде «антиромана». Но «антироман» — это все же роман, определенная его
разновидность, а значит, мир не рассыпав^ шийся, значит, цельная система,
предназначенная для отражения реальной действительности.
«Новый роман» не подтвердил свою собственную заявку на бессодержательность, хотя
заявка эта, желание создавать роман «из пыли» многое, копечно, определяет в «новом
романе» («антиромане»!), в его эволюции. Тем паче что каждый из «новых романистов»
по-своему такую заявку понимал и в разной мере воплотил ее в своем творчестве.
\ Из четырех «новых романов», помещенных в этой книге, произведение Мишеля Бютора
воспринимается как наиболее традиционное, наиболее привычное. Хотя Бютор и делился
своими размышлениями о разваливающемся здании реальности, он неоднократно повторял:
«Нужно прислушиваться к реальности», «роман — способ прочтения реального мира». Так
может быть прочитан и роман «Изменение» (1957). При чтении внимательном — а «новый
роман» требует от читателя особой сосредоточенности — нетрудно установить, что
романист одновременно воссоздает десять поездок своего героя, Леона Дельмона, из
Парижа в Рим и обратно. Одна из этих поездок — движение в настоящем времени, данное
путешествие, которое должно поставить точку в истории героя, ибо Дельмон
окончательно решил расстаться с женой ради другой женщины. Другие поездки
совершаются в его сознании, в форме воспоминаний, оживающих и живущих наряду с
нынеш-пим путешествием. Все повествование организуется потоком сознания,
естественно, не подвластным хронологии -и предоставляющим возможность для
экспериментов со временем, которым Бютор придавал большое значение.
Однако в романе «Изменение» поток сознапия не растворяет в себе ни персонажа, ни
его истории. Герой наделен именем, известно его социальное и семейное положение
(как в романе из «музея»!), которое и питает собой конфликт романа: Леон хочет
покинуть свою жену Анриетту, поскольку она стала олицетворением его мещанского
существования, невыносимой зависимости, несвободы, тогда как ожидающая его в Риме
Сесиль кажется воплощением свободы и раскованности, новой жизни. Традиционный
«треугольник» пасыщается смыслом тем более, что по своему обыкновению
7
Бютор отвлекается от индивидуальных судеб: в романе сопоставлены не столько две
женщины и две любовные истории героя, но также Париж и Рим, два мира, две
цивилизации с их ролью и предназначением.
Благодаря всему этому движение — и изменение — в романе Бютора многообразно и
многозначительно. Здесь и движение чисто механическое, переезд из одного пункта в
другой. Подается оно так, что читатель разделяет с героем непосредственное ощущение
от поездки по определенному маршруту: точно фиксируются малейшие перемены внутри
купе и вне поезда, тщательно выверено время движения и соотнесено с пространством,
в котором оно совершается. Но это и движение сознания, живой его поток, с таким
важнейшим признаком, как изменение, эволюция внутреннего мира героя.
По мере физического перемещения героя из Парижа в Рим его сознание совершает все
более ощутимое перемещение от Рима к Парижу — в облике Сесиль проступают черты
Анриетты, будущее уподобляется прошлому и настоящему, обычное для Бютора
соотнесение времен начинает играть важную роль в раскрытии характера персонажа. Все
очевиднее становится облик самого Леона, этого буржуа, прикованного к социальной
системе, которая гарантирует продвижение по службе при условии утраты собственной
личности, собственного достоинства. Вот еще один, исполненный большого смысла,
уровень происходящих в романе перемен. Нравственное падение героя сделало
безысходным и бессмысленным перемещением в Рим и обратно. От прошлого Леону не
оторваться, коль скоро он возит его с собой, коль скоро прошлое стало неотъемлемой
частью героя, его настоящего состояния. Социальная характеристика Леона дается
главным образом через эту его неспособность к изменению, через социальный
консерватизм, который особенно очевиден по контрасту с непрестанным внешним
перемещением из одного географического пункта в другой.
Широкий горизонт, открытый сопоставлением цивилизаций, Парижа и Рима, оказывается
для героя в конечном счете иллюзией — реальностью остается баиальный выбор между
женой и любовницей, который в свою очередь сужен неспособностью буржуа что-либо
выбрать: он «выбран» своим общественным положением раз и навсегда, он всего-навсего
обыватель, достойный презрения и жены, и любовницы.
Итак, в романе «Изменение» есть герой, его семейная, даже социальная драма, есть
традиционная тема утраченных иллюзий — где же здесь «мир обрушившихся стен»?
Созданная Бютором новая форма содержательна и гибка, она позволяет наглядно и ком-
8
пактно воспроизвести все — и прошлое, и пастоящее, п будущее, и жизнь сознания, и
факты физического присутствия. Но распад цельности на «обломки» в романе
«Изменение» уже заметен. Видимая сложность текста не может скрыть тенденции к
расчленению его па составные части, которые затем монтируются. Даже изменение во
внутреннем состоянии героя иллюстрируется сопоставлением различных временных
плоскостей н различных состояний. Принцип монтажа у Бютора сказывается в
нарастающей склонности писателя к нагромождению все новых п новых деталей, их
наращиванию, перечислению, а в последовавших его новых произведениях эта тенденция
полностью разрушит связное повествование, покончит со всеми признаками какой бы то
ни было «истории».
Составные части общей картины в романе «Изменение» более чем реальны.
Нетрадиционной, необычной формой повествования через обращение от безымянного
рассказчика ко второму лицу («ты») Бютор создает широко распространенный в «новом
романе» кинематографический эффект присутствия неоспоримо реальных объектов. Словно
бы кинокамера неотступно следует за этим «ты», фиксируя каждое его движение,
создавая наглядный образ внешнего и даже внутреннего мира героя, который не скрыт
от всевидящего кииоглаза. Однако этот мир оставляет странное впечатление зыбкости.
Оно возникает потому, что Бютор, по его словам, изображал «пространство сознания».
Необычная повествовательная форма делает персонаж объектом пристального,
отстраненного рассмотрения. Но одновременно объектом пассивным при всей суете его
перемещений из одного места в другое: по-пастоящему активно здесь всевластное «я»,
сознание, организующее весь материал романа. Без труда можно себе представить, что
некое обладающее воображением «я» сочиняет историю, сочиняет роман, на ходу
набрасывая портрет героя, рисуя его одновременно и себе, и читателю, поскольку до
первых слов романа, до слов: «Ты ставишь левую ногу на медную планку...» — его
вовсе не существовало, то есть не существовало той реальности, познанию и отражению
которой посвятил свой труд писатель.
Иными словами, уже в произведении Бютора ощутим один из важнейших признаков «нового
романа» — иллюзия «романа в романе», т. е. превращения романа в «единственную для
себя реальность», отражения не объективной, до и вне его существующей
действительности, но процесса создания самого романа, реальности романа. Правда, в
«Измепепии» все это отодвинуто видимыми приметами романа традиционного, наличием
персонажа, его истории, социальной среды, семейных обстоятельств, сохранением прин-
9
ципа детерминизма. Однако как только проясняется, что герою пе удается достичь
желанной свободы, возникает надежда на творчество как на единственную возможность
выйти из реально неразрешимой ситуации.
Кпига — лейтмотив романа «Изменение», она играет роль загадочного спутника героя,
выступая его важнейшей характеристикой. Книга обещает долгожданную свободу, решение
всех проблем, в мире «обвалившихся стен» неразрешимых.
Книгой, подменяющей собой реальность, должен был стать роман Алена Роб-Грийе «В
лабиринте» (1959). Читателю трудно будет избежать искушения прочитать его так, как
он привык читать романы: коль скоро на страницах книги появляется солдат, замерший
у фонаря, его можно принять за героя романа и попытаться проследить его историю.
Солдат явно кого-то ищет, бродит по лабиринту улиц незнакомого города, отдыхает в
кафе, его ранят, он умирает.
Все это в романе Роб-Грийе как будто бы есть — и всего этого как будто и нет. Нет в
том смысле, который несет с собой искусство,— в смысле иллюзии подлинной
реальности, воспроизводимой художником, в смысле существования объективной
реальности до произведения и вне его. Иллюзию реальности Роб-Грийе как будто
создает с крайним старанием. С его именем связаны два понятия: «шозизм» 1 и «школа
взгляда». Роб-Грийе — сторонник изображения мира через доскональное описание
ощутимых фрагментов, отдельных «вещей» реального мира. Оно тем более «вещно»,
основательно, наглядно, что осуществляется через посредство некоего «взгляда»,
который, как кинообъектив, регистрирует все, что попадает в поле его зрения. Такими
описаниями, таким «фотографированием» подробностей, деталей, мелочей насыщен и
роман «В лабиринте». Но иллюзию реальности писатель создает, чтобы предаться ее
разрушению. Поверить в существование солдата как реального героя какой-то истории
можно лишь по первым страницам романа, до того момента, как заходит речь о картине,
изображающей кафе, где за столиком сидит солдат.
Точное, «шозистское» описание картины производит неожиданный и сильный эффект,
поскольку полотно словно бы оживает, солдат словно бы сходит с него, чтобы из
нарисованного превратиться в «живого», в героя романа, идет на улицу, занимаясь
своими поисками. Но может быть все наоборот: поскольку вскоре читатель узнает, что
встретившийся солдату мальчик провел его
1 От французского chose — «вещь»*
10
в кафе, можно себе представить, что «живой» солдат стал солдатом нарисованным,
вошел с улицы в картину.
Солдат не знает, кого он ищет, он вообще ничего не знает, он абсолютно беспомощен.
Но и при этом он может быть сочтен героем романа, участником вполне определенной
истории: допустим, он потерял память в результате тяжелого ранения. Однако в
лабиринте оказывается не только заблудившийся на улицах пезпако-мого города солдат
— в лабиринте оказывается и сам читатель, вынужденный блуждать среди обломков
распадающегося здания реальности.
Роб-Грийе использует один из самых броских приемов «пово-го романа» — прием
повторения, дублирования, зеркального отражения. Простые слагаемые лабиринта,
выстроенного Роб-Грийе, то и дело повторяются, перекрещиваясь, взаимоотражаясь,
переходя друг в друга и себя опровергая. Все здесь похоже, улицы, дома, люди, все
как будто на ладони, все крайне просто — и бесконечно сложно. В бесчисленных
зеркалах, расставленных писателем, совершенно затерялась так называемая реальность,
невозможно определить, что отражается и что отражает. Лихорадочное круговращение
наводит на мысль о том, что сломался какой-то механизм романа, воспроизводящий
реальность, но сломан не этот механизм, надломлена сама реальность, усилиями
романиста превращаемая в ничто, в «пыль».
В потерявшем смысл круговращении вещей нет ни начала, ни конца. Что мешает
переставлять части этого мира, который как будто никаким значением не обладает, в
котором поставлены под сомнение причинно-следственные связи и неощутима хронология?
Части сцепляются в целое по чистой, видимо, случайности, по произвольным
ассоциациям,.повинуясь некоему ритму, общей мелодии того целого, что носит название
«В лабиринте».
Да и кто в романе Роб-Грийе повествователь? Вначале появляется чье-то «я», чтобы
уступить место чьему-то «взгляду», а затем это «я» возникает в самом конце
произведения. Что же это за «я»? Иные комментаторы книги полагают, что оно
принадлежит врачу, который подбирает раненого солдата, а после его смерти
восстанавливает события, сидя в той компате, которая часто возникает в романе.
Однако для романа Роб-Грийе подобпое толкование кажется слишком простым и неуместно
традиционным, поскольку оно предполагает, что рассказывается история несчастного
солдата, а следовательно, есть и герой, и история героя.
Может показаться, что все в романе — бред умирающего, лихорадочные видения больного
солдата, который вновь и вновь припоминает одни и те же события. Но такая
интерпретация вряд ли
11
способна объяснить, почему солдат продолжает свои поиски не только после ранения,
но и после смерти: смерть ничего не изменила в истории героя, потому что нет пи
истории, ни героя. Все здесь двоится, троится, отражаясь в зеркалах, которые дробят
реальность, обращая ее в пыль. Остается одна достоверная реальность — реальность
романа.
Можно с достаточной уверенностью сказать, что роман «В ла-бириите» воспроизводит
процесс письма, процесс создания романа. Текст его кажется возникающим па наших
глазах, сочиняемым в данный момент, и все в нем призрачно именно потому, что все
еще сочиняется. Если картина вдруг словно оживает и с нее сходят в жизнь
нарисованные персонажи, то иногда «живые» герои уподобляются нарисованным. Их
совсем немного, они повторяются и располагаются в эпизодах романа так, как
размещаются объекты на полотне. В их поведении нет логики, нет последовательности и
связности поступков, есть лишь реакция на данный момент, на данный эпизод, который
сочинеп автором. Они — этот мальчик, эта женщина, даже этот солдат — исчезают,
словно их стерли, а затем появляются словно нарисованные, чтобы исчезнуть вновь.
Они и не стали персонажами, т. е. не получили необходимую для персонажа
самостоятельность, независимость от создающего их сознания. Они — тоже обломки
мира, утрачивающего реальность, функции созерцающего этот мир «взгляда», который
сохраняет единственную способность, способность к созданию романа, «нового романа».
Сооружение, воздвигнутое Клодом Симоном в романе «Дороги Фландрии» (1960),
напоминает лабиринт Алена Роб-Грийе. Симон тоже приверженец «шозистского», или, как
его называют, «кубистического», письма, которое отличается дотошным,
натуралистическим описанием фрагментов, «обломков» реальности и их субъективной,
произвольной композицией, в основе которой чье-то «я», чье-то сознание. Оно
досконально воспроизводит все, что попадает в поле зрения, но устраняется от
описания обстоятельств времени и места действия, от конкретно-исторического анализа
ситуации. Не без труда читатель обнаружит, что дело происходит «где-то в Арденнах»,
что идет война с немцами. Можно сделать вывод, что изображается начало второй
мировой войны, разгром французской армии на северных рубежах. Делать такой вывод
приходится самому читателю, писатель не старается ему помочь, снабдить какой-либо
информацией — автор все замыкает в потоке сознания.
У Роб-Грийе весь передний план занят потоком «вещей» (на-
12
равпе с которыми изображаются и люди), а сознапие, этот поток направляющее, где-то
скрыто. У Клода Симона поток сознания на переднем плане, он свободно и широко
разливается на пространстве романа, вовлекая в себя все: и то, что внутри сознания,
и то, что вне его. В этом непрерывном, сплошном потоке и монологи, и диалоги, и
описания, и прямая речь, словом, все способы повествования. Субъективный его ритм
ломает все нормы, даже нормы языка, сиитаксиса; знаки препинания причудливо
рассыпаются по тексту либо вовсе упраздняются автором, предложение деформируется,
дробится.
С особым пристрастием Симои ставит скобки. Скобки в его романе — от «шозистской»
доскональности, от чудовищной конкретизации и детализации натуралистических
патюрмортов. Романист неспособен замкнуть фрагмент текста в законченный,
завершенный период, прервать поток, поставить точку в живом течении романа, где все
цепляется друг за друга по внезапной ассоциации, по звуковому совпадению, по
близости ритма, все вращается в безостановочном круговороте, напоминающем лабиринт
Алена Роб-Грийе.
Между тем в романе «Дороги Фландрии» можно вычитать вполне определенную историю.
Речь явно идет о военном поражении, о гибели кавалерийского капитана де Рейшака,
попавшего в засаду после разгрома его эскадрона. Мало-помалу, клочками, обрывками,
восстанавливается предыстория, появляется его жена Коринна, его ордипарец, бывший
жокей, выясняются отношения в этом «треугольнике». Из хаоса выступает дальнейшая
судьба персонажей, описывается лагерь для военнопленных, попытка бегства,
предпринятая кавалеристом Жоржем, его встреча с Корин-ной. Выходит, в романе Симопа
есть целая система персонажей и их история?
Однако все это возникает в потоке сознания, который не служит для раскрытия образа
какого-либо определенного персонажа, его внутреннего мира. Да и чьему сознанию
принадлежит этот поток? Кто говорит в романе? И когда говорит, когда повествование
возникает? На эти вопросы ответить нелегко, да вряд ли и возможно. До поры до
времени можно с достаточной долей уверенности утверждать, что поток сознания
рождается как форма воспоминаний Жоржа, очевидца гибели капитана де Рейшака. Или же
как форма разговора Жоржа с его другом Блюмом во время их пребывания в лагере для
военнопленных. В этом случае психологическую достоверность приобретает даже
натуралистическая детализация набегающих воспоминаний: в мире убогом и лишенном
впечатлений, в страшном мире времени настоящего, пережившие катастрофу персонажи
романа погружаются в единственно
13
доступный для них мир прошлого, бережно, во всех подробностях его восстанавливая.
Но вот иллюзия непосредственных бесед с Блюмом разрушается, поскольку Блюма уже нет
в живых. Допустима еще одна иллюзия — бесед Жоржа с Коринной, во время которых,
быть может, все и вспоминается. Однако текст романа «Дороги Фландрии» никак не
похож на рассказ, на беседу — и не может на него походить, потому что точные и
определенные объяснения, кто и когда в романе рассказывает, противоречат его сути
как «нового романа», размываются всемогущим потоком сознания.
С завораживающей силой Клод Симон передает самим текстом своей книги ритм
непрерывного движения, бесконечной скачки, которая вырастает до символа бытия,
потока жизни. В этом потоке сплетаются две темы, два лейтмотива — любви и смерти.
Навязчивые авторские повторы возвращают к этим темам, к эпизоду гибели капитана,
утверждая как будто незыблемость истины смерти. Тем более что она приобретает
историческую перспективу. В потоке сознания — возможно, в рассказах Жоржа —-
устанавливается связь времен, настоящего и далекого прошлого, гибель капитана
перекликается с гибелью его предка. Так утверждается извечность, безысходная
повторяемость смертей, убийств, уничтожения, так создается образ всепоглощающей
бездны. В эту бездну уходит История вместе с ее легендами и мифами. С предка,
воплощающего эпоху просветительского разума, эпоху Революции, снимаются парадные
одежды, он лишается героического ореола. Смерть героя предстает в таких
подробностях, которые делают его комичным. Трагедия оборачивается фарсом. Так было
— так и есть.
Писатель полемизирует с Историей с большой буквы. В его романе многократно
возникает образ лошадей, образ конюшни: тем самым Симон определяет рамки, в
пределах которых разворачиваются эпизоды как величественной Истории, так и
романтической Любви. Пошлая любовная сцена полуторавековой давности рисуется так,
как если бы она происходила ныне, теперь, постоянно. Она же повторяется в
«треугольнике» с участием жокея, затем — возможно — во время свидания Жоржа с
Коринной. В извечном потоке жизни, сливающемся с потоком сознания, главенствует
любовь, точнее, сексуальная одержимость,— ритм этого движения нарушается смертью,
чтобы возобновиться вновь.
Сцены разрушения и гибели, олицетворенной навязчивым возвращением к жуткому
описанию убитой лошади, бесконечно множась, превращают не только Историю, но бытие
человека в его духовных и физических проявлениях в бездну, которая поглощает
14
все, ибо торжествует исконная «злоба миропорядка». На поверхности остается только
книга, только роман, как единственный способ организовать первозданный хаос,
придать ему форму — форму «нового романа».
Под поверхностными слоями сознания (за пределы которых якобы не вышли писатели из
«музея») Натали Саррот, видная представительница школы «нового романа», разыскала
«не поддающиеся определению движения», которые она назвала «тро-пизмами»,
заимствовав термин из ботаники. Персонажи и их истории — это, согласно Саррот,
царство условностей и штампов, «этикеток», выработанных социальным обиходом и
закрепленных в языке. Соответственно Саррот не рекомендовала читать ее романы так,
как обычно читаются произведения «музейной» классики. Может показаться, что так
читать их и невозможно: «тропизмы» занимают все пространство романа, нет
персонажей, никто не назван, ничто не определено. На глазах читателя возникает и
непрерывно движется подспудная психологическая материя, поток глубинных импульсов и
реакций. В нем, в этом потоке, есть все, хотя объектом изображения Саррот стал мир
внутренний, подсознание скорее, чем сознание.
Как и у других «новых романистов», у Натали Саррот трудно, или вовсе невозможно,
определить, кому принадлежат выплескивающиеся на страницы ее романа потоки
«тропизмов». Повествование в них незаметным образом перемещается от одной исходной
точки к другой, размывая очертания персонажей. Тем не менее романы Саррот не стали
романами «ни о чем». Что бы ни хотела она сказать, книги ее напоминали о конфликтах
социальных. Сохраняя намеченный в первой ее книге «Тропизмы» конфликт
унифицированного внешнего бытия и подспудной, ищущей выхода индивидуальности,
Натали Саррот пасыщала его все более определенным, все более значительным
социальным смыслом — именно это стало важнейшим признаком эволюции творчества
писательницы.
В романе «Вы слышите их?» (1972) Саррот нагнетает драматизм вокруг совсем
незначительного повода, как будто ничего общего с социальными коллизиями не
имеющего. Статуэтка, которую так внимательно рассматривают и о которой столь
ожесточенно спорят,— всего лишь повод. Драматизм питается непримиримостью двух
групп, и социально-психологический смысл его раскрыт в романе не без
публицистической остроты.
В одной из этих групп — «старики», те, кто более всего ценит благонравие и
благопристойность, устойчивость и надежность. Это
15
«нормальные» граждане, они подчиняются законам и традициям. Другая группа — молодые
люди, непочтительные, они осмелились уйти «к себе», а уход здесь символичен: он
означает разрыв с косным существованием, обретение самостоятельности и свободы.
Символичен и веселый смех молодых, в нем звучит вызов, он дерзок и разрушителен. Он
подтачивает мир старый, сея сомнение даже среди консерваторов, рождая тягу к чему-
то иному. «Старики» все же учат, поучают — и даже судят. Их суждения об искусстве
подобны судебным приговорам, а для подкрепления своих поучений они готовы вызвать
полицию.
Полиция — и «микроскопические драмы» тропизмов! Очевидно, что роман Саррот
насыщается отзвуками социальных конфликтов. Само собой разумеется, реальность и
здесь овеяна призрачностью, свойственной «новым романам». Может быть, на самом деле
ничего и нет, нет ни дома и двух его этажей, нет ни «тех», ни «других», все
содержится в чьем-то сознании, которое раскололось, увидело самое себя в
столкновении двух позиций. Повторяемость одних и тех же эпизодов сеет сомнение в их
реальности, объективном их существовании.
Итак, нами рассмотрены четыре «новых романа». Все они достаточно убедительно
подтверждают сделанный выше вывод: «новый роман» («антироман»!) не подтвердил свою
заявку на бессодержательность, хотя заявка эта многое, конечно, определяет в «новом
романе», в его эволюции. За всеми образцами «нового романа», вошедшими в настоящий
сборник, стоит образ реальной действительности — пугающей писателя бездны, которая
поглощает личность, лишая ее свободы, индивидуальности, подчиняя условностям и
окостеневшим обычаям, умерщвляя ее и в переносном, и в прямом смысле слова, в
смысле той стихии уничтожения, перед которой человек бессилен. Разумеется, такое
мировосприятие односторонне и пессимистично, оно может быть названо мировосприятием
декадентским. Несомненно, однако, что питается оно впечатлениями от реальной
действительности, что в наиболее значительных своих образцах «новый роман» —
поучительный отклик на эту действительность.
Можно с уверенностью сказать, что в пределах искусства истинно значительного «новый
роман» остается благодаря именно этому — т. е. в той мере, в какой он, вопреки всем
своим декларациям и обещаниям, не порывает с реальностью раз и павсегда. Желая
напомнить о реальности формы, «новый роман» убедительно показал решающее значение
реальности содержания для обновления романа.
16
Совершенно очевидным все это стало тогда, когда «новый роман» оказался лицом к лицу
с «новым новым романом». Наследники у «новых романистов» нашлись немедленно. С
весны 1960 года в Париже начал издаваться журнал «Тель кель». При всей
эклектичности первых его выступлений, сразу же определилась ориентация на «новый
ромап» 50-х годов, в особенности на творчество Роб-Грийе.
Главный принцип «нового нового романа» состоит в том, что искусство ничего не
познает, ничего не выражает и ничего не отражает. Законченность н категоричпость
этому принципу придала структуралистская эстетика, ставшая очень популярной к
началу 60-х годов. В сочинениях ученого и критика Ролана Барта содержались
рассуждения о том, что искусство слова превращается ныне в «письмо», в «текст», а
это означает отказ от его изобразительных и познавательных функций. В соответствии
со структуралистской лингвистикой Барт считал литературное произведение замкнутой
системой, отражающей лишь процесс своего собственного возникновения. К середине 60-
х годов группа литераторов во главе с Филиппом Соллерсом, печатавшихся на страницах
журнала «Тель кель», превратилась в прилежных учеников Ролана Барта. «Письмо» — это
функционирование слов, которые «отмыты», по Соллерсу, до такой степени, что
совершенно освобождаются от бремени «поверхностных», а именно социальных,
нравственных, философских и прочих значений.
Декларации «самых новых из новых романистов» в общем близки декларациям «новых
романистов» 50-х годов. Однако сопоставление двух поколений «новых романистов» не
только показало родственную их близость, но и помогло внести ясность в споры о
«новом романе», позволило более четко определить суть и место «нового ромапа» 50-х
годов как романа, который сохраняет связь с действительностью и себя самое
сохраняет как роман.
Творческие принципы «новых новых романистов» уже требовали отказа не только от
традиционной системы романа: они вели к «истреблению следов романа». «Новый повый
роман» тоже разделывается с «линейным повествованием», с «историей», поскольку
«история» оказывается повинной в «порабощении текста изображением, сюжетом,
смыслом, истиной». От всех этих «устаревших» и «консервативных» понятий новейший
роман отказывается, намереваясь исходить из «ничего». В осуществлении этого
намерения «новый новый роман» был гораздо последовательнее «нового романа». О своем
романе «Числа» (1968) Соллерс писал, что это «роман, который стремится сделать
невозможным роман». «Письмо», которое развернуто на его страницах, по словам самого
автора, «вне сознания, вне понимания». «Речь не идет о том, чтобы выра-
зить что-либо, что находится вне слов,— комментировал свою задачу Соллерс.— Пишется
текст с помощью текстов, неким движением, скольжением, связанным с небывалым
моптажом, и тексты эти вызывают цепную реакцию, уничтожающую всякую законченную
книгу, а тем более всякого автора... Нет пичего, кроме письма...» Настаивая на
этом, самые новые из новых романистов сделали последний и решающий шаг: если «новые
романисты» завершали свой поиск книгой, актом творчества, то «новые новые
романисты» истребили и эту реальность, истребили и «всякую законченную книгу», и
самого автора. Их безбрежное новаторство обернулось вопиющей несуразицей, тупиком.
И тупик этот — прямое следствие отказа от реальности как обязательного источника
обновления искусства.
На фоне этого бесперспективного самопроизводства — хочется сказать, самоедства —
порождающего себя текста достаточно рельефно выступила содержательность
произведений, созданных старшим поколением «новых романистов». Натали Саррот
намеревалась писать романы «ни о чем». Но когда она соприкоснулась со
структуралистским романом, то не замедлила усомниться в его посылке, согласно
которой «все в литературе лишь язык, ничто не существует вне слов, ничто им не
предшествует». Жизнеспособность разработанной Саррот новой формы романа очевидно
зависит от способности этой формы уловить не просто объективную реальность, но
реальность социальную. Стереотипы оказываются признаком не косного, «традиционного»
романа, а консервативного буржуазного общества. В романе, который «ни с кем не
считается», в «новом романе» Натали Саррот увековечиваются черты бунтующей против
буржуазного миропорядка личности, черты непокорного молодого поколения.
Мишель Бютор также был далек от того, чтобы ограничиться текстом, которому ничто не
предшествует. В романе «Изменение» ему предшествовала судьба героя, судьба
цивилизации. Да и перестав писать романы, обратившись к экспериментальной прозе,
Бютор искал способы «прислушиваться к реальности», даже копировать ее. Реальностью
являются, например, Соединенные Штаты Америки, и в своем экспериментальном тексте
«Движение» Бютор попытался отразить эту реальность, создавая иллюзию стремительного
движения по пространству пятидесяти штатов, попутно обрушивая на читателя целый
вихрь разнообразной информации, среди которой есть и социально значимая. В
«радиофоничсском тексте» под названием «Воздушная сеть» Бютор пытается вызвать у
читателя те звуковые ощущения, которые возникают во время полета самолета.
«Описание собора святого Марка» посвящено реальности знаменитого венецианского
собора, а «стереофониче-
18
ский этюд» «6810000 литров в секунду» — реальности Ниагарского водопада, и т. п.
Что говорить о Саррот или Бюторе, если и роман «В лабиринте» Роб-Грийе остается
значительным произведением в силу сво* ей содержательности. Как бы ни советовал
автор ничего не вычитывать из его ромапа, не идти дальше лишенной смысла, лежащей
на поверхности материи, «В лабиринте» читается как один из впечатляющих
художественных документов, воплотивших вполне определенный отклик на реальную
действительность. Мысль об абсурдности бытия, об одиночестве и бессилии человека,
давно уже завладевшая буржуазным искусством, нашла в романе Роб-Грийе
последовательное и убедительное выражение.
То же самое можно сказать о романе Клода Симона «Дороги Фландрии». Форма «нового
романа» абсолютизирует «злобу миропорядка», намертво приковывает течение жизни к
безжалостной мельнице, перемалывающей все своими жерновами. И тем не менее «Дороги
Фландрии» — роман о войне, о вполне реальном конкретно-историческом событии, и
воспринимается он как произведение антивоенное.
Таким образом, семейные трагедии, отражающие трагизм социального бытия, конфликт
поколений, трагедия мировой войны — все это присутствует в четырех публикуемых в
настоящем сборнике «новых романах», а стало быть, в них отразилась значительная и
актуальная проблематика западно-европейского искусства последних десятилетий. Нет
сомнений в том, что жанровые особенности «нового романа» первого поколения в
немалой степени стимулированы этой проблематикой, мотивами и темами бессилия
человека, его одиночества, унификации, конформизма. Реальность общественного
кризиса, кризиса буржуазного общества сказалась в реальности «нового романа». То,
что может показаться чисто формальной новацией, даже формализмом, на самом деле
представляет собой отклик на реальную действительность эпохи.
В этом — «традиционность» «нового романа» первого поколения. Ее достаточно ясно
осознали «новые новые романисты». Филипп Соллерс не без оснований говорил:
«Несмотря на свои революционные декларации, «новый роман» не осуществил объявленных
преобразований...»
И в какой-то момент «новый новый роман» отрекся от «нового романа»,— но так, как
дети отрекаются от родителей. Что же касается самих «родителей», то им недешево
обошлись попытки об-повить роман, исходя «из ничего, из пыли». Расплачиваться в
конечном счете пришлось роману. Не случайно Бютор вообще быстро утратил интерес к
этому жапру. «Тотальность» в последних про-
19
изведениях Бютора достигается не глубиной и оригинальностью мысли, не
значительностью проблематики, а исключительно литературной техникой,
формотворчеством как главной, если не единственной задачей. Художник оказывается
запертым в тесной клетке, в мире сложнейших по видимости построений, сердцевина
которых — пустота.
Пустота начала притягивать к себе и Клода Симона. О своем романе «Урок вещей»
(1975) оп писал следующее: «Когда роман был почти закончен, я внезапно понял, что
на этих ста пятидесяти страницах занимался только тем, что прояснял различные
значения слова «падение»... Вы видите, какие это открывает перспективы? Вы видите,
что «темой» романа может быть просто слово...» Перспективы, открытые Симоном с
помощью словаря,— бесперспективная литературная игра, эксплуатация давно найденных,
уже неновых приемов. Это перспектива подмены искусства ремесленничеством.
Роб-Грийе в начале своей деятельности видел оправдаппе «по-вого романа» в том, что
только он служит высокому искусству, не преследуя никаких иных целей в мире,
который занят чем угодно, кроме бескорыстного искусства. При этом он повторял, что
искусство высокое — это «упражнение в стиле». Что же удивительного, если его
собственные опусы довольно быстро стали именно такими упражнениями? Оп сумел даже
подвести оправдание под этот процесс, сославшись на то, что характерным признаком
современной буржуазной цивилизации сделалось употребление стереотипов, штампов и
клише. «Философия сегодня — в рекламе»,— писал Роб-Грийе, оправдывая нисхождение
искусства до уровня рекламы как реальности буржуазного мира. Знакомые нам приемы,
игра в зеркала приковывает теперь к реальности тех «рекламных», полицейских и
порнографических романов, иллюстрации к которым оживают в его книгах и
киносценариях.
Весьма примечательно, что в то самое время, когда «новый роман» первой волны
обнаружил явные признаки деградации, связанной с пренебрежением к реальности и
желанием создать роман «ни о чем», в недрах «нового нового романа» обнаружились
признаки эволюции в противоположную сторону. Во всяком случае, Филипп Соллерс (да и
не он один) вдруг усомнился в возможности обновления романа, который не
предполагает никакого смысла вне текста, и признал, что задачей романа является
«рассказ о том, что происходит». Ныне авангард показался Соллерсу слишком
«академичным», «вышедшим из моды». «Романист сегодня — это реалист»,— заявил
Соллерс, сообщив, что себя он чувствует «типичным реалистом».
Такое признание не сделало Соллерса реалистом, но оно до-
20
вольно точно передало стремление «нового нового романа» выйти за пределы искусства,
которое ничего не отражает и ничего не познает, и стало характерным признаком
модернизма на современном этапе его извилистого пути.
Своей судьбой, своей эволюцией французский «новый роман» достаточно четко и
недвусмысленно дал ответ на один из самых важных и острых вопросов литературы — па
вопрос о природе и границах обновления жанра романа.
Точные границы литературных влияпий установить невозможно, но влияпие «нового
романа» было очень широким. Прямое его воздействие порой испытывали писатели,
ставившие совсем иные задачи, нежели «новые романисты», использовавшие его опыт для
создания произведений, не скрывающих своего социального пафоса. Можно сказать, что
течение «нового романа» влилось в широкий и мощный поток современного романа,
развивающегося в разнообразных, новых формах и возможность открытия таких форм
оживленно и заинтересованно обсуждающего.
Без поисков нового вряд ли возможно развитие искусства. С другой стороны, к
восприятию текстов непривычных, текстов трудных следует себя приучать, ибо в
принципе словесному искусству, как и искусству вообще, противопоказано легкое,
бездумное его восприятие.
Когда Клод Симон говорил, что в яблоках, написанных Сезап-ном, его интересует
Сезанн, а не яблоки, оп был нрав в том смысле, что не сами по себе яблоки должны
интересовать при созсрца-пии произведения живописи, что искусство не тождественно
жизни и с нею не конкурирует. Но Симон ошибался, полагая, что природа искусства и
природа его обновления позволяют пренебрегать реальной действительностью,
объективно, вне искусства существующими источниками впечатлений художника.
Школа «нового романа» своим опытом, своей судьбой лишний раз напомнила о жизни как
о главном источнике обновления искусства, главном условии его жизнеспособности. Все
в произведении искусства, разумеется,— плод творческого воображения художника. Но
как только художник сделает эту неоспоримую истину своим единственным законом, ему
не удастся избежать фатальной деградации искусства, его измельчания. История
«нового романа», поставленный этой школой эксперимент — далеко пе первое, но весьма
красноречивое тому доказательство. «Новый роман» утверждал, что только роман
реален, но ромап деградировал по мере того, как превращался в средство для
доказательства этой идеи. Не случайно «самый новый из новых романов», роман
21
структуралистский,— это «текст», свидетельство смерти новой школы.
И напротив: выдающиеся произведения крупнейших мастеров романа XX века убеждают в
том, что реалистический роман составляет главное богатство современной мировой
литературы, относится к высшим ее достижениям. При этом передовые художники отнюдь
не рассматривают традиционные формы романа как раз и навсегда данные, неизменные.
Они выступают за развитие этого жанра вместе с развитием самого общества, человека,
его эстетических представлений.
В предлагаемом читателю сборнике заняли место те «новые романы», которые нашли
новую форму для воплощения значительного содержания, которым было что сказать
читателю, несмотря на вызывающее обещание ни о чем не говорить.
Л. Андреев
ИЗМЕНЕНИЕ
РОМАН
ПЕРЕВОД
kdimi lifOShhuJmi
LA MODIFICATION
Мишель Бютор родился в 1926 г. на севере Франции. Учился в Сорбонне, получил высшее
философское образование. Преподавал во Франции, в Египте, в Англии, Греции,
Швейцарии. Первые романы Бютора («Миланский пассаж», 1954; «Времяпровождение»,
1956) особого успеха не имели. Роман «Изменение» (1957) получил премию Ренодо —
одну из видных литературных премий Франции. С этого времени Бютор перестает
систематически заниматься преподавательской деятельностью и становится
профессиональным литератором. После романа «Изменение» он опубликовал только один
роман («Ступени», 1960). Интенсивная литературная деятельность Бютора в 60—70-е
годы (за этот период им издано более трех десятков произведений) определяется
стремлением писателя создать новый, всеобъемлющий язык. Вот почему главное внимание
Бютор уделяет теоретическим работам («Опыты о современниках», 1964; «Опыты о
романе», 1969; «Репертуар», в 4-х т., 1960—1974, и др.). Граница между собственно
теоретическими и художественными произведениями писателя размывается, в его
творчестве, до крайности рационалистичном, не нашли дальнейшего развития даже те
элементы социальной критики, которые содержались в его же романах 50-х годов.
Создаваемый Бютором «всеобщий язык» пытается воспользоваться опытом музыкального
искусства и искусства живописи. К созданию этого языка привлечена и широкая
эрудиция автора. Бютор продолжает развивать эксперименты со временем и
пространством, которые отличают его романы,
Часть первая
ы ставишь левую ногу на медную планку и тщетно пытаешься оттолкнуть правым плечом
выдвижную дверь купе.
Ты протискиваешься в узкую щель между дверью и косяком, затем, сжимая
разгоряченными от натуги пальцами липкую ручку чемодана — нелегко было дотащить его
сюда, твой чемодан из шершавой темнозеленой кожи, хоть он вовсе не так велик и
тяжел, настоящий чемодан бывалого путешественника,— ты поднимаешь его, чувствуя,
как папрягаются мышцы и сухожилия не только в пальцах, кисти и предплечье, но также
и в плече, во всем правом боку и вдоль позвоночника — от шеи до поясницы.
Нет, эту непривычную слабость не объяснишь только ранним часом, тем, что утро лишь
начинается,— это годы уже предъявляют права на твое тело, а ведь тебе всего сорок
пять.
Глаза у тебя слипаются — они словно подернуты мутной пеленой, сухие веки больно
трут их, виски стиснуты обручем, и кожа на них словно покоробилась и омертвела,
волосы твои, уже начавшие редеть и блекнуть,— это пока незаметно для посторонних,
но заметно тебе самому, и Ан-риетте, и Сесиль, и с некоторых пор даже твоим детям,—
волосы твои сейчас слегка взъерошены, и все твое тело в неудобном, сдавившем и
отяготившем его костюме, твое тело, еще не покинутое сном, словпо погружено в
бурливую и пенистую, кишащую инфузориями жидкость.
Ты вошел в это купе только потому, что слева есть свободное место у стеклянной
перегородки, отделяющей купе от коридора, то самое место по ходу поезда, которое,
если б еще оставалось время, ты, как всегда, поручил бы Марпа-
26
ш
лю заказать для тебя,— впрочем, нет, ты сам заказал бы его по телефону, ведь в
фирме «Скабелли» никто не должеп знать, что ты па несколько дней уаичался в Рим.
Справа от тебя сидит человек — лицо его на уровне твоего локтя,— как раз напротив
того места, которое ты хочешь запять; он немного моложе тебя, ему от силы лет
сорок, он выше тебя ростом, бледен и раньше тебя поседел; глаза его, такие большие
за толстыми стеклами очков, часто моргают, и руки у него длинные, беспокойные, с
обгрызенными, пожелтевшими от табака ногтями, с тонкими пальцами, которые он нервно
сцепляет и расцепляет в лихорадочном ожидании отправления; по всей вероятности,
именно ему принадлежит и черный портфель, набитый папками, разноцветные корешки
которых вылезают из разошедшегося шва, и книги, наверняка скучные, в твердых
обложках,— они красуются над его головой, словно герб, словно девиз, не ставший
менее выразительным или более загадочным из-за своей вещественности, хотя это не
слово, а вещь, чья-то собственность, лежащая на металлической сетке с квадратными
дырочками и прислоненная к перегородке, которая отделяет купе от прохода.
Человек этот смотрит на тебя, досадуя, что ты застыл па месте и не даешь ему
вытянуть ноги; оп хотел бы попросить тебя сесть, по робость не позволяет ему это
сделать, и он отворачивается к двери и отодвигает пальцем сипюю занавеску, на
которой вытканы буквы SFCN К
Рядом с ним пока никого еще нет, но место занято: на зеленом дерматиновом сиденье
оставлен длинпый зонтик в черном шелковом чехле, а на полке — чемоданчик из
непромокаемой шотландки, с двумя узкими, ослепительно сверкающими медными
замочками, а дальше сидит молодой человек — он, видимо, только что демобилизовался,
— блондин в костюме из светло-серого твида, с галстуком в косую красную и лиловую
полоску: он держит за руку молодую женщину с волосами чуть темней его собственных и
играет с ней — щекочет пальцем ее ладонь, а она умиленно следит за этой игрой и не
отнимает руки, хотя, на мгновенье подняв на тебя глаза и заметив твой взгляд, тут
же опускает их.
Это не только влюбленные, но и супруги — на руках у обоих новые золотые кольца,
должно быть, это молодоже-
1 Сокращенное название: Национальное общество железных дорог Франции.
27
ны, совершающие свадебное путешествие; быть может, по этому случаю они и купили —
если только это не подарок какого-нибудь щедрого дядюшки — вой те два совершенно
одинаковых, новеньких чемодана из свиной кожи, которые лежат один на другом над их
головами и к ручкам которых подвешены на узеньких ремешках кожаные футляры для
визитных карточек.
Из всех пассажиров купе они одни заказали билеты: на никелированном поручне
неподвижно висят рыжие бирки, и на них крупными черными цифрами обозначены номера
мест.
У окпа, на противоположном сиденье — один-единст-веиный пассажир, священник лет
тридцати, уже несколько располневший, подчеркнуто опрятный, только пальцы правой
руки пожелтели от табака; он пытается углубиться в чтение требника со множеством
картинок, а над его головой торчит папка серовато-черного, почти асфальтового
цвета, ее длинная застежка-молния полуоткрыта и ощерилась, словно пасть морской
змеи с мелкими острыми зубами; папка лежит на багажной сетке, куда ты, поднату-
жась, словно жалкий ярмарочный силач, рывком поднимающий за кольцо огромную полую
гирю, забрасываешь свой багаж одной рукой — другой ты по-прежнему сжимаешь только
что купленную книгу,— забрасываешь свой чемодан из шершавой темно-зеленой кожи с
вытесненными на нем инициалами «JI. Д.», подарок твоей семьи к прошлогоднему дню
рождения: тогда этот чемодан был довольно импозантным и вполне подходил для
человека, занимающего пост директора парижского филиала фирмы «Скабелли (пишущие
машинки)», да и сейчас еще на первый взгляд кажется вполне приличным, хотя при
более пристальпом изучении можно заметить на нем жирные пятна и ржавчину, которая
уже начала исподтишка разъедать замки.
Сквозь окно, в просвете между священником и изящной, хрупкой молодой женщиной,
потом сквозь другое окно другого вагона в купе устаревшего образца, с желтыми
деревянными сиденьями и веревочными сетками, виднеющимися в полутьме за
переменчивыми отблесками стекол, ты довольно отчетливо видишь человека одного с
тобой роста — ты не мог бы определить его возраст или с точностью описать его
костюм,— и человек этот повторяет, только еще более медленно и устало, все те
движения, которые только что проделал ты сам.
28
Опустившись па свое место, ты вытягиваешь ноги так, что между ними оказываются ноги
сидящего nanpofHB интеллигента, и на лице его сразу отражается облегчение, и он,
наконец, перестает сцеплять и расцеплять пальцы, расстегиваешь плотное ворсистое
пальто на блестящей муаровой подкладке и раздвигаешь полы, открыв колепи, обтянутые
брюками из синего сукна — складка на них уже разошлась, хотя ее загладили только
вчера,— правой рукой ты развязываешь и разматываешь шарф крупной вязки из толстой
двухцветной шерсти, и сочетание желтых и белых пятен напоминает тебе яичницу;
небрежно сложив шарф втрое, ты засовываешь его в широкий карман пальто, где уже
лежат сигареты «Голуаз» и коробка спичек и в швы забились крупинки смешанного с
пылью табака.
Затем, ухватившись за блестящую металлическую ручку — ее темный железный стержень
уже проглядывает сквозь облупившуюся никелировку,— ты пытаешься закрыть выдвижную
дверь: поначалу она слегка поддается, но потом отказывается тебе повиноваться, и в
эту самую минуту в окне справа возникает низенький (еловечек с румяным лицом, в
черном плаще и котелке и, подобно тебе, проскальзывает в дверную щель, даже не
попытавшись ее расширить, словно он заранее уверен, что и замок и дверь неисправны,
и как только ты убираешь ноги, оп безмолвно извиняется едва заметным движением губ
и глаз, что вынужден тебя потревожить; человечек этот — по всей вероятности,
англичанин,— судя по всему, и есть обладатель черного шелкового зонтика, лежащего
поперек обитого зеленым дерматином сиденья; он и вправду берет его в руки и
перекладывает, только не на багажную сетку, а чуть пониже, на узкую металлическую
полочку, рядом со своим котелком, пока единственным в этом купе; наверно, человечек
несколько старше тебя — залысины па его лбу гораздо больше твоих.
Справа, сквозь прохладное стекло, к которому ты прислонился виском, и сквозь
полураскрытое окно в проходе, мимо которого только что прошагала запыхавшаяся
женщина в нейлоновом плаще, ты снова видишь перронные часы — их контуры едва
различимы на фоне серого неба, узенькая секундная стрелка все так же мчится по
кругу прерывистыми скачками, а две другие показывают ровно восемь часов восемь
минут, и, значит, до отъезда еще целых две минуты, и, по-прежнему сжимая в левой
руке книжку — ты купил ее в зале ожидания, почти пе задер-
29
жавшись у прилавка, просто потому, что серия тебе знакома, не посмотрел даже пи па
имя автора, пи на название,— ты открываешь на запястье часы на ярко-красном кожаном
ремешке, прячущиеся под тройным — белым, синим и серым — рукавом рубашки, пиджака и
пальто, квадратные часы со светящимися в темноте цифрами из зеленоватого
фосфоресцирующего вещества, и тут же переводишь стрелку, потому что твои часы
спешат: на них уже восемь двенадцать.
За окном на перроне самоходная тележка, лавируя, прокладывает себе путь в серой
суетливой и говорливой толпе, где, увязнув в прощальных разговорах и напутствиях,
люди одним ухом все же прислушиваются к летящим из репродукторов обрывкам слов;
затем среди шума трогается тот, второй поезд, проплывают один за другим зеленые
вагоны, и вот уже самый последний уходит в сторону, точно край театрального
занавеса, и твоему взору открывается неправдоподобно вытянутая в длину сцена —
другой людный перрон с другими часами и другим неподвижным составом, который, надо
полагать, отойдет лишь после того, как твой поезд покинет вокзал.
Веки у тебя слипаются, голова клонится книзу, тебе хочется забиться в угол,
продавить в нем плечом уютную вмятину, но как ты ни силишься устроиться поудобней,
все напрасно; наконец ты вздрагиваешь от толчка, и твоим телом завладевает качка.
Пространство за окном неожиданно раздвинулось; приблизился и тут же исчез, скользя
по исполосованной рельсами земле, крошечный паровозик: твой взгляд подхватил его на
миг, выпустил, а следом за ним и облупившиеся задние стены высоких, давно знакомых
тебе домов, скрещения железных балок, широкий мост, на который въезжает молочный
фургон, дорожные знаки, столбы и разветвления проводов, улицу, которую ты
пробегаешь глазами во всю длину и по которой мчится и заворачивает за угол
велосипедист, потом еще вон ту, другую улицу, идущую вдоль железнодорожной колеи и
отделенную от нее лишь хилым штакетником и узкой полоской неухоженной, жухлой
травы; кафе, где сейчас поднимают железную штору; парикмахерскую со старинной
эмблемой — конским хвостом, подвешенным к золотому шару; бакалейную лавку с
огромными алыми буквами над входом; первый пригородный вокзал, где пассажиры
ожидают другого поезда; высокие металлические башни газгольдеров, мастерские с
синими
30
оконными стеклами; вон ту большую облезлую нечь; вон тот склад старых шин, вон те
палисаднички с подпорками для цветов и сарайчиками, а в тесных двориках — каменные
домики с телевизионными антеннами.
Дома становятся ниже и лепятся как попало, все больше теперь прорех в плотной ткани
города: придорожные кусты, первые деревья, сбрасывающие листву, первые лужи, первые
клочки лугов и полей — зелень на них кажется серой под низким небом,— и за всем
этим смутно проступающая на горизонте гряда покрытых лесами холмов.
Здесь, в купе, убаюкиваемые и истязаемые несмолкающим шумом, монотонный ритм
которого временами нарушается проносящимися мимо колючими сгустками скрежета и воя,
четверо пассажиров напротив тебя дружно раскачиваются, не произнося ни слова, не
пытаясь даже шевельнуть рукой, а у окна священник с легким досадливым вздохом
закрывает свой требник в переплете из мягкой черной кожи, зажав между страницами с
позолоченным обрезом свой указательный палец вместо закладки, которая узенькой
белой ленточкой свисает с корешка.
Все взгляды вдруг обратились к двери, которую одним ударом плеча, словно бы без
труда, отодвинул высокий краснолицый мужчина — по всей вероятности, он вскочил
I в вагон в последний момент, когда поезд, дернувшись, отошел от перрона, и,
швырнув в багажную сетку пухлый чемодан и что-то круглое, обернутое газетой и
перевязанное размочаленной бечевкой, новый пассажир уселся рядом с тобой,
расстегнул плащ, закинул ногу на ногу, вытащил из кармана журнал в цветной обложке
и принялся разглядывать в нем картинки.
Его мясистый профиль заслопил от тебя священника, и теперь ты видишь лишь руку,
лежащую на ребре окна и вздрагивающую от тряски: указательным пальцем священник
среди неумолчного грохота машинально и неслышно постукивает по привинченной к раме
узкой металлической пластинке, вдоль которой, как ты знаешь (хотя не можешь
прочесть ее от начала до конца и лишь отгадываешь одну за другой горизонтальные
буквы, словно бы расплющенные, раздавленные перспективой), тянется надпись на двух
языках: «Высовываться наружу опасно.— Ё pericoloso sporgersi».
Стремительно проносясь черными полосками через весь окопный проем, мелькают один за
другим металлические или бетонные столбы, взмывают вверх, расходятся, снова
31
скользят вниз, сходятся, скрещиваются, множатся и вновь сливаются воедино,
повинуясь ритмичной команде изоляторов, телефонные провода — они тянутся гигантским
нотным станом, только без нотных знаков, обозначая звуки и созвучия одной лишь
игрой своих линий.
Чуть дальше, чуть медленней, все реже перемежаясь пятнами поселков или домов,
разворачивает свой фронт лесная гуща, то разрываясь просекой, то снова смыкая
строй, словно желая укрыться за каким-нибудь одним рядом деревьев.
Поезд минует, нет, пересекает настоящую лесную чащу, потому что сквозь стекло, к
которому ты по-прежнему прижимаешься виском, за окном прохода, теперь уже
опустевшего, за окнами, длинной вереницей тянущимися до самого конца вагона, тебе
открывается все та же картина нескончаемых блеклых лесных зарослей, с каждым метром
становящихся все гуще и гуще.
Железнодорожная колея, прорезая чащу деревьев, идет по дну рва, который сужается
кверху, так что тебе совсем не видно неба, а почва вокруг вздымается крутыми
земляными и кирпичными откосами, и на одном из них — ты едва успел их заметить —
мелькнули огромные буквы, прочерченные красным по белому квадрату каменных плит;
ты, разумеется, ждал их, только, может быть, не так скоро, ведь ты уже видел их
столько раз, ты высматриваешь их во время каждой поездки, если только за окном еще
не стемнело, потому что они либо предвещают тебе скорое возвращение, либо
подтверждают, что твое путешествие действительно началось.
Поезд минует станцию Фонтенбло-Авон. За окном прохода видно, как большой черный
автомобиль останавливается у здания мэрии.
Если ты боялся опоздать на поезд, к тряске и шуму которого уже успел привыкнуть, то
вовсе не потому, что проснулся в это утро поздней, чем хотел,— наоборот, едва
открыв глаза, ты первым делом протянул руку к будильнику, чтобы не дать ему
зазвонить, в то время как рассвет уже вылепливал на твоей постели складки смятых
простынь, выступавших из мрака, подобно привидениям, укрощенным и втоптанным в эту
мягкую, теплую почву, из которой ты сам с трудом высвободил свое тело.
32
Обернувшись к окну, ты увидел волосы Анриетты, когда-то иссиня-черпые, и ее спину,
в первых блеклых, унылых лучах зари неожиданно и робко проступившую сквозь белую,
полупрозрачную ночную рубашку и затем обрисовывавшуюся все более отчетливо по мере
того, как Анри-етта отодвигала и складывала железные ставни, покрытые липкой черной
городской пылью и кое-где — язвами ржавчины, похожими на пятна запекшейся крови.
Сырой прохладный воздух ворвался в комнату, защекотал ноздри, и когда стал
отчетливо виден весь проем окна, Анриетта, зябко стянув правой рукой вырез на
увядшей груди, украшенный жалкими, бесполезными кружевами, подошла к зеркальному
шкафу в стиле Луи-Филиппа и одним движением руки переместила отражение потолка и
его леппого рисунка вместе с трещиной, которая с каждым месяцем становится все шире
и которую тебе давно уже следовало бы замазать (в скупом свете, словно просеянном
сквозь несчетные щели в слоистых серых облаках, даже красное дерево казалось
бесцветным, и только в самом углу на лепнине дрожал медный отблеск, скорее рыжий,
чем красный),— подошла и, приподняв голую руку и обнажив подмышечную впадину, среди
всех этих висящих на плечиках платьев с вытянутыми прямыми рукавами, словно
облегающими бесплотные руки прежних жен Синей Бороды, чьи призраки с беспощадной
немой насмешкой покачивались в шкафу, среди всех этих платьев отыскала халат в
крупную серую с желтым клетку, надела его, нерв но затянув шелковый пояс, и в этом
халате, усталая, озабоченная, настороженная, сразу стала похожа на больную.
Да, в ту минуту в ее глазах не было ласки, но зачем ей понадобилось вставать с
постели, когда ты отлично справился бы без нее, как было условлено, как ты уже
справлялся много раз, когда она уезжала на лето с детьми,— впрочем, дома Анриетта
никогда не передоверяла тебе все эти мелкие хлопоты, так как была убеждена, что
тебе без нее не обойтись, и стремилась убедить тебя в этом...
Ты подождал, пока она выйдет из спальни, тихо притворив дверь, чтобы не разбудить
спящих в соседней комнате сыновей, и тогда, надев на руку часы (было чуть больше
половины седьмого), ты сел па кровати, сунул ноги в домашние туфли и, почесав
голову, рассеянно взглянул в окно на купол Пантеона, смутно вырисовывавшийся на
сером небе, неотступно размышляя о выражении лица твоей жены и спрашивая себя,
разумеется, не о том, догады-
2 М. Бютор и др.
33
вается ли она вообще — в этом не могло быть ни малейших сомнений,— а только о том,
как далеко она зашла в своих догадках, в частности, насчет этой поездки, и
насколько она тебя раскусила.
Конечно, тебе было приятно выпить кофе с молоком, который она для тебя сварила, но
старалась она — да она и сама это знала — совершенно напрасно, потому что так или
иначе ты позавтракал бы в вагоне-ресторане.
На лестничной площадке ты не посмел отказать ей в унылом прощальном поцелуе.
— Времени у тебя в обрез. Правда, в первом классе место всегда найдется.
Откуда ей было известно, что на этот раз ты не мог заказать билет? Сам ли ты
рассказал ей об этом, и если да, то зачем? Так или иначе, она не может, никак не
может знать, ни в каком вагоне ты сейчас едешь, ни того, что ты совершаешь эту
поездку украдкой, не по заданию и не за счет фирмы «Скабелли», а, напротив, втайне
от римских начальников и твоих собственных подчиненных в Париже.
Она захлопнула дверь квартиры еще прежде, чем ты зашагал вниз по ступенькам, и
упустила тем самым последнюю возможность тебя растрогать, хотя совершенно очевидно,
что она ничуть к этому пе стремилась и поднялась на рассвете, чтобы подать тебе
завтрак, лишь в силу привычки, быть может, под влиянием своего рода презрительной
жалости; ясно ведь, что эта жизнь опостылела ей еще больше, чем тебе. Какой смысл
укорять ее — после этих ее слов, в которых, очевидно, была скрыта насмешка и на
которые ты пе нашел, что ответить, да и не хотел ничего отвечать,— укорять за то,
что она даже пе проводила тебя взглядом, когда для вас обоих было бы, право,
гораздо лучше, если бы она вообще пе вставала с постели, даже не разомкнула век, и
ты покинул бы ее, пока она спала, и простыни и одеяла равномерно вздымались бы от
ровного дыхания спящей женщины, едва различимой во мраке спальни с затворенными
ставнями, которые ты даже не стал бы открывать.
Если ты боялся опоздать на этот поезд, неторопливо едущий сейчас мимо голых полей и
бурых лесов, то лишь потому, что па поиски такси у тебя ушло гораздо больше
времени, чем ты рассчитывал: ты вынужден был пройти с чемоданом в руках всю улицу
Суффло, и только па углу бульвара Сен-Мишель, у кафе «Майе», после многих тщетных
попыток тебе наконец удалось остановить машину, го
34
шофер даже не потрудился распахнуть дверцу и помочь тебе поставить твой небольшой
багаж, и у тебя появилось нелепое ощущение, будто он прочитал на твоем лице, что на
этот раз ты намерен ехать третьим классом, а не первым, как ты привык, и особенно
неприятным было вдруг поразившее тебя открытие, что реагируешь ты так, словно в
самом этом факте заключено нечто позорное — странный поворот утренних мыслей, еще
не сбросивших пелены прерванных сновидений.
Забившись, как и сейчас, в правый угол, ты смотрел на проплывавшие мимо пустынные
тротуары, витрины запертых магазинов, стволы деревьев, затем увидел церковь
Сорбонны и ее безлюдную площадь, руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя,
вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора, Винный рынок,
решетчатую ограду Ботанического сада; слева, над парапетом Аустерлицкого моста,
посреди других колоколен, верхушку собора, высящегося на своем острове, и, наконец,
справа — вокзальную башню с часами, показывающими восемь утра.
В тот миг, когда ты спросил у контролера, пробивавшего твой билет, только что
купленный в международной кассе, где платформа, на которую тебе нужно пройти, ты
вдруг увидел, что она совсем рядом, и тут же, у начала платформы, висел циферблат,
его неподвижные стрелки показывали не время дня, а время отправления поезда —
восемь часов десять минут,— и табло с перечнем главных остановок на твоем пути, уже
давно запомнившихся тебе наизусть: Ларош, Дижон, Шалон, Макон, Бур, Кюлоз, Экс-ле-
Бен, Шамбери, Модан, Турин, Генуя, Пиза, Рим — вокзал Термини и дальше (а этот
поезд следует дальше) Неаполь, Реджо, Сиракузы, и ты, воспользовавшись несколькими
оставшимися у тебя минутами, купил наугад вот эту книжку с тех пор ты не выпускаешь
ее из рук — и пачку сигарет, которая, еще не распечатанная, лежит в кармане твоего
пальто, под шарфом.
За окном прохода от церкви отъезжает большой черный автомобиль, он едет по шоссе
вдоль полотна наперегонки с поездом, то приближаясь, то удаляясь, исчезает за лесом
и, вынырнув из-за него, пересекает речушку с ивами и заброшенной лодкой у берега,
отстает, затем вновь нагоняет твой вагон, останавливается у развилки, поворачивает
2*
35
и катит к деревеньке, которая вскоре скрывается за холмом вместе со своей
колокольней. Поезд проезжает станцию Монтеро.
В грохот поезда вдруг врывается трель звонка — в синей фуражке с золотым позументом
и белой куртке к вам идет официант вагона-ресторана, и, видно, не ты один дожидался
его появления, потому что молодожены тоже встрепенулись и теперь, глядя друг на
друга, улыбаются.
Какой-то мужчина, женщина, еще одна женщина, которая видна тебе только со спины,
вышли из своих купе и идут по проходу; кто-то рукавом плаща провел по стеклу, к
которому ты по-прежнему прижимаешься виском, затем
о стекло раз-другой ударилась большая дамская сумка из черного нейлона с
крупной пластмассовой застежкой.
В купе стало заметно жарче, и ты чувствуешь, как накаляется на полу между сиденьями
выложенный ромбовидными пластинками отопительный мат. Твой сосед, тот, что
последним вошел в купе, на вид самый бедный из твоих попутчиков, закрывает свой
журнал, какую-то долю секунды колеблется, не зная, куда его девать, затем встает,
кладет его на полочку, и страницы тотчас разворачиваются веером, а он снимает свой
плащ и, смяв его толстой рукой, словно тряпку для протирки автомобиля, резким
движением швыряет на сетку между своим же свертком в газетной бумаге и твоим
чемоданом (роговая пряжка пояса сначала постукивает по металлическому ободу
багажной сетки, затем пояс соскальзывает, и она начинает раскачиваться), потом
снова берет журнал, раскрывает его и усаживается па место.
Интересно, какую по счету свадьбу и какой именно актрисы запечатлел этот снимок?
Повторный звон колокольчика заставляет тебя обернуться вправо, и несколько секунд
ты следишь за белой курткой официанта, а он возвращается к себе в вагон-ресторан,
чтобы разлить по чашкам — бледно-голубым, словно изменчивое весеннее небо в каком-
нибудь северном городке — невкусный, но дорогой кофе.
Молодая женщина, первой решившаяся последовать приглашению, а затем и ее муж,
извинившись, проходят мимо тебя; они краснеют и улыбаются, словно это первая в их
жизни поездка, и решительно все, даже самое мелкое происшествие, радует их и
восхищает, они наполовину задвигают за собой дверь купе, которая все это время была
широко раскрыта, и торопливо уходят в вагон-ресторан.
36
Человек, сидящий напротив тебя, приподнимает штору на стеклянной перегородке.
Ступай и ты в вагон-ресторан; засунь в карман эту книжку — сейчас она только мешает
тебе — и выйди из купе; не потому, что ты всерьез ощущаешь голод,— ведь ты пил кофе
совсем педавно — и не в силу привычки — ведь сейчас ты в другом поезде, не в том,
которым ездишь всегда, и должен приноровиться к иному распорядку,— а просто потому,
что это входит в программу, заранее намеченную тобой: механизм, который ты сам
привел в движение, теперь начинает действовать чуть ли не помимо твоей воли.
II
Да, это здесь, это и есть твое купе, вон тот человек с седыми висками, который
сидел напротив тебя,— теперь он погружен в изучение толстой книги в черном
коленкоровом переплете, а рядом с ним — его безупречно аккуратный, румяный сосед с
глазками хищной рыбешки, а вон и священник у окна, который вновь тщетно пытается
углубиться в чтение своего требника.
Для тех двоих, для влюбленных, для супругов — ты оставил их четырьмя вагонами
дальше, когда, склонившись друг к другу над столиком, они наслаждались неторопливой
беседой,— любой пустяк служит поводом для разговора, вызывает новый прилив
восторга, а тебя одиночество и уныние вновь пригнали в эту клетушку — твое
прибежище в поезде, уносящем тебя вдаль, клетушку, помеченную этой вещью, твоей
собственностью — чемоданом, лежащим слева от тебя на багажной сетке.
Но твое любимое место под ним, возле двери купе по ходу поезда,— ты был так
доволен, когда обнаружил, что оно свободно, ведь именно это место ты всегда
заказываешь через Александра Марналя в вагоне первого класса для своих служебных
поездок, а потому, уходя из купе, тебе, конечно, следовало бы его запять, оставив
на сиденье книжку, которая сейчас лежит у тебя в пальто, оттопыривая карман, и без
того набитый до отказа, тем более что ты так или иначе не стал бы ее читать в
вагоне-ресторане,— место твое теперь занято: его захватил пассажир, который
последним вошел в купе, тот самый, кого ты с первой минуты невзлюбил за то, что он,
так явно щеголяя
37
своею силой, распахнул дверь одним ударом плеча, за дурацкую самоуверенность и
вульгарность, и сейчас он по-прежнему, не отрываясь, разглядывает свой
иллюстрированный журнал, не выказывая ни малейшей готовности уступить тебе
захваченное место; он, несомненно, коммивояжер, только вот чем он торгует — вином,
медикаментами или, может быть, бельем? — но уж наверняка не пишущими машинками,
потому что в таком случае при нем был бы совсем иной багаж, если только он не
сбежал, подобно тебе, от своих будней...
За время твоего отсутствия в купе стало еще жарче, а может быть, это от ходьбы, от
горячего кофе, который ты выпил: ты весь вспотел. Твое лицо, оказавшееся как раз на
уровне зеркала, покачивается в его рамке от тряски поезда. Сегодня утром ты
побрился наскоро и теперь замечаешь у себя около ушей множество черных точек.
Влажной ладонью ты ощупываешь подбородок. Кожа на нем шероховатая и жесткая, да и
вообще у тебя усталое лицо, тусклый взгляд и горькая складка у рта. Даже после
второй чашки кофе ты все еще до конца не стряхнул с себя сон, хотя — как ты
убедился, взглянув на часы,— сейчас уже больше девяти утра, а это значит, что в
любой другой день недели ты — гроза запаздывающих машинисток — уже сидел бы у себя
в конторе на авепю Оперы, да к тому же вчера вечером ты довольно рано лег спать.
Эта поездка должна была принести тебе свободу, молодость, великое очищение тела и
души; почему же ты пе испытываешь уже сейчас ни воодушевления, пи счастья? Откуда
эта сковавшая тебя вялость, чтобы пе сказать больше — оцепенение? Может быть, это
усталость, накопившаяся за долгие месяцы и годы, когда ты подавлял ее неослабным
усилием воли, сейчас мстит тебе и захлестывает тебя, пользуясь твоим бегством,
подобно тому, как приливная волна использует малейшую брешь в плотине, чтобы
затопить поля, прежде защищенные прочной преградой, и терпкой солью вытравить в них
все живое.
Но ведь именно для того, чтобы отвести угрозу, которую ты и так слишком хорошо
сознаешь, задумал ты это путешествие; разве поезд пе уносит тебя туда, где
затянутся первые мелкие трещины, предвестницы старости, разве оп не мчит тебя в
Рим, где ждет тебя отдых и живительное обновление?
Отчего же тогда, как струна, натянуты нервы, откуда тревога, нарушающая ток крови в
твоем теле? Отчего до
38
сих пор ты не чувствуешь разрядки? Неужели рея причина волнения, растерянности,
страха только в том, что поезд следует по иному расписанию и ты выехал из Парижа в
восемь утра, а не вечером, как привык? Неужели ты уже стал таким рутинером, рабом
привычки? Если так, тем пастоятельнее необходима ломка, потому что, прождав еще
несколько недель, ты бы все потерял, навсегда остался бы в этом пресном аду и
никогда уже не отважился бы вырваться оттуда. Но, слава богу, освобождение близко,
и впереди — много чудесных лет.
А сейчас сними пальто, сложи его и закинь на свой чемодан. Правой рукой ты
ухватился за сетку; ты вынужден наклонить корпус влево — поза тем более неудобная,
что ее нужно сохранять при этой непрекращающейся тряске до тех пор, пока ты не
нажмешь большими пальцами на кнопки сверкающих замков (и оба язычка разом отойдут,
высвобождая кожаную крышку, и она, словно подталкиваемая мягкой пружиной, плавно
поднимется кверху); пока, просунув под крышку руку, ты не нащупаешь вслепую мешочек
из плотного нейлона в красную и белую полоску, куда сегодня утром, насухо вытерев
полотенцем лицо — перед тем ты пристально разглядывал его в зеркале, в твоей
квартире в доме пятнадцать на площади Пантеона,— ты в спешке и раздражении даже не
сложил, а побросал как попало еще влажную кисточку для бритья, крем в тюбике из
серой пластмассы, пачку новых лезвий, зубную щетку, гребенку, зубную пасту; пока,
нащупав этот гладкий ней-лоповый мешочек с маленьким колечком от застежки-молнии,
ты не прикоснешься к кожаному чехлу с домашними туфлями, к шелковой малиновой
пижаме, которую, памятуя о предстоящей встрече с Сесиль, ты тщательно выбирал вчера
вечером среди отливающих всеми благородными цветами радуги стопок белья в
зеркальном шкафу твоей спальни, в то время как Анриетта была занята последними
приготовлениями к ужину и до тебя сквозь разделяющую ваши комнаты стену долетали
отзвуки ссоры твоих сыновей, хотя они, право, уже достаточно взрослые, чтобы
научиться выносить друг друга; пока, наконец, ты не обнаружишь книжицу, которую
искал.
Крышка захлопнулась, мягко подпрыгнув раз-другой, и ты оставил чемодан, даже не
потрудившись защелкнуть замки.
Ты опустился на середину сиденья; слева от тебя у окна, открывающего вид на
стремительно летящие поля и
39
медленно разворачивающуюся линию горизонта, затянутого туманом,— священник,
шепчущий про себя молитвы (сколько же часов у них на это уходит!), справа —
склоненный над раскрытым журналом коммивояжер, неторопливо и обстоятельно изучающий
репортаж о свадьбе очередной кинозвезды, сидя у стекла, выходящего в коридор, по
которому проплывает красное вельветовое пальто, недавно мелькнувшее перед тобой в
вагоне-ресторане.
Ты чувствуешь, как проникает тепло сквозь подошвы твоих желтых ботинок; на одном из
них порванный шнурок связан узлом, который ты заткнул под язычок, и он, словно
раздувшийся прыщ, слегка выпячивает кожу ботинка и к тому же натирает тебе ногу, а
между двумя твоими ботинками вклинился третий, черный, блестящий, сверкающий в
полумраке, и смотрит в противоположную сторону; из него выглядывает синий носок,
прячущийся под краем суконных брюк в мелкую полоску, где чередуются два разных
оттенка серого цвета, а поперек полосок пропущена тонкая белая нить, которая вьется
беспорядочными кругами, напоминая утренние облака в ветреную погоду.
Черный ботинок, вздрогнув, перемещается вправо, нога, которую он украшает, ложится
на колено другой ноги, а ты сдвигаешь ступни и, взяв в руки справочник железных
дорог юго-восточной Франции, выпущенный издательством «Шэ», начинаешь разглядывать
его квадратную небесно-голубую обложку, и твои руки дрожат той же мелкой дрожью,
что и весь вагон на пути из Парижа в Рим.
Справочник «издан 2 октября 1955 года на время зимнего сезона, действителен по 2
июня 1956 года включительно» и пестрит объявлениями: «Отель де ла Пэ», Ницца,
открыт круглый год» (ты ни разу там не останавливался), «Нуга фирмы «Шабер и Гийо»;
затем крохотными буковками — ты подносишь страницу к глазам, стараясь их разобрать,
а это затрудняется тем, что тебе, конечно, не удается удержать книжку в
неподвижности,— еще одна надпись: «Золотой улей», она изгибается, словно ручка от
корзинки, над рисунком, запечатлевшим улей старинного образца,— круглый низенький
домик с соломенной крышей, а четыре точки в разных местах, по всей вероятности,
должны изображать пчел (поезд рокочет низким басом, лишь временами сменяющимся
скрипучим фальцетом, который напоминает, что это существо, мчащееся по
металлическим рельсам, само сделано из металла); и еще
40
объявление: «Вербена из Веле» (ты ни разу не пробовал этой «Вербены», кажется, это
зеленоватый приторный напиток, можно хоть сейчас спросить его в вагоне-ресторане,
где обычно предлагают ликеры).
Тут ты вспоминаешь: Пюи-ан-Веле — это один из тех бесчисленных городков, где тебе
ни разу не доводилось бывать, один из тех провинциальных французских городков, где
наверняка можно умереть от скуки, несмотря на все геологические раритеты, дайки
(так их, кажется, называют?) и собор, украшенный фресками, городок, где у вас
имеется свой представитель, уполномоченный фирмы «Скабелли» по всему Севеннскому
округу, хотя жители этих мест явно не испытывают особой нужды в пишущих машинках —
это мог бы с уверенностью сказать любой школьник с начальным образованием, по ведь
вам надо было охватить всю страну сетью ваших отделений, и потому понятно, что дела
у него идут из рук вон плохо, у этого человека, которому не далее как вчера по
твоему приказанию отправили письмо, выдержанное в весьма грозном тоне, у человека,
которого ты ни разу не видел и чьего имени даже не запомнил, потому что полностью
перепоручил этот участок Моландону и тот ежегодно, совершая инспекционную поездку
по центральной Франции, наведывается также в Пюи.
Им давно уже пора вернуться в купе, новоиспеченному мужу и его молоденькой жене,
ведь они раньше тебя пришли в вагон-ресторан, и когда, войдя, ты увидел их, им уже
успели подать завтрак, и они намазывали маслом поджаренные ломтики хлеба. Правда,
они едут вдвоем, они вдвоем открывают мир, и все приводит их в восторг; должно
быть, они совершают это путешествие впервые в жизни, и им так много надо сказать
друг другу, и нет нужды, подобно тебе, нарочно растягивать отдельные эпизоды пути,
чтобы хоть как-то заполнить пустоту и умерить ску-ку, к примеру, стараться
медленнее жевать, чтобы только убить несколько лишних минут — ведь любой пустяк
отнимет у них время, а оно и так пролетит слишком быстро, ведь их не гнетет
предчувствие усталости от долгих часов’ которые пройдут, прежде чем вы доедете до
места, от долгих столь привычных для тебя часов пути, отделяющих тебя от Сесиль,
которые на этот раз тебе придется провести в неудобном вагоне третьего класса,
тогда как те же неудобства ничуть пе омрачат радости молодоженов, и если они,
41
подобно тебе, едут в Рим, то завтра утром ты увидишь, как они проснутся —
измученные, но со счастливой улыбкой.
Новобрачная входит в купе, изящная, приветливая, извиняется сначала перед твоим
соседом справа, коммивояжером, захватившим твое место, и тот поднимает голову,
оторвавшись от иллюстрированного журнала, лежащего у него на коленях — он водит по
нему ручкой, пытаясь решить кроссворд; затем — перед преподавателем, сидящим
напротив тебя (да, он, бесспорно, преподаватель), и тот захлопывает свою книгу в
коленкоровой черной обложке с приклеенной к корешку грязной бумажной этикеткой
овальной формы, где старомодным толстым пером выведен черной тушью шифр, под
которым эта книга значится в библиотеке, скорее всего библиотеке какого-нибудь
учебного заведения; потом — перед англичанином (он, несомненно, англичанин), вон
тем пассажиром с на редкость прямой осанкой, единственным в этом купе, кто покамест
не занят чтением; наконец перед тобой, а ты не успеваешь вовремя убрать с дороги
ногу, и, споткнувшись, она выбрасывает вперед левую руку, другой прижимая к себе
сумку, похожую на корзинку,— плетеную сумку с окантовкой из белой кожи и
веревочными ручками, из пее торчат страницы сложенного вдвое дамского журнала и
кончик косынки,— и на какой-то миг опирается пальцами о зеленый дерматин рядом с
твоим бедром, а ее плащ задевает твои колени. Она оборачивается — ее губы сейчас на
уровне твоих глаз — и улыбается своему спутнику, который следует за ней, держась
правой рукой за металлический обод багажной сетки напротив тебя. Вновь обретя
равновесие, молодая женщина наклоняется снова уже затем, чтобы взять синий
путеводитель и итальянский разговорник, которые она оставила на сиденье — знак
того, что места заняты,— она протягивает обе книжки своему мужу, и тот укладывает
их на полку.
Почувствовав, что в купе стало жарко, молодожены тоже снимают свои плащи.
Сев у окна, она ставит сумку в угол рядом с собой, стиснув ладони коленями и
продавив ямку в своей юбке из серого твида. Она снова достает с полки свои книги и
располагается с ними на сиденье; молодожены переглядываются, переводят взгляд на
тебя, улыбаются, они видели тебя там, в вагоне-ресторане, где юный супруг
размешивал сахар в массивной голубой чашке, и этот завтрак, который ты даже не
разделил с ними, а лишь наскоро проглотил в
42
том же кафе на колесах, неприметно сблизил вас троих и отделил от четырех других
пассажиров, и теперь тебе было бы легко нагнуться к супругам и завязать разговор,
но ты совсем к этому не расположен, и новобрачному надоедает ждать, он отводит
глаза, принимает солидный вид и, раскрыв путеводитель, разворачивает план какого-то
города, а его жена достает из сумки дамский журнал и начинает листать страницы с
новыми модами. Убрав руку с окна, священник опять погружается в чтение требника,
устало шепча слова молитвы. За окном видны коровы, пасущиеся на полях. Ты снова
углубляешься в изучение справочника.
Вот напечатанные убористым шрифтом параграфы железнодорожных правил, узенькие
колонки с перечнем станций, столбцы международных линий, и вот, наконец, та самая,
что тебя интересует: «Е. Италия», и ты быстро отыскиваешь в ней поезд, в котором
сейчас сидишь: «скорый, номер 609, с вагонами 1-го, 2-го и 3-го классов» (говорят,
с будущего года третий класс отменят); черный ромбик над строчкой отсылает тебя к
сноске, содержащей дополнительные сведения о твоем поезде: ты узнаешь, что в этом
составе имеются вагоны прямого сообщения не только «Париж — Рим», но и «Париж —
Сиракузы», и спрашиваешь себя, не в один ли из этих вагонов ты сел и не в Сиракузы
ли держат путь эти влюбленные, эти молодожены, и хотя ты знаешь этот город только
понаслышке, да еще по рекламным фотографиям, он представляется тебе вполне
подходящим для медового месяца, особенно в эту пору, когда даже в Риме может
оказаться плохая погода.
Поезд проезжает станцию Сен-Жюльен-дю-Со с ее фонарями и таблицами на фонарных
столбах — название станции крупными буквами выведено на боковой стенке вокзала;
минует колокольню, дороги, поля, леса. Молодожены обсуждают какую-то деталь
маршрута, и муж отыскивает ее на карте. За окнами коридора мелькают огороженные
заказники, тянутся холмы, а впереди бежит дорога, по которой едет грузовик — он то
сворачивает с нее, то снова оказывается тут как тут, потом вдруг скрывается за
каким-нибудь домом, а за ним мчится мотоциклист, который вскоре обгопяет машину,
описав вокруг нее изящную ДУГУ? вытянутую, как лук с отпущенной тетивой; грузовик
отстает от мотоцикла, затем от поезда и исчезает из поля зрения.
43
Этот поезд, выехавший из Парижа с Лионского вокзала, как всегда, в восемь часов
десять минут и имеющий в своем составе вагон-ресторан (о чем свидетельствует знак:
скрещенные вилочка и пож),— ты, по примеру молодоженов, недавно побывал в нем и
снова посетишь его в час обеда, но не в час ужина, потому что к тому времени вагон-
ресторан уже будет другой, итальянский,— этот поезд сделает остановку в Дижоне,
чтобы снова отправиться в путь в одиннадцать часов восемнадцать минут; в тринадцать
часов две минуты он минует Бур, в четырнадцать часов сорок одну минуту проедет Экс-
ле-Беп (наверно, горы вокруг озера будут покрыты снегом), на двадцать три минуты
задержится в Шамбери, чтобы пассажиры другого поезда успели сделать пересадку, а на
границе для исполнения всех формальностей будет стоять с шестнадцати двадцати
восьми до семнадцати часов восемнадцати минут (маленький домик, нарисованный после
слова «Модан», обозначает таможню), в девятнадцать часов двадцать шесть минут он
прибудет в Турин на площадь Национале (к тому времени совсем уже стемнеет) и
отправится оттуда в двадцать часов пять минут; отойдет от станции Площадь Принчипе
в Генуе в двадцать два тридцать девять, в час пятнадцать будет в Пизе и, наконец,
завтра утром в пять часов сорок пять минут, задолго до рассвета, прибудет в Рим на
вокзал Термини,— этот поезд, в котором почти все для тебя непривычно, потому что ты
всегда ездишь другим (сведения о нем приведены здесь же, в соседней графе),
экспрессом «Париж — Рим» номер семь, со спальными вагонами, в нем есть только
первый и второй класс, и идет он несравненно быстрее этого, покрывая все расстояние
за восемнадцать часов сорок минут, тогда как вот этот — сейчас посмотрим —
проделывает тот же путь за двадцать один час тридцать пять минут, иными словами —
сейчас подсчитаем,— идет на два часа пятьдесят минут дольше экспресса, да и
расписание того куда удобнее: он отправляется из Парижа в час ужина, а прибывает в
пункт назначения на другой день вскоре после полудня.
Чтобы получить более полные сведения о поезде, в котором ты едешь (расписание того,
другого экспресса «Париж — Рим», которым ты обычно путешествуешь, тебе знакомо во
всех деталях, и когда ты сидишь в одном из его вагонов, тебе совсем не нужна эта
квадратная книжечка, ведь несмотря на всю твою многоопытность, ты разбираешься в
ней с трудом), тебе следовало бы изучить таблицу
44
номер 500, где гораздо подробнее описана эта трасса и перечислены все станции —
даже те, мимо которых поезд проскакивает без остановки; затем, после Макона, когда
поезд сворачивает с магистрали Париж — Марсель, тебе следует обратиться к таблйце
номер 530, а начиная с Мо-дана уже нужен итальянский справочник, потому что здесь
сведения о конечном отрезке пути есть только на одной страничке и перечислены лишь
основные пункты: Турин, Генуя, Пиза, тогда как наверняка есть и другие остановки,
по всей вероятности, в Ливорно, а может быть, и в Чивита-Веккия.
Будет еще совсем темно. Ты с трудом очнешься от сна, много раз прерывавшегося,—
особенно если тебе придется остаться на этом неудобном месте посредине сиденья,
хотя есть основания надеяться, что тебе удастся завладеть одним из углов, как
только сойдет кто-нибудь из твоих спутников, ведь не может быть, что все едут туда
же, куда и ты.
Кто же из этих шести будет еще к тому времени в купе, освещенном, по всей
вероятности, одним голубым ночником, тем самым круглым, темным глазком, который ты
различаешь внутри плафона, где он примостился между двумя прозрачными грушевидными
лампочками? Огни в деревенских домах будут погашены. Ты увидишь, как промелькнут
фары двух-трех грузовиков, вокзальные фонари, и ощутишь утренний озноб; ты
проведешь ладонью по подбородку, куда более колючему, чем теперь, встанешь, выйдешь
из купе и проследуешь в конец коридора, чтобы умыться.
Затем, после нефтеперегонного завода с его факелом и лампочками, расцвечивающими
алюминиевые вышки, точно рождественскую елку, пока поезд будет огибать город, еще
объятый потемками и сном, но уже огласившийся перезвоном трамваев и шумом
троллейбусов, перед тобой проплывут пригородные станции: Рим-Трастевере (и ты
увидишь скупые отсветы в черной воде реки), Рим-Ость-енсе (ты угадаешь во тьме
очертания городской стены и светлый пик пирамиды) и Рим-Тусколана (и отсюда, от
Порта-Маджоре, поезд устремится прямо к центру).
Наконец вплотную придвинется Термини, прозрачный вокзал — он так хорош на восходе
солнца, и как раз на восходе к нему и подъезжает этот поезд в другое время года, но
завтра в такой ранний час будет еще совсем темно.
45
За окном коридора возникла ферма, окруженная желтыми тополями, потом извилистая
дорога, то исчезающая в ложбинке, то вновь проглядывающая из-за частых полосок
распаханных борозд, вздыбившихся комьями земли и усеянных вороньем; по дороге едет,
приближаясь к полотну, мотоциклист в шлеме и кожаной куртке и скрывается между
откосами под мостом, на который — ты успеваешь это заметить — как раз въезжает
паровоз, тянущий твой поезд, и несколько первых вагонов. Через окно, у которого
сидят молодая женщина и священник, ты пытаешься вновь увидеть мотоциклиста, но он,
вероятно, давно уже отстал.
Решение ехать в Рим пришло внезапно; ведь в понедельник вечером, когда ты вернулся
к ужину домой, без чемодана, который ты запер в своей конторе на авепю Оперы, угол
улицы Даниель Казанова, потому что машина осталась в гараже, у тебя даже в мыслях
не было ничего подобного, и хотя ты уже давно задумал найти для Сесиль службу в
Париже, все же до последнего времени ты не предпринимал сколько-нибудь серьезных
шагов в этом направлении, и только во вторник утром, разделавшись со всеми текущими
делами и просмотрев корреспонденцию, накопившуюся за время твоего пребывания в
Риме, ты позвонил одному из твоих клиентов, Жану Дюрье, директору туристического
агентства — его витрипы видны из окна твоей конторы — и, предупредив, что разговор
носит конфиденциальный характер, спросил, не знает ли он о каком-нибудь подходящем
месте для твоей знакомой — тридцатилетней женщины незаурядных способностей. Она
бегло говорит по-английски и по-итальянски и в настоящее время, насколько ты
зпаешь, служит секретарем у воепного атташе при французском посольстве в Риме, что
пе слишком ее интересует, и потому готова согласиться на скромное жалованье, лишь
бы вновь вернуться в Париж.
Вполне возможно, что такое место найдется, ответил Дюрье: как только он что-нибудь
выяснит, он тебе позвонит; и в самом деле, к твоему великому удивлению и радости,
он позвонил в тот же вечер, заявив, что задумал провести реорганизацию в своем
агентстве и в свете намечаемых перестановок дама вроде той, о которой ты говорил,
может весьма ему пригодиться, и тут же предложил достаточно выгодные условия —
настолько выгодные, что ты взял на себя смелость заверить его в согласии Сесиль.
46
А когда надо приступать к работе? Когда даме будет угодпо — чем рапыпе, тем лучше,
но в то же время торопиться некуда, пусть она спокойно завершит все дела в Риме,
оформит свое увольнение, перевезет сюда все, что нужно, и обоснуется в Париже, ведь
ему отлично известно, как трудно заранее предвидеть все сложности, которые могут
возникнуть при переезде,— и в его голосе, в его учтивых фразах ты уловил неприятный
оттенок сообщничества.
В ту минуту ты думал уладить все это дело путем переписки и встретиться с Сесиль
лишь во время очередной поездки в Рим, куда всякий раз в конце года фирма «Ска-
белли» созывает на совещание директоров своих иностранных филиалов, и только в
среду обстановка накалилась, вероятно, потому, что это было тринадцатое ноября,
день твоего рождения, твое сорокапятилетие, и Анриетта, всегда придававшая большое
значение нелепым семейным праздникам, на сей раз уделила этому событию особое
внимание, терзаемая подозрениями, гораздо более обоснованными, чем она сама
предполагала, надеясь тебя удержать, сковать путами этого жалкого ритуала — не из
любви, конечно: все это у вас давно уже в прошлом (если вас и связывала в молодости
страсть, то все равно ей не сравниться с тем чувством раскрепощения и восторга,
которое подарила тебе Сесиль), а из усиливающегося с каждым днем страха (ах, как
быстро она старится!), как бы что-нибудь не изменилось в ее привычном жизненном
укладе, и не из настоящей ревности даже, а из боязни, как бы ты не совершил
необдуманного шага, как бы случайная бурная ссора не нарушила ее покоя и
благополучия детей, хотя чего-чего, а уж этого ей не приходится опасаться, но
только она никогда тебе не доверяла или, во всяком случае, уже давно утратила к
тебе доверие, и в этом, должно быть, и следует искать источник разлада, возникшего
между вами и с годами все углублявшегося,— в этом да еще в том, что твоя
удачливость, твой бесспорный жизненный успех, которому она обязана этой прекрасной
квартирой, столь высоко ею ценимой, ни в чем ее не убедили, и ты всегда чувствовал,
задолго до того как у нее появились для этого реальные основания, ее немой укор,
недобрую настороженность.
Когда в среду ты вошел в столовую в час обеда (в рамке окна сверкал великолепный
орнамент на фризе Пантеона, освещенный лучом белого ноябрьского солнца, кото-
47
рое вскоре померкло), когда ты увидел своих четверых детей, неуклюже, с насмешливым
видом стоявших у стола позади своих стульев, когда ты уловил на лице жены, на ее
запавших губах улыбку торжества, тебе показалось, будто все они сговорились между
собой и расставили тебе западню, будто подарки на твоей тарелке — приманка и все
блюда на столе тщательно выбраны с тем, чтобы тебя завлечь (конечно, за двадцать
без малого лет совместной жизни она отлично усвоила твои вкусы). Да и вообще все
это затеяно только для того, чтобы убедить* тебя, что отныне ты пожилой, степенный,
усмиренный человек; а между тем только совсем недавно тебе открылась иная жизнь,
та, какой ты жил лишь по нескольку дней в Риме, та, другая жизнь, в сравнении с
которой твои будни в парижской квартире казались лишь жалкой тенью, и вот почему,
осторожности ради, подавив раздражение, ты стал им подыгрывать, изобразив чуть ли
не веселье, похвалил их за умелый выбор подарков и послушно задул все сорок пять
свечей, но в душе ты уже твердо решил немедля положить конец этому затянувшемуся
фарсу, этой устоявшейся фальши. Самое время это сделать!
Теперь Сесиль приедет в Париж, и вы поселитесь вместе. Не будет ни развода, ни
скандала — в чем, в чем, а в этом ты совершенно уверен; все пройдет гладко, бедная
Анриетта смолчит, детей ты будешь навещать примерно раз в неделю; и ты заранее
предвкушал не только согласие, но и ликующую радость Сесиль, которая столько раз
подтрунивала над твоей ханжеской добропорядочностью.
Ах, это грозящее удушье, надо немедля бежать от него, вдохнуть полной грудью воздух
близкого счастья; надо сообщить эту повость Сесиль, с глазу на глаз, чтобы,
наконец, все было решено без недомолвок.
И вот, после обеда, в конторе на авеню Оперы, убедившись, что больше не предвидится
никаких срочных дел, ты объявил своему заместителю Мейнару, что намерен уехать на
несколько дней — с пятницы до вторника,— и послал Марпаля за справочником, который
ты сейчас держишь в руках, не попросив его, однако, купить билет и заказать для
тебя место, потому что ты вовсе не хотел оповещать всю контору о том, что ты снова
отправляешься в Рим.
Вечером, когда ты сказал Анриетте, что непредвиденные обстоятельства вынуждают тебя
уехать в пятницу утром (это утро сейчас уже на исходе) * ее удивил не
48
столько сам факт — ведь тебе и вправду не раз случалось наведываться в правление
фирмы по какому-нибудь срочному делу в промежутке между двумя обычными
командировками,— сколько непривычный и явно неудобный час твоего отъезда, который
ты выбрал, чтобы провести весь уик-энд с Сесиль, чтобы уже в субботу пообедать с
пей вдвоем, но еще, надо признаться, и потому, что в этом поезде есть вагоны
третьего класса, и ты подумал, что эта неожиданная поездка — она необычайно важна
для всей твоей будущей жизни, но без нее ты, в сущности, мог бы вполне обойтись, и,
естественно, никто ее тебе не оплатит — и без того потребует значительных затрат;
но вот по этому-то частному поводу — из-за часа отъезда и выбранного тобой поезда —
она засыпала тебя вопросами, и тебе пришлось измышлять разные доводы, что, по
правде говоря, ты проделал довольно неуклюже, и против каждого из них она легко
выдвигала справедливые возражения, на которые тебе нечем было ответить, и, видя
твое нелепое упрямство, удивлялась еще больше.
Во время последовавшего за этим объяснением ужина, тягостного для всех, дети то и
дело усмехались, не поднимая голов, вы же с Анриеттой не обменялись почти ни
словом, и только когда Жаклина — после того, как ты велел ей вымыть руки,
перепачканные чернилами,— встала и вышла из-за стола, пожав плечами, ты вспылил, а
мать, уж конечно, не нашла ничего лучшего, как громогласно вступиться за нее, и
девочка вернулась назад, разумеется, не упустив — хоть и паходилась в ванной — ни
единого слова из этой перепалки, и уселась на свое место, преисполненная гордости,
что в конечном счете взяла над тобой верх (Жаклина — младшая и твоя любимица; у
тебя нет никакой близости с остальными детьми, ты не знаешь их мыслей, пе понимаешь
их увлечений, все трое образуют против тебя нечто вроде единого фронта, кроме тех
случаев, когда братья дерутся между собой), и если бы у тебя оставались хоть какие-
нибудь сомнения, эта сцена наверняка устранила бы их.
Проглотив последний кусок, ты падел пальто, спустился вниз и зашагал в гараж на
улицу Эстрапад; выведя оттуда машину, ты помчался за черту Парижа и проделал в
49
дождливом сумраке около ста километров, а потом, возвратившись в город, оставил
автомобиль у тротуара на площади Пантеона, и когда после полуночи ты вернулся
домой, Анриетта, которая была уже в постели, но пе спала, ничего не стала тебе
говорить, а только окинула тебя чуть насмешливым и презрительным взглядом.
По счастью, на другой день, то есть вчера, в четверг, все улеглось, и за семейным
столом царил мир; в этот отчаянно холодный день — стужа не убывала, а напротив,
становилась злее,— за этот день, полный суматохи и суеты, ты должен был уладить —
ради короткого отпуска, который ты сам, без спросу, взял себе до среды,— все дела
фирмы «Скабелли», как всегда, бесконечно запутанные, так что вечером тебе уже
казалось, будто затор на площади Французского театра рассасывается еще дольше
обычного, а в гараже, где ты собирался попросить за время твоего отсутствия
основательно почистить и смазать машину, невыносимо скрипевшую всю эту неделю, тебе
пришлось долго ждать, и в конце концов, потеряв терпение, ты прикрикнул па
служащего, чтобы оп соблаговолил уделить тебе внимание, да к тому же в доме
пятнадцать на площади Пантеона не работал лифт, и ты был вынужден пешком подняться
на пятый этаж, но, несмотря на то, что ты задержался, стол все еще не был накрыт, и
ты услышал, как переругивались у себя в комнате Тома и Анри и как в эту перебранку
бестолково, неловко вмешалась Анриетта, а когда она вышла в коридор, чтобы позвать
Мадлену, ты поймал ее взгляд, знакомый, тусклый, усталый, мертвый взгляд, и в нем,
как только она тебя увидала, вспыхнули настороженность, враждебность и презрение,
которым она казнит тебя, словно это ты виноват в ее стремительном увядании,— и эти
жалкие семейные будни схватили тебя, словно тиски, сдавили тебе горло, как руки
убийцы, эти сумеречные полуживотные будни, от которых ты теперь, наконец, будешь
избавлен.
Ты ждал избавления потому, что в портфеле у тебя уже был спрятан вот этот самый
справочник в синей обложке, который ты сейчас держишь в руках и по-прежнему
неотрывно разглядываешь, хотя твои глаза уже ничего в нем не различают, и вчера
после ужина, прежде чем лечь в большую супружескую кровать, не дождавшись Анриет-
ты, которая легла, лишь когда ты уже уснул, ты положил его в чемодан поверх смены
чистого белья, приготовленного в дорогу.
50
Он казался тебе своего рода талисманом, ключом, залогом твоей свободы, счастливого
приезда в ослепительный Рим, обновления, чье волшебство усугубляется тайной,
залогом бегства от этой покойницы, лишь притворяющейся живой и занятой делом, от
этой покойницы со взглядом инквизитора, от этого трупа, с которым ты так долго не
решался расстаться только из-за детей, хотя каждый день, словно отхлынувшая волна,
уносил тебя все дальше от них, так что теперь в твоих глазах они подобны восковым
слепкам с самих себя; они ревниво таят от тебя свою жизнь, да и тебе с каждым днем
все меньше хочется знать о них и делиться с ними,— залогом бегства от Анриетты, с
которой вы не можете развестись, потому что она на это не согласится, да и ты при
твоем положении предпочтешь избежать скандала (фирма «Скабелли» с ее итальянской,
ханжеской, поповской моралью сурово осудила бы подобный поступок), от Анриетты,
которая, подобно чугунному ядру, повисла у тебя на ногах и увлекла бы тебя в
затхлую пучину скуки, бессилия, изнурительных, отупляющих будней и духовной спячки,
в болото, где сама она погрязла уже давно, не будь у тебя твоей спасительницы
Сесиль, этой свежей струи воздуха, этого источника силы, бьющей через край, этой
дружеской руки, протянутой к тебе и сулящей счастье и свет;
залогом бегства от этой мрачной, неотступной тени, которую ты теперь, наконец,
покинешь, к волшебнице, которая силой одного-единственного взгляда вырывает тебя из
пут этой отвратительной пародии на жизнь, возвращает тебе твое «я», даруя
целительное избавление от этой обстановки и этих обедов, этого увядшего тела, этой
надоедливой родни;
залогом принятого, наконец, решения порвать с прошлым, сбросить с себя оковы ложной
щепетильности, мертвящего малодушия и показать детям пример силы воли, отваги,—
решения, озарившего все своим отблеском и позволившего тебе вытерпеть, не сдаваясь,
не отступаясь от задуманного, не потонув в буднях навсегда, эту неделю цифр,
распоряжений и сделок, эту неделю дождей, криков и ссор.
Он казался тебе залогом этого путешествия, оставшегося тайной для Анриетты, потому
что, хоть ты и сказал ей, что едешь в Рим, все же ты скрыл от нее свои истинные
намерения, однако Анриетта прекрасно понимает, что за переменой привычного часа
отъезда кроется некая тайна,
51
твоя тайна, чье имя — ей хорошо это известно,— чье имя Сесиль, и потому, по сути
дела, уже нельзя считать, что ты ее обманул, и потому ложь, которую ты ей
преподнес, не была ложью в прямом смысле слова, не могла быть ложью в прямом смысле
слова, потому что так или иначе (на это ведь можно смотреть и под таким углом
зрения) — это неизбежный этап на пути к выяснению ваших отношений, к восстановлению
искренности между вами, столь глубоко подорванной теперь, на пути к раскрепощению
самой Анриетты, обретающей благодаря разрыву с тобой пусть неполную, частичную, но
все же — свободу;
залогом путешествия, которое останется тайной для всех, потому что на авеню Оперы
не знают, куда ты уехал, потому что никакая почта не настигнет тебя в Риме, где
обычно, когда ты прибываешь в отель «Квиринале», тебя уже дожидаются письма и
телеграммы, и поэтому, впервые за много лет, эти несколько вольных дней станут для
тебя настоящей разрядкой, как в те времена, когда ты еще не достиг нынешнего
положения, когда ты еще не успел сделать настоящую карьеру;
тайной потому, что в правлении фирмы «Скабелли» на Корсо никто даже не подозревает,
что ты приедешь в Рим в субботу утром и уедешь в понедельник вечером, и никто не
должен знать, что ты там будешь, и тебе придется соблюдать известную осторожность,
чтобы тебя не опознал кто-нибудь из услужливых, любезных и хорошо тебе знакомых
агентов фирмы «Скабелли»;
тайной пока даже для самой Сесиль, потому что, желая насладиться ее изумлением, ты
не предупредил ее о своем приезде.
Но зато она одна будет до конца посвящена в эту тайну, и эта встреча, нежданная для
нее, станет мечом, который, наконец, разрубит все путы, сковывающие вас,
удерживающие вас вдалеке друг от друга.
Среди ночи тебя разбудил скрип тормозов на площади Пантеона, ты зажег лампочку,
вмонтированную в стоящий справа от тебя подсвечник стиля «ампир», и взглянул на
бедную Анриетту, которая спала на другой половине кровати с открытым ртом, разметав
по подушке седеющие волосы, и словно была отгорожена от тебя непреодолимой рекой
белого полотна.
52
За окном, в просвете между молодой женщиной и священником, мелькают одна за другой
опоры высоковольтной линии вдоль дороги; по этой дороге едет огромный бензовоз с
прицепом, приближаясь к железнодорожной насыпи, возвышающейся над полями и круто
поворачивающей сразу же за мостом, под которым бензовоз исчезает. Человек, сидящий
напротив тебя, быть может, видит его теперь за окнами коридора, а тебе в твое окно
заметно лишь мельканье новых опор высоковольтной линии на холмах, все более крутых
и высоких.
Вокзал Термини встретит тебя во мраке зеркальным блеском стеклянных стен, когда,
пройдя с чемоданом в руке по перрону под легким бетонным сводом, покоящимся на
четырехугольных столбах из гладкого черного мрамора, среди толпы сонных,
беспорядочно спешащих к выходу пассажиров, ты отдашь итальянскому контролеру
половинку билета, купленного сегодня утром па Лионском вокзале, того билета, что
сейчас, сложенный вдвое, лежит в бумажнике рядом с паспортом, справкой о
многодетности и прочими документами в левом внутреннем кармане твоего пиджака, а в
зале ожидания, где еще будут закрыты книжные и другие киоски, сквозь огромные
стеклянные створки и сквозь тот, второй, призрачный зал, который в них отразится,
ты увидишь не термы Диоклетиана, смутпо темнеющие на другой стороне площади, а огни
фонарей, голубые искры трамваев и стелющиеся по земле вспышки фар.
Когда же ты выпьешь «эспрессо» в баре, который если еще не будет открыт к тому
времени, то вот-вот откроется, когда ты побываешь в albergo diurno 1 в подвальном
этаже вокзала и, приняв душ, побрившись и переодевшись, снова поднимешься наверх и
только теперь расстанешься со своим чемоданом, сдав его на хранение,— уже начнет
сереть за окном и робко забрезжит сумрачный рассвет; но только к половине седьмого
или даже к семи взойдет, наконец, солнце, осветив все серые и желтовато-красные
фасады зданий и развалины вокруг площади, а ты между тем, освободив от бремени свои
руки и ум, будешь медленно потягивать душистый caffelatte 2, устроившись поудобнее,
чтобы наблюдать картину. восхода, стремясь найти свое место, прочно обосноваться в
этом наступающем дне и почитывая газеты, которые ты купишь, как только их
1 Комнаты отдыха (ит.).
2 Кофе с молоком (ит.).
53
доставит на велосипеде разносчик; а тем временем мало-помалу начнет заниматься,
разгораться, шириться, набирать силу утренняя заря, и когда потом ты выйдешь из
вокзала, перед тобой во всем великолепии откроется город, темно-красный, словно из
всех его стен и камней сочится древняя кровь, окрашивая в тот же цвет лежащую на
них пыль, и небо — ты в этом уверен — будет светлым, безоблачным, и так как в
запасе у тебя останется еще около двух часов, чтобы прогуляться, прежде чем
наступит минута, когда ты встретишь Сесиль у подъезда ее дома,— Сесиль, ничего не
подозревающую и, как всегда по утрам, торопящуюся в посольство,— ты беззаботно
погрузишься в этот ясный воздух Рима, и он будет для тебя как вновь обретенная
весна после парижской осени, и пешком, ничем не обремененный, ничем уже пе
скованный, отправишься исследовать все повороты и закоулки, какие только тебе
приглянутся, сколь бы длинным, изломанным и причудливым ни был твой путь.
Но все же он, как всегда, приведет тебя поначалу па площадь Эседра, и сейчас ты
пытаешься угадать, забьет ли уже в это время фонтан, построенный в начале нынешнего
века, и сухими или мокрыми будут его похотливые бронзовые дамы, смешные и вместе с
тем восхитительные, однако на этот раз, поскольку ты будешь прогуливаться пешком,
ты сможешь пройти под аркадами и свернуть на улицу Национале, где к тому времени
уже начнут открываться магазины и появятся отвратительные грохочущие мотоциклы; но
на этот раз — вместо того, чтобы войти в отель «Квиринале», расположиться там и
оставить чемодан,— ты завтра лишь торопливо прошагаешь по противоположной стороне
улицы мимо еще соппой гостиницы, если только в этом самом месте, ради вящей и даже,
пожалуй, смехотворной осторожности, ты не свернешь на какую-нибудь другую,
параллельную, улицу, прячась от швейцара отеля, которому прежде ты позволил бы
встретить тебя, принять твои вещи и рассыпаться в раболепных приветствиях; ты
проследуешь дальше, спускаясь к памятнику Виктору-Эммануилу, мимо туннеля, оставив
по правую руку Корсо, уже запруженный машинами и людьми, пройдешь мимо дворца
Венеции, минуешь церковь Иисуса и пойдешь дальше к Сант-Андреа-делла-Валле;
впрочем, нет, совершенно яспо, что тогда будет еще слишком рано, несмотря на все
зигзаги, кружные пути и передышки, которыми ты постараешься усложнить, украсить,
обога-
54
тить и дополнить свой маршрут; и хотя отдельные отрезки этого пути иной раз
казались тебе бесконечно длинными и унылыми, когда ты проделывал его в такси или
совершал тот же путь в обратном направлении, возвращаясь ночью пешком в отель из
квартиры Сесиль, завтра он покажется тебе мучительно коротким, несмотря на всю твою
медлительность человека, утомленного проведенной в вагоне ночью, но нет, твоя
прогулка должна быть еще дольше, еще прекрасней, тебе следует полнее насладиться
этим часом, который тебе так редко случалось здесь наблюдать, новым освещением,
которое он сулит, этой прелюдией к изумлению и восторгу Сесиль, прелюдией к трем
последующим дням — предвестникам счастливого будущего; нет, не надо сразу же
спешить дальше, не стоит даже идти к церкви Иисуса, а лучше, обойдя Капитолий,
снова спуститься к Тибру и направиться к Ларго Арджентина с его средневековой
башней и широким рвом посередине, населенным голодными кошками, к Ларго Арджентина,
с его руинами четырех римских храмов времен республики, по той людной улице,
название которой ты позабыл,— она выходит на мост Гарибальди, и вы выбираете ее
всякий раз, когда отправляетесь ужинать в какую-нибудь пиццерию в Трастевере; а еще
можно будет пойти...
Она не выйдет из дома раньше девяти, но задолго до этого ты займешь пост на углу
улиц Монте-делла-Фарина и Барбьери, прямо напротив ее высокого дома с потемневшим
изображением святого Антония Падуанского над дверью и заржавевшими дощечками двух
страховых компаний, чтобы подстеречь тот миг, когда она отворит ставню в своей
комнате на пятом этаже, и, стоя на посту, закуришь сигару — не забыть бы купить
сигары, когда ты в следующий раз пойдешь в вагон-ресторан.
За окном коридора, в просвете между амбаром и кустами над сонным прудом, вдруг
появляется мотоциклист, резко сворачивает вправо, и его сразу закрывает большой
синий автобус с грудой багажа на крыше, потом мотоциклист сворачивает влево, мчится
к железнодорожной сторожке, мимо которой, обгоняя автобус, вскоре проносится поезд,
и вдали показывается деревня с колокольней и водонапорной башней. Молодожены глядят
в окно, прижавшись друг к другу, и их головы ритмично покачиваются.
55
Поезд проходит станцию Жуаньи; весь поселок отражается в Йонне.
Ты вспоминаешь о своем справочнике и, захлопнув его, разглядываешь на синей обложке
схематическую карту юго-востока Франции, где еле заметным контуром намечены берега
Средиземного моря и границы, чтобы было легче отыскивать города, размещенные на
карте с весьма приблизительной точностью и соединенные между собой прямыми черными
линиями, тонкими или жирными, напоминающими то ли трещины на стекле, то ли
свинцовую арматуру витража, сюжет которого уже нельзя разобрать; человек, сидящий
напротив тебя, встает, он все еще в плаще, застегнутом до самого подбородка и
перетянутом поясом, но он не выходит на ближайшей станции Ларош-Миженн, где
непременно останавливаются все поезда дальнего следования, станции, живущей,
существующей только нуждами железной дороги, раз он оставил на полке зонтик и
шляпу, а на багажной сетке — чемодан, обтянутый сине-зеленой шотландкой; а встал
он, скорее всего, просто потому, что хочет пройти в конец коридора, не зная, что
поезд уже подъезжает к вокзалу и что на остановках воспрещается пользоваться
некоторыми удобствами, но надписи об этом запрете в вагопе вывешены только на двух
языках: французском и итальянском, а он, вероятно, плохо понимает тот и другой,
известно ведь, что британцы презирают жителей континента, и, стало быть, ничто не
помешает ему исполнить свое намерение.
Впрочем, у него на родине, в Англии, вероятно, заведен точно такой же порядок, и
почему ты решил, что он не умеет читать ни по-французски, ни по-итальянски, что он
не такой же, как ты, обычный пассажир этой трассы,— может быть даже, в отличие от
тебя, он привык ездить именно этим поездом, да и с чего ты взял, что он англичанин,
этот человек, о котором ты сейчас можешь с полным правом сказать только одно — что
он похож на англичанина, что цвет его лица, одежда и багаж выдают англичанина,—
человек, который еще не вымолвил ни единого слова и сейчас тщетно пытается закрыть
за собой дверь.
Поезд остановился, и все пассажиры одновременно вскинули головы, оторвавшись от
чтения, застигнутые врасплох наступившим вдруг покоем и тишиной.
Ты видишь, как этот человек, вышедший в проход и сейчас стоящий к тебе спиной,
опускает стекло и высовывается наружу, чтобы взглянуть на станцию, словно здесь
56
можно что-нибудь увидеть, кроме железной, покрытой белой эмалью таблицы с ржавчиной
вокруг болта, прикрепляющего ее к столбу,— таблицы, на которой красными буквами
выведено название «Ларош-Миженн»,— да серого неба, прочерченного черными линиями
проводов, черной земли, исполосованной блестящими рельсами, да деревянных вагонов и
низеньких, стареньких домишек.
Струя прохладного воздуха врывается в купе, из репродуктора доносятся хриплые
невнятные звуки, которые под конец составляют нечто похожее на слова: «Поезд
следует до Дижона без остановок».
Слева от тебя священник постукивает ногтями по черному кожаному переплету своего
требника; пассажир, которого ты про себя называешь преподавателем, сняв очки,
протирает круглые стекла замшевой тряпочкой; сосед, которого ты прозвал
коммивояжером, снова занялся своим кроссвордом; а в проходе тот, кого ты прозвал
англичанином, достает из кармана плаща пачку сигарет «Черчмен» и, вынув из нее
последнюю сигарету, выбрасывает коробку на рельсы, затем, медленно подняв оконное
стекло, оборачивается к тебе, чиркает спичкой, закуривает, достает из кармана
своего клетчатого пиджака газету «Манчестер гардиан», пробегает глазами несколько
строк, затем, сложив газету, поворачивается и уходит, скрывшись из виду.
Тебе вдруг захотелось последовать его примеру; ты встаешь, просовываешь справочник
под крышку незапертого чемодана, хватаешь свое пальто, роешься в его левом кармане,
под шарфом, извлекаешь оттуда роман, купленный на Лионском вокзале перед самым
отходом поезда, и кладешь книжку на место, где ты только что сидел, а заодно
достаешь из кармана непочатую пачку сигарет и надрываешь угол.
Пассажиры, сидящие по обе стороны двери, вытянули ноги в проход между сиденьями, и
ты, извинившись, что вынужден их обеспокоить, выходишь из купе.
Ill
Ты снова сел на свое прежнее место, покинутое коммивояжером, вдруг заметившим в
проходе знакомого в тот самый миг, когда среди летевшего вам навстречу бургундского
пейзажа показались очертания станции Лом-Алезия и депо старых паровозов по
соседству с поселком Ализ-
57
Сент-Рен, сейчас отсюда невидимым, где, по преданию, Юлий Цезарь победил галлов; ты
сел на свое место, не притронувшись к лежавшему рядом роману, который ты положил
сюда в знак того, что это место занято, и сейчас, чувствуя, как в лицо тебе бьет
струя чересчур прохладного воздуха — оттого, что в конце вагона слегка приоткрыто
одно из окон,— ты, стараясь умерить сквозняк, потянул к себе дверь, и она, вдруг
поддавшись, сдвинулась примерпо сантиметров на двадцать.
Повозившись несколько секунд с крышкой пепельницы, привинченной к стенке, ты вынул
из правого кармана пиджака пачку сигарет с надорванным уголком, но нетронутой белой
бумажной лентой, опечатывающей эту пачку, в которой, однако, уже недостает двух
сигарет; взяв третью, ты закурил, прикрыв ладонями огонек, при этом у тебя чуть
защипало в глазах от дыма, и тебе пришлось раз-другой моргнуть, затем, взглянув на
часы и увидев, что на них четверть одиннадцатого, ты обнаружил, что, хотя твое
путешествие длится уже больше двух часов, до ближайшей остаповки в Дижоне, куда
поезд прибудет в одиннадцать двенадцать, в твоем распоряжении остается еще около
часа; стряхнув пепел, ты продолжал потягивать дым через эту маленькую трубочку,
свернутую из белой бумаги и набитую крошевом из толченых сухих листьев, глядя, как
вспыхивают и мерцают две красные точки в толстых стеклах очков сидящего напротив
тебя человека, уже не англичанина, а твоего прежнего визави — преподавателя,
склонившегося над толстой книгой с пожелтевшими страницами; эти две красные точки
при каждой твоей затяжке то разгораются, то быстро гаснут рядом с крохотным,
искаженным отражением выходящих в коридор стекол и неприкрытой двери, за которой
кривой лентой пробегает окрестный пейзаж, две красные точки под высоким, с тремя
резкими морщинами лбом, венчаемым уже заметно поредевшими волосами.
Он старается не отводить глаз от строк, скачущих из-за поездной тряски, старается
быстрее прочесть книгу, пе упуская при этом ничего важного, в правой руке он держит
карандаш и время от времени ставит крестики на полях; эта книжка, очевидно, нужна
ему как материал для лекции, которая, вероятно, еще не готова, но должна быть
прочитана сегодня вечером, скорее всего, лекция по вопросам права: хотя название
книги — оно повторяется вверху на каждой странице — слишком резво пляшет, чтобы ты,
58
сидя напротив, мог его разобрать, однако тебе все же удается различить первые три
буквы — «ЗАК»; в заголовке, очевидно, есть слово «законодательство», и лекция,
вероятно, должна быть прочитана в Дижопе, потому что на этой трассе вплоть до самой
границы нет другого университетского города.
На его узкой, неспокойной руке — обручальное кольцо; наверно, он ездит читать
лекции в Дижон дважды или трижды в неделю, а может быть, только раз, если ему
удалось выговорить себе приличные условия, если он подыскал там для себя какое-то
пристанище или же дешевую гостиницу, которая ему по средствам — ведь жалованье у
него, скорее всего, небольшое; наверно, он оставляет свою жену в Париже, где, как
большинство его коллег, живет вместе с детьми, если, конечно, у него есть дети, и
вот ради них-то ему и приходится квартировать в Париже, чтобы они могли учиться,—
не то чтобы в Дижоне не было отличных лицеев, пет: детям нужно жить в Париже
потому, что они, наверно, уже имеют дипломы бакалавра, по крайней мере, старшая
дочь или старший сын (пусть это глупо, но ты, конечно, предпочел бы, чтобы твоим
первенцем был мальчик), ибо преподаватель хоть, по всей вероятности, и моложе тебя
па несколько лет, но наверно, женился раньше и его детям, которым родители уделяют
куда больше внимания, чем ты своим, легко было учиться блестяще, не в пример
Мадлене, которая в семнадцать лет еще только заканчивает лицей.
Он лихорадочно перелистывает страницы, снова возвращается к прочитанному, совесть
его неспокойна: наверно, он корит себя за то, что до последней минуты откладывал
работу, которую следовало бы завершить давным-давно без всякой спешки; а может
быть, у него возникло какое-нибудь непредвиденное затруднение и ему пришлось наспех
переделывать все, что было сделано прежде, заново перекраивать эту самую лекцию,
тогда как он вовсе пе предполагал к ней возвращаться,— ведь из года в год, с тех
пор, как он получил свою должность, он без всяких изменений ее повторял.
Чувствуется, что это настоящий интеллигент и, безусловно, порядочный человек.
Конечно, при его жалованье он никак не мог бы позволить себе предпринять вдруг
вылазку в Рим, вроде той, которую совершаешь сейчас ты, более того, если бы он
располагал необходимыми средствами, если бы стремление избегать лишних трат на
одежду не стало для него
59
второй натурой, он, наверно, предпочел бы носить не такие костюмы, как тот, что
сейчас на нем, совсем вытертый и, судя по всему, не притязавший на элегантность
даже в дни своей молодости, наверно, он с радостью надел бы другое пальто, а не это
черное с огромными пуговицами, возможно, уже ставшее на факультете притчей во
языцех, пальто, которое он, единственный из всех пассажиров купе, не удосужился
снять, но не потому, что зябнет больше других, а потому, что, всецело поглощенный
своей работой, просто не подумал об этом; к его лицу, недавно еще казавшемуся таким
бледным, теперь прилила кровь, и видно, как нервно вздрагивают его веки за
сверкающими стеклами очков.
У него наверняка нет средств купить себе автомобиль (и если сам он не страдает от
этого, никогда даже пе помышляет об этом — ведь он, видно, столь же скромен в своих
привычках, сколь и щепетилен — его жене, его детям автомобиля наверняка не хватает)
— ну разве можно жить на свете, будучи профессором права? Но не логично ли спросить
в таком случае, как же можно жить на свете, будучи директором французского филиала
фирмы «Скабелли»? Конечно, ты зарабатываешь намного больше него, у тебя есть
машина, ты можешь позволить себе кое-какие прихоти, ты хорошо одеваешься, да и твоя
жена тоже, когда она этого хочет,— вернее, могла бы хорошо одеваться, если бы
хотела; и все же, хотя его работа тебе не по вкусу, зато она, бесспорно, по вкусу
ему самому, и именно по этой причине он избрал себе эту профессию и согласился жить
чуть ли не в нищете, тогда как тебе до поступления на службу к Скабелли,
безусловно, не было ни малейшего дела ни до пишущих машинок, пи до торговли ими; к
тому же у преподавателей очень большой отпуск, а твой досуг почти всегда пожирает
служба, даже в тех случаях, когда ты выезжаешь из Парижа куда-либо, кроме Рима.
Конечно, фирма «Скабелли» выпускает отличные машинки, они ничуть не хуже любых
других, красиво отделаны и работают безупречно, но все это — за пределами твоих
обязанностей, твоей компетенции и твоих забот, ведь ты не имеешь ни малейшего
отношения к производству, твоя задача сводится к тому, чтобы люди покупали пишущие
машинки марки «Скабелли», а не «Оливетти» или «Гермес», для чего, разумеется, нет
сколько-нибудь серьезных оснований,— это игра, иногда забавная, а иногда и
утомительная, не дающая тебе пи минуты покоя, прибыльная игра, которая могла бы
тебя извести, словно какой-
60
нибудь порок, но все же не извела, коль скоро сегодня ты свободен, коль скоро ты
сейчас летишь навстречу своей свободе, имя которой Сесиль; и уж, конечно, из вас
двоих скорее следовало бы жалеть тебя, а не его, хоть ты и живешь, не зная
материальных забот, а он явно стеснен в средствах,— ведь он занят тем, что его
интересует, краеугольным камнем своей жизни он сделал любимое дело; не его надо бы
жалеть, а тебя, не будь у тебя этой лучезарной любви, залога твоей независимости,
залога того, что ты преуспел вдвойне: во-первых, обеспечил себе почти полный
достаток, во-вторых, сберег молодость духа, которая не-обходима, чтобы начать
жизнь, полную волшебного риска.
И все же достаток твой нельзя назвать полным, все же ты не совсем свободен от
денежных забот — будь по-другому, ты сидел бы сейчас в вагоне первого класса, что
было бы куда приятнее, но можно взглянуть на вещи и по-иному, сказав, что
неудобства, связанные с поездкой третьим классом, тебя не пугают и ты не настолько
утратил спортивный дух, чтобы считаться с такими пустяками. Сейчас тебя больше не
клонит ко сну, ты полон жизненных сил, ты — победитель.
Сигарета жжет тебе пальцы; она сама догорела в твоей руке. Юный супруг поднялся,
положил на свое место итальянский разговорник и синий путеводитель и, извинившись,
что вынужден тебя потревожить, вышел из купе и скрылся где-то за твоей спиной.
Пепел осыпался тебе на брюки, и ты стряхнул его па металлический, выложенный
ромбами мат возле ног преподавателя, который закрыл свою книгу и, подобно юному
супругу, тоже поднялся с места, но лишь для того, чтобы, сняв черное пальто,
небрежно кинуть его на багажную сетку между набитым бумагами портфелем и чемоданом,
обтянутым сине-зеленой шотландкой, а затем снова лихорадочно углубился в свои
изыскания.
Ты раздавил в пепельнице окурок. Чья-то рука постукивает по стеклу, отделяющему
купе от прохода, это рука контролера с щипцами для пробивания билетов, и ты
начинаешь рыться во внутреннем кармане пиджака, торопясь достать бумажник — не тот,
черный, который дети в среду преподнесли тебе по случаю дня рождения, ты оставил
его в коробке, на полке зеркального шкафа в спальне, а старый, красный, в нем лежит
твой паспорт, срок действия которого через месяц истекает, и потому надо будет
пору-
61
чить Марналю продлить его перед очередной ноездкой в Рим на ежегодное итоговое
совещание,— бумажник, в одном отделении которого лежат сложенные вдвое пять
тысячефранковых купюр, а в другом — две купюры по десять тысяч, иными словами,
несколько больше тех двадцати тысяч, которые в принципе разрешается провозить через
границу, даже за вычетом стоимости предстоящего обеда в вагоне-ресторане, впрочем,
если даже и вздумают проверить твою наличность (тебе еще ни разу не случалось с
этим сталкиваться), то и тогда не станут придираться из-за такой мелкой суммы,
правда, если бы вдруг и возникло какое-нибудь недоразумение, ты тотчас оставил бы
на таможне недозволенный излишек; ты достаешь этот бумажник, где у тебя спрятано
удостоверение личности, весьма потрепанное, с той старой фотографией, на которой
тебя невозможно узнать; несколько тысяч лир; три билета парижского метро;
автобусный абонемент с несколькими, уже оторванными талонами (сейчас священник
протягивает контролеру небольшой кусочек картона, а после проверки кладет его на
прежнее место между форзацем и обложкой своего требника); три итальянские марки,
свидетельство
о многодетности, моментальный снимок: ты с Сесиль на Корсо; билет члена
Общества друзей Лувра, который ты забыл продлить, удостоверение члена Общества
Данте Алигьери и, наконец, проездной билет; ты протягиваешь его контролеру, он
пробивает его, и ты кладешь его обратно в бумажник.
Выйдя из купе, контролер сталкивается с юным супругом, возвращающимся на свое
место; слегка смутившись, тот делает знак жене, роется в одном кармане, потом в
другом, наконец находит билеты и, отделавшись от контролера, снова извиняется, что
вынужден тебя потревожить.
Захлопнув журнал, молодая женщина кладет его рядом с собой, поверх синего
путеводителя и итальянского разговорника; она поправляет сбившуюся прядь волос,
берет свою сумку и встает; в проходе между сиденьями подается в сторону, чтобы
пропустить мужа, и, чуть заметно задев ногой в шелковом чулке твои обтянутые
брюками колени, дарит тебе улыбку, а ее муж между тем садится у окна напротив
священника, на место, оставленное женой.
Контролер уже вышел из соседней двери и теперь постукивает щипцами для пробивания
билетов по стеклу сле-
62
дующего купе. Преподаватель закрыл свою книгу, вид у него довольный — наверно, он
решил, что хватит, лекция уже готова, теперь он справится; он засовывает карандаш в
нагрудный карман, рядом с авторучкой и носовым платком, которым, по всей видимости,
он уже пользовался, потирает руки, почесывает у себя за ушами, массирует пальцами
веки, встает, берет с багажной сетки свой портфель, кладет в него книжку в черном
коленкоровом переплете с клочками бумаги вместо закладок и, наконец, тоже выходит,
насвистывая какую-то песенку, которую тебе не удается расслышать, ты лишь
угадываешь ритм по движениям его губ, по тому, как он отбивает такт, ударяя ладонью
по всему, что попадается на его пути; дважды стукнув рукой по стеклу, что справа от
тебя, он исчезает, но на смену ему почти тут же приходит молодая женщина, и, даже
еще не успев войти в купе, она замечает, что муж похитил ее журнал и листает его с
иронической улыбкой, вероятно, потому, что читает раздел, где дамы поверяют свои
сердечные тайны, и углы его губ то поднимаются, то опускаются в такт движению
поезда; подойдя к мужу, молодая женщина насмешливо произносит: «Вот видишь, и тебе
это интересно»,— первые слова, помимо многочисленных извинений и формул учтивости,
которые наконец произнесены кем-то вслух за все время путешествия в этом зале
ожидания на колесах,— и юный супруг в ответ, ласково улыбнувшись, пожимает плечами.
Поезд минует станцию Дарсей. Почти в самом конце коридора контролер выходит из
одного купе и тут же входит в следующее, по всей видимости, последнее, затем
появляется девушка примерно одних лет с Мадленой, а за ней на некотором расстоянии
коммивояжер, еще недавно занимавший угловое место, которое ты выбрал перед
отправлением поезда и которым тебе снова удалось завладеть. Молодожены опять сели
рядом, но поменялись местами: теперь он сидит у окна, а она — рядом с англичадином.
За окнами коридора проносится длинный товарный состав с деревянными, грязно-белого
цвета вагонами-холодильниками, на которых крупными черными буквами выведена какая-
то надпись.
Только бы в Риме стояла хорошая погода — hie ver assiduum *,— только бы завтра
утром тебе не пришлось искать прибежища в одной из соседних подворотен, спа-
1 Здесь всегда веспа (лат,).
63
саясь от пронизывающего ливня, какие бывают в осеннюю пору в Риме,— это может
помешать тебе встретиться с Сесиль, ты не увидишь ее, даже не сможешь ее догнать в
тот миг, когда она выйдет в своем прозрачном плаще и бегом помчится к посольству;
хорошо бы спокойно дожидаться ее на свежем воздухе, уже отдохнув, отойдя после этой
ночи, которая никак не обещает быть приятной, набросив на руку пальто и покуривая
сигару, одну из тех, что ты сейчас купишь в вагоне-ресторане,— дожидаться, стоя в
тени, но радуясь солнцу, золотящему крыши домов, на углу улицы Барбьери, напротив
дома 56 по улице Монте-делла-Фарина, который станет твоим тайным пристанищем на две
ночи.
Ставни на окнах пятого этажа еще будут закрыты, когда ты встанешь на свой пост,
ведь при твоем нетерпении, сколько бы ты ни кружил по городу, ты все равно не
выдержишь, и наверняка придешь к своему наблюдательному пункту раньше восьми часов,
и будешь долго ждать, стараясь как-то убить время, рассматривая фасад дома своей
Сесиль и трещины на нем, разглядывая лица первых прохожих; потом наконец отворится
ее окно, и, может быть, ты увидишь ее в проеме, когда, перегнувшись через
подоконник, она случайно взглянет на какой-нибудь грохочущий мотицикл,— увидишь ее
иссиня-чериые волосы, волосы итальянки, хотя по отцу она француженка, еще пе
причесанные волосы, которые она движением головы откинет назад, за плечи, и,
наверно, тут-то она и заметит тебя, но, не подозревая о твоем приезде, она тебя не
узнает, самое большее, может быть, подумает, что этот бездельник, который так
настойчиво ее разглядывает, чем-то напоминает тебя.
Так на какое-то время ты как бы станешь свидетелем ее жизни без тебя, затем она
нырнет в затемненную глубь своей просторной, изысканно обставленной комнаты с
высоким потолком, какие встречаются только в старых римских домах, с диваном в
углу, где вы свободно помещаетесь вдвоем, с цветами, которые она всякий раз
подбирает так заботливо и умело,— комнаты, расположенной рядом с двумя другими,
которые сдаются на лето туристам, а сейчас наверняка будут свободны, и одна из них
станет официально твоим жильем на эти две ночи; комнаты, достаточно изолированной
от остальной части квартиры, расположенной по другую сторопу маленькой темной
прихо-
64
жен, откуда через застекленную дверь сразу входишь в огромную кухню,— изолированной
от всей остальной части, где проживает со своим семейством хозяйка — госпожа Да
Понте, однофамилица либреттиста Моцарта и художника Бассано.
Итак, ты станешь ждать, когда она появится в дверях, заслонив святого Антония,
почти невидимого под запыленным стеклом, появится, как ты надеешься, в платье с
широкими складками, в красных и лиловых разводах, с большой белой шалью на плечах,
твоим подарком,— в ней она особенно хороша — или, если на дворе будет прохладно, в
своем темно-зеленом вельветовом костюме; ее черные волосы, заплетенные в косу,
будут обвиты вокруг головы и заколоты двумя-тремя шпильками со стеклянными
головками, переливающимися всеми цветами радуги, губы — накрашены, брови — чуть
подведены синим карандашом, и больше никакой косметики па ее лице, па ее
ослепительной коже.
Она сразу же свернет налево к Сант-Андреа-делла-Вал-ле, так она всегда ходит на
службу, хотя это отнюдь не самый короткий путь, и тут уж она непременно тебя
заметит, тем более что ты сделаешь ей знак, окликнешь ее, если потребуется, п даже
бросишься к ней, если всего этого будет мало,— и она застынет па месте, пе веря
своим глазам.
Ты рассмеешься. Ты скажешь ей, что пробудешь в Риме до вечера понедельника, ничего
больше не добавляя: лучше сделать так, чтобы ее изумление нарастало постепенно, и
насладиться им до конца, лучше дарить ей эту радость капля за каплей, не упуская ни
одной; ты заставишь ео пойти в другую сторону, поведешь ее пить кофе на Ларго
Арджентина, пренебрегая ее отказом, ее боязнью опоздать в посольство,— ведь теперь
опоздание уже не страшно; успокоив и расцеловав ее, ты затем сядешь вместе с ней в
такси (в этот час на Корсо наверняка можно схватить какую-нибудь машину,
разъезжающую в поисках пассажиров), что, по правде говоря, чистейшая роскошь — ведь
расстояние, которое вам предстоит проехать, совсем ничтожно, и выигрыш времени тут
пустячный,— и отвезешь ее на площадь у дворца Фарпезе, где, расставаясь, пообещаешь
зайти за ней в час пополудни.
Затем всю первую половину дня ты проведешь один — ведь ты нигде не обосновался,
твой чемодан все еще лежит в камере хранения, и ты чувствуешь себя в Риме тури-
3 М. Бютор и др.
65
стом; ты воспользуешься этой свободой, этим нежданным досугом, чтобы вновь посетить
музей, в котором ты не был уже много лет, по крайней мере, с тех пор, как узнал
Сесиль, одно из редких мест в этом городе — разумеется, помимо здания фирмы
«Скабелли» и всех других зданий, так или иначе имеющих отношение к этой фирме,— где
ты ни разу не бывал вдвоем с Сесиль, и прежде всего потому, что этот музей — музей
Ватикана — открыт всегда лишь с десяти утра до двух часов дня и неизменно закрыт по
воскресеньям.
Точно так же ты ни разу не бывал с ней в соборе святого Петра, потому что она,
подобно тебе, ненавидит пап и священников, только куда более неистово и неприкрыто
(и отчасти за это ты так сильно ее любишь), что, однако, нисколько не мешает ей
бесконечно наслаждаться зрелищем фонтанов, барочных куполов и фасадов, но, по
правде сказать, ты и сам не испытываешь ни малейшего желания завтра утром вновь
посетить это гигантское, ущербное творение архитектуры, это огромное, подавляющее
своим богатством свидетельство нищеты.
Первым делом тебе придется — потому что от нескольких тысяч лир, которые ты
прихватил с собой, уже скоро почти ничего не останется, как только ты заплатишь
сегодня вечером за ужин в итальянском вагоне-ресторане,— придется снять немного
денег с твоего текущего счета в одном из отделений Римского банка на Корсо,
напротив дворца Дориа-Памфили, затем ты поедешь на автобусе до площади
Рисорджименто, и после долгой прогулки пешком вдоль внушительных городских стен ты
доберешься до музея, когда наверняка уже пробьет десять и, следовательно, он уже
будет открыт.
Ты торопливо пройдешь нескончаемые коридоры, где так нелепо выстроены в ряд
античные статуи, нахватанные из разных мест, независимо от их достоинств и эпохи,
стремясь поскорее миновать это скопище посредственных работ, где, правда, нет-нет
да и мелькнет настоящий шедевр, только непременно испорченный, с какой-нибудь
дурацкой головой, руками или идиотскими ногами, приставленными к нему задним числом
(неужели в этом давно уже загнивающем заповеднике не найдется никого, кто восстал
бы против этого вопиющего обмана и хаоса?); ты пойдешь взглянуть на Станцы, немного
постоишь в Сикстинской капелле и спокойно возвратишься назад через апартаменты
Борджиа.
66
В час дня Сесиль, выйдя из здания посольства па площади у дворца Фарнезе, станет
искать тебя взглядом, и вы отправитесь пообедать, например, в ресторан «Тре Ска-
лини» па площади Навона, где раньше находился цирк императора Клавдия, и там,
восхищаясь тем, как купол и эллиптические башии собора, созданного Борромини,
тянутся вверх, подхваченные общим порывом, которому подчинено все пространство этой
вытянутой площади, любуясь брызгами, взлетающими вверх в знаменитом фонтане Четырех
Рек, и статуями Дуная, Нила, Ганга — с задранным кверху носом, как бы отпрянувшего
в изумлении — и Ла-Платы, лица которой не видно под окутывающими ее покровами,
разглядывая этих четырех белокаменных великанов, словно водящих хоровод вокруг
утеса, где водружен обелиск из розового гранита, и навертывая на вилку спагетти,
ты, наконец, откроешь ей цель твоего приезда, ская^ешь, что на этот раз прибыл сюда
не по делам фирмы «Скабелли», а исключительно ради того, чтобы повидаться с ней,
что ты подыскал ей в Париже службу, что ты не взял номера в «Квирпиале», а будешь
жить все эти дни у нее, для чего тебе придется сразу же после обеда сначала
отправиться для переговоров к госпоже Да Понте, а потом забрать из камеры хранения
чемодан, чтобы затем вдвоем, без всякой спешки, обняв друг друга как двое юных
влюбленных, вы могли побродить по Риму, наслаждаясь его красотой, развалинами,
деревьями и улицами, которые, учитывая, что контора фирмы в это время обычно
закрыта, сегодня все будут принадлежать вам, даже Корсо и площадь Колонны, за
исключением, правда, улицы Витторио Венето и особенно окрестностей «Кафе де Пари»,
где синьор Этторе Скабелли имеет обыкновение засиживаться часами.
Когда зайдет солнце, вы вернетесь на улицу Монте-дел-ла-Фарина, чтобы взять пальто,
потому что Сесиль, возможно, захочет поужинать в какой-нибудь пиццерии неподалеку,
и по пути вы поинтересуетесь, какие фильмы послезавтра идут в кино, потому что
завтра ты почувствуешь усталость от предыдущей мучительной, беспокойной ночи, той,
которая сейчас тебе только предстоит; вот почему, поднявшись в комнату Сесиль, вы
оба рано ляжете в постель, и на этот раз ты покипешь ее лишь на другое утро.
8*
67
За окном прохода по-прежнему низко стелются тучи. Англичанин заложил ногу за ногу.
В окне купе колеблется мягкая зыбь холмов, покрытых виноградниками с опавшей
листвой.
До того, как ты узнал Сесиль, ты не испытывал такой сильной любви к Риму, хотя уже
был знаком с главными достопримечательностями этого города и ценил его атмосферу;
но только вдвоем с Сесиль ты начал шаг за шагом открывать его для себя, и теперь
все его улицы окрашены твоей страстью к ней, так что, мечтая о Сесиль подле
Анриетты, ты в самом сердце Парижа мечтаешь
о Риме.
В минувший понедельник, прибыв в Париж экспрессом из Рима в девять утра и проведя в
купе первого класса несравненно лучшую ночь, чем та, которая предстоит тебе на этот
раз,— прибыв в Париж в утренний час, когда скупые лучи утреннего солнца уже
пробивались сквозь стекла, ты, вопреки обыкновению, не сразу покинул Лионский
вокзал и, вместо того чтобы сесть в такси, поехать к себе в дом номер пятнадцать на
площади Пантеона и там побриться и принять ванну, а затем, зайдя в гараж на улице
Эстрапад, взять свой автомобиль и поехать в контору,— вместо этого ты стал искать в
огромном здании вокзала что-нибудь вроде римского albergo diurno, и в самом деле,
ты обнаружил там маленькую душевую, где вымылся в кабинке, по правде сказать,
сомнительной чистоты; затем, поскольку в дни твоего возвращения из Рима ты обычно
не появляешься у себя в конторе раньше половины одиннадцатого, ты воспользовался
оставшимся временем, чтобы пемного побродить по городу, наподобие какого-нибудь
римского туриста в Париже, словно ты постоянно живешь в Риме и наезжаешь в Париж
лишь от случая к случаю, по делам, раз в два месяца или, самое большее, раз в
месяц.
Оставив чемодан в камере хранения и решив про себя, что ты поручишь Марналю забрать
его до конца дня, ты зашагал к Сене, перешел Аустерлицкий мост, а так как и вправду
стояла довольно хорошая для ноября погода, ты, проходя мимо Ботанического сада,
расстегнул пальто, пересек весь остров Сен-Луи, по дороге выпив кофе с молоком и
проглотив несколько рогаликов, хотя ты по обыкновению уже выпил чаю с сухариками в
вагоне-рестораие
68
и, стало быть, позавтракал раньше — впрочем, таким завтраком тебе никогда не
удавалось насытиться, и после пего ты всегда еще раз плотно ел дома, и, вероятно, в
минувший понедельник этот домашний завтрак, как всегда, был приготовлен и дожидался
тебя,— а ты вместо этого обошел чуть ли не весь старый город, засунув одну руку в
карман брюк, а в другой держа портфель и помахивая им в такт какой-то мелодии
Монтеверди, которую ты напевал про себя; и, вероятно, стрелка часов уже
приближалась к десяти, когда у собора Парижской богоматери ты сел в шестьдесят
девятый автобус, и он наконец доставил тебя на площадь Пале-Рояль.
Стараясь продлить ощущение, будто твое путешествио еще не завершено, ты решил, что
не станешь обедать дома, но, не желая понапрасну волновать Анриетту, ты позвонил к
себе на квартиру по телефону (Дантон — двадцать пять — тридцать) и узнал, что жены
нет дома, а дети, разумеется, сейчас в школе,— все это ты узнал от кухарки
Марселипы, которую и попросил передать хозяйке, что придешь домой только к вечеру.
Спустя полчаса Анриетта позвонила тебе сама:
— Попросите, пожалуйста, месье Дельмона.
— Да, я слушаю. Как дела? Сегодня я не смогу обедать дома. Мне очень жаль.
— А к ужину ты придешь?
— Конечно.
— А как будет завтра?
— А чем так знаменателен завтрашний день?
— Ничем. Ведь твой день рождения в среду.
— Ах, да. Как это мнло, что ты помнишь.
— Хорошо съездил?
— Как всегда.
— Ну что ж, до вечера.
— До вечера.
На другой стороне улицы Даниэль Казанова, в одной из витрин туристического
агентства Дюрье, были вывешены афиши, рекламирующие красоты Бургундии: блестящая
черепица богадельни в городе Бон; сентябрьские виноградники, увешанные черными
гроздьями, темнеющими среди пятнистой листвы; могилы французских герцогов в Дижоне.
Другая витрина, на авеню Оперы, вся посвящена зимнему спорту: здесь лыжи,
альпинистские пояса с веревками, толстые ботинки с красными шнурками, огромные
фотографии подвесной канатной дороги и ослепи-
69
тельных снежных полей, испещренных лыжнями, фотографии чемпионов по прыжкам с
трамплина, летящих по воздуху с вытянутыми вперед руками, зимних домиков с
пушистыми снежными шапками на крыше, сверкающими и переливающимися на солнце, с
мокрыми деревянными балконами; фотографии девушек в узких брюках, в свитерах с
ярким рисунком,— короче, картины Савойи, совсем непохожей на ту, которую скоро
пересечет твой поезд, мрачную и пасмурную, со скудными пятнами грязноватого снега.
Третья витрина отведена Италии: на снимках — усеянный звездами купол церкви св.
Плащаницы в Турине, лестница дворца Бальби в Генуе, Пизанская башня, играющий на
свирели юноша из Тарквинии, площадь Святого Петра с обелиском из цирка Нерона,
перенесенным сюда по распоряжению папы Сикста Пятого, и бесчисленные виды других
городов, по большей части тебе незнакомых: церковь в Лукке, триумфальная арка
Траяна в Бе-невенто, амфитеатр в Виченце; наконец, четвертая витрина зазывает в
Сицилию.
Ты пересек улицу Пирамид, оставив справа между аркадами статую всадницы, отливавшую
на фоне облаков мягким золотистым блеском, в то время как на другой стороне авеню
Оперы витрины других туристических агентств на разные лады повторяли все то же
слово — Италия; свернув направо на площадь Французского театра, ты подождал, пока
зеленый свет сменился красным и, точно плотина, остановил поток машин; затем ты
пересек улицу Риволи в установленном для пешеходов месте, и когда ты очутился на
противоположном тротуаре, перед тобой вдруг возникло ничем не заслоненное хмурое
перламутровое небо над Тюильри. По одну сторону, скрытые за деревьями сада, у тебя
остались три скверные статуи, изображающие сыновей Каина, по другую сторону —
Триумфальная арка на площади Карусель, и в этот миг ты увидел позади нее и впереди
другой арки — на площади Звезды — серую иглу Обелиска.
На стоянках теснились автомобили, прижатые друг к другу, словно книги на
библиотечных полках, а у входа в павильон Мольена стояло несколько автобусов; сидя
на каменных скамейках, увешанные фотоаппаратами американки листали планы города в
ожидании гидов.
По обыкновению, даже не взглянув на саркофаги и бронзовые копии с античных статуй
Ватиканского музея, ты поднялся по лестнице, которая ведет к Нике Самофра-
70
кийской, ты шел, куда тебя тянуло, не имея в виду никакого определенного места;
миновав — один за другим — всю вереницу египетских залов, ты поднялся по узкой
винтовой лестнице в залы восемнадцатого века.
Твой взгляд торопливо скользнул по картинам Гварди и Маньяско в первом, по холстам
Ватто и Шардена во втором, по работам английских портретистов и Фрагонара в
третьем; и только в самом последнем зале ты остановился, но не ради Гойи и Давида.
Картины, в которых ты восхищенно рассматривал каждую деталь, к которым тебя так
безотчетно влекло, принадлежали кисти третьестепенного художника Паннини: на двух
крупных полотнах он изобразил две вымышленные картинные галереи, размещенные в
необыкновенно высоких залах, широко открытых для знатной публики, где священники и
аристократы прогуливаются между статуй, вдоль увешанных пейзажами стен и, подобно
посетителям Сикстинской капеллы, жестами выражают свой восторг, любопытство,
изумление; особенно примечательным в этих картинах было отсутствие сколько-нибудь
ощутимой разницы между предметами, числящимися реальными, и другими, изображенными
на вымышленных холстах, словно живописец стремился отобразить торжество замысла,
увлекавшего многих художников его времени: создать на полотне эквивалент
реальности, столь абсолютный, чтобы написанную маслом капитель — не будь рамы —
невозможно было отличить от настоящей; так мастера архитектурного пейзажа времен
римского барокко, изображая на полотне пространство, создают с помощью волшебного
набора символов — всех этих пучков пилястров и сладострастно изгибающихся волют —
памятники, соперничающие своей выразительностью и внушительностью с массивными
объемами подлинных античных руин,— которые всегда были перед глазами художников,
вызывая их зависть,— и собрав воедино все детали аптич-ного декора, делают их
основой собственного языка.
Это сопоставление, это стремление во что бы то ни стало сравняться со всем тем, что
начиная с шестнадцатого века воспринималось как вызов, брошенный Римской империей
римской церкви, и поражало с первого взгляда в обеих картинах, симметрично висящих
по обе стороны окна, выходящего на Квадратный двор: на холсте справа — галерея
видов современного Рима, на холсте слева — галерея видов Древнего Рима, и ты не без
удовольствия Узнал Колизей, базилику Максенция, Пантеон, представ-
71
шие перед тобой такими, какими опи были двести лет назад, примерно в то время,
когда их запечатлел на своих гравюрах Пиранези: три белые капители храма Марса
Мстителя на форуме Августа, едва возвышающиеся над уровнем земли, три белые
капители, которые теперь венчают роскошные высокие колонны; портик храма Антонина и
Фаустины с фасадом церкви, сооруженной внутри храма и сохрапившейся по сей день;
триумфальную арку Константина и арку Тита, в те времена плотно окруженную домами;
термы Каракаллы среди полей и таинственный круглый храм, так называемый храм
Минервы Целительницы, который и сегодня еще виден из окон поезда, когда подъезжаешь
к вокзалу.
За окном, в гуще виноградников, под чернеющим, подернутым облаками небом, виден
скат церковной крыши — желтая черепица отчетливо выделяется среди домиков,
окруживших церковь. На отопительном мате между сиденьями металлические полоски
скрещиваются и переплетаются, словно миниатюрные рельсы на какой-нибудь
сортировочной станции.
Два года назад или чуть больше — помнится, это было летом, в конце августа — ты
сидел в купе третьего класса, точно таком же, как вот это, на том же самом месте у
двери в коридор по ходу поезда, и напротив тебя сидела Сесиль, возвращавшаяся из
отпуска в Рим, Сесиль, с которой ты едва был знаком, которую только что первый раз
увидел в вагоне-ресторане.
Час был куда более поздний, чем теперь, дело шло к вечеру, и вы оба находились в
поезде, который, подобно этому, выезжал из Парижа утром и прибывал в Рим на
рассвете, по всей вероятности, в этом же самом поезде, только расписание с тех пор
немного изменилось; тогда ты сел в этот поезд из-за каких-то помех, возникших в
последнюю минуту, сейчас ты уже не помнишь каких, но, разумеется, до обеда ты ехал
в первом классе, в итальянском вагоне, увешанном цветными репродукциями знаменитых
картин — из тех, что находятся в Риме, например, «Аллегории любви земной и
небесной» из музея на вилле Боргезе (эту вещь особенно часто репродуцируют).
Когда ты впервые увидел Сесиль, ты сидел в ресторане за столиком у окна,
намереваясь обедать во вторую смену.
72
Поезд давно проехал Дижон, Бон, Макон, Шалон и даже Бур; теперь за окном уже
тянулись не виноградники, а юры.
Она была в платье рыжевато-красного цвета с низким вырезом на загорелой груди; ее
черные волосы, заплетенные в косы, были обвиты вокруг’головы и заколоты шпильками с
золотыми головками, губы накрашены помадой почти лилового цвета.
Пассажиры постепенно заполняли вагон, но, по счастью, вы остались за столиком
вдвоем, и, поскольку стояла сильная жара, первыми словами, с которыми ты к ней
обратился, был вопрос, не будет ли она возражать, если ты откроешь верхнюю половину
окна для вентиляции, затем, увидев, что она достала из своей черной сумки
справочник — только не синий, какой ты сейчас держишь в руках, а скорее нежно-
зеленый, такой, как стены под багажными полками,— а у тебя справочника не было, ты
осведомился, когда поезд прибудет в Экс-ле-Бен.
— Во всяком случае, вы кончите обедать задолго до того, как будете на месте.
— Нет, я схожу не там. Я еду в Рим, только, увы, не туристом, а по делам.
Поначалу вы лишь перебрасывались скупыми вежливыми замечаниями, перемежавшимися
долгими паузами, затем постепенно завязался оживленный разговор об обеде,
о вине, которым ты ее угостил, о блюдах, которые вам подавали. И разговор
продолжался до тех пор, пока, посмотрев на свой счет, она не обнаружила, что ей не
хватит французских денег.
— Я думаю, официант согласится получить в лирах...
— Да, но только по весьма невыгодному курсу. Вот что: я обменяю вам тысячу лир
по парижской таксе.
Тут она начала рассказывать о себе, ты узнал, что она, как и ты, едет в Рим, что
она служит в этом городе, во дворце Фарнезе, вот уже несколько лет, что ей очень
нравится этот город, его жизнь, а также ее служба, но что она там все же довольно
одинока, а сейчас возвращается из Парижа, где она провела месяц отпуска, из Парижа,
с которым ей было трудно расстаться, что по матери она итальянка и родилась в
Милане, но числится французской подданной и что она закончила во время войны коллеж
Севинье.
Когда вновь открыли границы, она вернулась к своей родне по матери и вышла замуж за
молодого инженера,
73
служившего на заводе «Фиат» и через два месяца после свадьбы, вскоре после того,
как они обосновались в Турине, погибшего в ужасной автомобильной катастрофе. Когда
она вспоминает об этом, ее еще и сейчас бьет дрожь, вот почему она решила оставить
все, что напоминало ей о прошлом, и переехать поближе к югу.
Почти все посетители вагона-ресторана уже возвратились на свои места, официанты
складывали скатерти; выйдя вслед за нею, ты прошел мимо своего купе первого класса,
но тебе так хотелось в свою очередь рассказать о себе, что ты проводил Сесиль в ее
купе и сел на сиденье напротив. Поезд в то время как раз шел вдоль озера Ламартина.
Вы все еще разговаривали, когда поезд пересек границу, а вечером вместе отправились
в итальянский вагон-ресторан. За окном расстилался залитый солнцем бесконечный
горный пейзаж Пьемонта, долины уже окутала тень, но выше на склонах гор еще
блестели крыши домов из серой дранки, пот ручьями тек у тебя по спине, и в то же
время ты чувствовал, как в воздухе разливается прохлада. Она слушала твои речи,
смотрела на тебя, восхищалась тобой, смеялась. Время шло, надвигалась ночь. Когда
вы вернулись в ее купе, там уже оставалось всего три пассажира: старая итальянка,
вся в черном, и два французских туриста — брат и сестра.
Поезд шел туннелями Генуи; вы глядели на освещенные витрины магазинов, на лунные
блики, лежавшие на воде; вы оба молчали; кто-то попросил погасить свет. На потолке
горела теперь лишь одна-единствеиная синяя лампочка, по окна в проходе еще не были
зашторены. На какую-то долю секунды ей вдруг показалось, что ты сейчас уйдешь, а ты
и вправду раздумывал, не пора ли уйти, но как быстро ты подметил огорчение на ее
лице! Ты остался на том самом месте по ходу поезда у стенки, отделяющей купе от
коридора, где сидишь вот сейчас, она же сидела напротив, там, где сегодня сидит
преподаватель, с улыбкой склонив голову набок, засыпала под твоей охраной;
временами она вздрагивала и, встрепенувшись, поглаживала руками дверной косяк,
случалось, она слегка приоткрывала рот, чтобы вздохнуть, и тогда виднелись ее зубы,
едва заметно покусывавшие нижнюю губу, она вся сжималась в комок, а потом ее снова
охватывало и усыпляло монотонное покачивание поезда.
74
Ты ерзаешь ногами по отопительному мату. За окном пошел дождь, которого можно было
ждать с первой минуты, как только вы отъехали,— он пошел тихо и деликатно, рассыпая
мелкие брызги, растекающиеся по стеклу сотнями полосок, тоненьких, как реснички.
Картина справа от окна называлась «Галерея видов современного Рима»; здесь был
микеланджеловский Моисей, а в прочих рамах — все фонтаны Бернини; ты мысленно
совершил прогулку от фонтана Четырех Рек на площади Навона к фонтану «Тритон» около
дворца Бар-берини, от площади Святого Петра к лестнице на площади Испании и к
церкви Санта-Тринита-деи-Монти, и за каждым из этих памятников тебе чудилось лицо
Сесиль, внимательный взгляд Сесиль, той, что благодаря тебе еще больше полюбила эти
места, той, из-за кого ты еще больше их полюбил.
Ты почувствовал голод и, взглянув в окно, увидел, что часы на Центральном павильоне
внутри залитого дождем Квадратного двора уже показывают половину первого.
Сойдя вниз по узенькой винтовой лестнице, ты торопливо миновал все египетские залы,
но, добравшись до Ники Самофракийской, вместо того, чтобы сразу спуститься дальше,
повернул налево и, пройдя Семиметровый зал, торопливо зашагал по большой галерее,
пробираясь сквозь многочисленные группы иностранцев к картинам Пуссена и Лоррена,
этих римских французов.
Сейчас ты пытаешься вспомнить, как были развешаны в зале холсты, однако тебе не
удается восстановить в памяти все детали их расположения; конечно, ты точно знаешь,
что на правой стене висела маленькая картина, изображающая Форум в семнадцатом
веке, с тремя колоннами храма Диоскуров, наполовину утонувшими в земле,— Кампо
Ваччино, бычий рынок, пустырь, в который превратилось сердце столицы мира; ты
помнишь также, что там была картина «Руфь и Вооз», похожая на гобелен, с ее
вертикальной организацией пространства, где жесты обоих персонажей напоминают
движения жнецов на египетском барельефе, с ее потемневшим от времени и лака
пшеничным полем; дальше — но это не точно — возможно, была «Чума в Афинах» или же
«Похищение сабинянок»,— короче, одна из картин, которые не отличить от помпсян-ской
живописи, и трудно поверить, что создавший ее ху-
75
дожник не мог быть знаком с искусством Помпеи, а просто, благодаря потрясающей
интуиции, сумел уловить его дух через посредственную фреску «Свадьба
Альдобрандини», с которой он написал любопытную копию, находящуюся во дворце Дориа.
Но что было на другой стене? Очевидно, «Вакханалия»; а что еще? «Улисс возвращает
Хрисеиду ее отцу»? «Морской порт на заре»? «Прибытие Клеопатры в Таре»? А может
быть, все три картины вместе?
Ты стал разглядывать людей на этих картинах — они написаны с таким простодушием,
что как бы взывают к твоему разуму и просят вдохнуть в них жизнь,— и в конце концов
ты поддался соблазну и начал придумывать для каждого из них историю, представляя
себе все, что они делали до изображенной па холсте сцены и после этого выхваченного
и запечатленного живописцем жеста,— одного из многих за время их долгих странствий
по морю или похождений на улицах пышных приморских городов, среди колоннад и залов,
среди высоких деревьев в садах, окружающих величественные жилища, фантастические,
но овеянные живой поэзией Вергилия и более верные духу древности, чем дурацкие
гипсовые реконструкции памятников, которыми еще долго — до каких же пор? — будут
донимать нас бесчисленные поколения тупиц учителей.
От всех этих грез тебя отвлек твой желудок, пунктуальный, как часы, что считается
признаком старости, но й тут ты почему-то не стал спешить, хотя мог бы покинуть
Лувр куда быстрее, если бы миновал зал Ван-Дейка и спустился вниз по лестнице,
ведущей в зал средневековой скульптуры; но нет, ты вернулся назад тем же путем,
каким пришел, протискиваясь сквозь группы ахающих посетителей, через Семиметровый
зал, мимо Ники Само-фракийской, а потом не мог удержаться и бегло, совсем бегло
окинул взглядом мозаики Антиохии, портреты римских матрон времен Нерона и статую
Нерона в отрочестве — серьезного круглолицего мальчика в тоге.
Когда ты поднялся на террасу, сооруженную на месте некогда стоявшего здесь
памятника Леону Гамбетта, Триумфальная арка на площади Карусель едва виднелась за
густой сеткой дождя, а Обелиск, естественно, совсем не был виден.
Улица Риволи была точно так же запружена машинами, как и полчаса назад, но теперь
на всех ветровых стеклах щеточки усердно чертили один и тот же веерообразный
рисунок.
76
В ресторане на улице Ришелье, где тебе не раз случалось назначать деловые встречи,
ты заказал спагетти по-болонски, ио то, что тебе подали, сказать по правде, вряд ли
заслуживало этого названия,— а может быть, чувство одиночества, вдруг захлестнувшее
тебя, когда ты принялся есть, помешало тебе насладиться блюдом и оценить его по
достоинству. Что же касается кофе, то хотя тебе и посулили, любезно улыбаясь,
настоящий «эспрессо», все же спустя несколько минут принесли так называемый
«фильтр», разумеется, отличной крепости, но у тебя не хватило терпения ждать, пока
чашка наполнится доверху, и ты тут же расплатился по счету. Неужели для того, чтобы
поесть так невкусно да к тому же в таком угрюмом настроении, ты отказался вернуться
домой к обеду, рискуя еще больше запутать, усугубить свой разлад с Анриеттой этой
очередной бесполезной ложью?
В твоей пачке итальянских «Национале» еще оставалась одна сигарета, но на улице шел
такой сильный дождь, что она потухла и ты бросил ее на мостовую. Часы показывали
всего-навсего половину второго, а тебе нисколько не хотелось являться в свою
контору на двадцать пять минут раньше срока, тем более что, очутившись там в
одиночестве, ты мог бы не выдержать и заснуть, потому что при всей привычке к
железнодорожным путешествиям — даже если едешь в комфортабельном вагоне первого
класса — ты с каждым разом все больше от них устаешь.
Скоро это станет гораздо проще, ты ведь уже неоднократно ставил этот вопрос перед
фирмой «Скабелли», и в конце концов было решено, что впредь тебе будут оплачивать
проезд в спальном вагоне, но сейчас ты едешь даже не первым классом, и, подумав о
том, что, по сути дела, тебя ждет бессонная ночь, ты посетовал на свою всегдашнюю
бережливость, сохранившуюся с тех эремен, когда ты располагал куда более скромными
средствами,— впрочем, нет, тут же поправился ты, не скаредность побудила тебя ехать
в третьем классе, а скорее некое сентиментальное, романтическое соображение — ведь
два года назад, в августе, в этом самом поезде ты впервые встретил Сесиль, и ты
оставил свой вагон, чтобы перейти в ее купе, в точности такое же, как это, и сел
напротив нее, заняв то самое место, на котором сидишь теперь; ты потому взял билет
в этот вагон, что, куда бы вы ни ездили с Сесиль, вы всегда путешествовали третьим
классом, впрочем, и за всем этим тоже скрывалась бережливость — ведь это ты
77
платил за Сесиль во время ваших последпих поездок и не хотел тратиться слишком уж
щедро из вечного страха, что тебе пе хватит средств на содержание квартиры для
твоей семьи в доме номер пятнадцать на площади Пантеопа, из вечной боязни, что
Анриетта спросит тебя, на что ты потратил свои деньги. Ах, что бы тебе пораньше
отучиться от этой мелочности — к тому же теперь, при твоем достатке, она кажется
смехотворной,— тогда вы с Сесиль давно уже вели бы ту самую жизнь, которой ты
наслаждаешься лишь во время недолгих наездов в Рим.
Однако тебе надо было как-то убить эти полчаса, и так как погода не позволяла тебе
предпринять прогулку по городу, ты пересек авеню Оперы и зашагал по левому
тротуару, поднимаясь по ней вверх и совершая в обратном направлении тот же путь,
которым совсем недавно добрался из конторы до Лувра: по левую руку от тебя
потянулись витрины книжного магазина с выставленными в ней путеводителями по Риму и
Парижу; потом витрины туристического агентства твоего приятеля Дюрье — прежде он
вовсе не был таким уж близким твоим приятелем, но теперь ты так признателен ему за
то, что именно у него нашлось место для Сесиль, за то, что именно он дал тебе
возможность перевезти ее в Париж, за то, что именно он, сам того не подозревая,
даровал тебе свободу,— первая его витрина, рекламирующая Сицилию; и вторая,
отведенная Италия, с фотографиями площади Святого Петра, в центре которой стоит
обелиск из цирка Нерона, затем играющего на свирели юноши из Тарквинии, Пизанской
башни, лестницы дворца Бальби; и третья витрина с видами Альп; а на улице Даниель
Казанова — четвертая, посвященная Бургундии, той самой французской провинции, по
земле которой ты сейчас едешь, приближаясь к ее плотоядной столице, некогда слывшей
местом фантастических неожиданностей и шуток, но с тех пор, как взял верх Париж,
ставшей прежде всего обителью отдыха и удовольствий; на цветных фотографиях в
витрине б>ылп запечатлены двор Бонской богадельни и ее кровля, на которой выложены
узоры из разноцветной обливной черепицы, алтарь с «Ангелом Страшного Суда» Рогира
ван дер Вейдена, фреска Мельхиора Брудерлама «Бегство в Египет» и чернобелый
«Колодезь пророков»; на ярких плакатах красовались виноградные гроздья,
виноградники и вино в бутылях; наконец ты подошел к твоей собственной витрине,
подстерегавшей тебя на другой стороне улицы,— типично
78
итальянской витрине с гигантскими черными буквами, составляющими имя «Скабелли» —
по ночам оно пе обведено пеоном, а вырисовывается внушительными китайскими тенями
на фоне подсвеченного матового стекла причудливой формы; стекло доходит до самого
тротуара, а стены витрины выложены мозаикой, и на тонких пестрых проволочках в
разных местах подвешены пишущие и счетные машинки, освещенные — каждая —
специальным миниатюрным прожектором (правда, Оливетти проделывал те же фокусы еще
раньше тебя),— и ты прошел мимо соседней двери, ведущей в жилые квартиры, старой
двери, которой приходится пользоваться не только служащим фирмы, но и всем важным
клиентам, направляющимся в твой кабинет на втором этаже; ты давно уже собираешься
перестроить вход, несмотря на колебания римских хозяев фирмы, не испытывающих
особого восторга при мысли о крупных расходах на перестройку дома,— ведь фирма не
может заполучить его в собственность,— но пока-то в доме всего одна-единствепная
лестница ведет в верхние этажи, и, пройдя эту дверь, ты миновал вслед за ней
книжный магазин Брентано и витрину итальянской мореходной компании.
Спустившись по бульвару Капуцинок к улице Комар-тен, ты вошел в «Римский бар»,
который по вечерам обычно набит битком, так оно было и в тот вечер, ибо ты потом
вторично зашел сюда после работы, стремясь по возможности отдалить свое возвращение
в дом помер пятнадцать на площади Пантеона, встречу с Анриеттой и детьми,— тогда в
баре было много крашеных дам, которые сидели на высоких табуретах, играя тонкими
иглами каблуков и болтая ногами, сплошь и рядом короткими и толстыми, и поправляли
клипсы из поддельных бриллиантов, между делом постукивая пальцем по длинным
мундштукам; то было вечером, а днем в баре почти не оказалось посетителей за
исключением нескольких стариков, в этом «Римском баре» с его «старинной
обстановкой»,— у него нет ничего общего с настоящими современными барами
итальянской столицы, но он вполне мог бы существовать в Риме конца девятнадцатого
века,— с его помпезной безвкусицей, с его смачными, кофейных тонов, картинами,
запечатлевшими характерные эпизоды того пышного и в то же время темного разгула,
того неуемного разврата, которым восторгались, как своим идеалом, откровенным и
величественным, свободным от оков буржуазной добропорядочности трусова-
79
тые парижские сладострастники славных времен начала века,— такими, как «Мессалина в
венериуме», «Торжественное вступление Нерона в Рим» и т. д.,— в этом баре с
креслами, обитыми красным бархатом, и с коллекцией старых монет; но ты отлично
знал, что сколько бы этот бар ни называл себя «Римским», ты не получишь здесь
«эспрессо», которого тебе так хочется, и тебе пришлось примириться с тем, что тебе
снова подали «фильтр», и ты стал медленно попивать его, наблюдая краем глаза за
двумя стариками, читавшими газету и время от времени что-то шептавшими друг другу
на ухо, пока ты вдруг пе спохватился, что уже без пяти два и ты еле-еле успеешь
добраться до конторы к моменту ее открытия, предварительно зайдя в табачную лавку
за сигаретами; когда же вечером, в половине седьмого, последним покинув контору, ты
запер ее дверь на ключ под шуршанье сыплющего во мраке мелкого дождя, разноцветного
в лучах света, источаехмого всеми вывесками, витринами, фарами и световыми
сигналами, ты немного постоял на тротуаре, подзывая все такси подряд, но тебе не
попалось ни одной свободпой машины, и, держа в руках чемодан, который Марналь после
обеда забрал из камеры хранения, ты зашагал назад — ведь тебе было бы слишком
тяжело волочить чемодан по коридорам метро, куда тебе в конце концов пришлось
спуститься, чтобы поехать домой,— и потому ты вернулся в контору, в свою охваченную
мраком и тишиной капитанскую рубку, и сквозь окна притихших комнат наблюдал за
мельканием намокших теней и огней; ты оставил чемодан на столе и, избавившись от
ноши, снова ненадолго заглянул в «Римский бар» — на этот раз он был набит битком,
заполнен дамами и мужчинами помоложе тех дневных посетителей; ты провел там не
более получаса, ровно столько, сколько нужно, чтобы выпить чашку крепчайшего чаю,
потому что ты продрог и после ночи, проведенной в поезде, никак не опасался, что
чай помешает тебе уснуть, когда ты придешь домой, затем, протискиваясь сквозь толпу
мокрых пешеходов, торопливо шагающих по бульварам, ты направился к станции метро на
площади Мадлен, сделал пересадку на станции Севр-Бабилон, где перешел на линию,
идущую к Аустерлицкому вокзалу, и снова выбрался в город уже на станции Одеон, где
на лестнице столкнулся с разноплеменной толпой студентов, спускавшихся вниз.
Ты выбрал этот путь не потому, что он самый короткий — ведь если бы ты спешил
попасть в дом номер пят-
80
надцать на площади Пантеона, тебе было бы лучше сесть и автобус,— а потому, что
тебе хотелось по возможности продлить это итальянское путешествие, сегодня
совершенное тобой в Париже, и ты старался пройти мимо памятников, напоминавших
римские, которые ты полюбил из-за Сесиль, и, любуясь этими осколками Рима в Париже,
ты вспоминал глаза, голос и смех Сесиль, ее молодость и нетронутую свободу.
Ты выбрал этот путь потому, что тебе хотелось, словно какому-нибудь туристу,
пешком, не торопясь, прогуляться по бульвару Сен-Жермен, пересечь бульвар Сен-
Мишель, затем повернуть направо и снова пойти вверх по левому тротуару, но не для
того, чтобы долго разглядывать руины (ты отнюдь не хотел останавливаться в темноте,
под дождем, да и что там разглядывать?), а чтобы всего-навсего коснуться плечом
этих стен из камня и кирпича, оставшихся от терм, в которых бывал Юлиан Отступник,—
единственного осколка его «любезной Лютеции»,— впрочем, одного этого факта вполне
достаточно, чтобы навсегда связать его имя с этими руинами.
Площадь Пантеона была почти совсем пуста, как всегда в этот час, по обычно в этот
час ты уже бывал дома: ты приезжал сюда в своей машине, которая в понедельник
вечером еще стояла в гараже на улице Эстрапад, куда ты вновь водворил ее вчера;
темная глыба храма с его невидимым куполом нависала над площадью, казавшейся от
этого еще более длинной, и у тебя было такое ощущение, что ты никогда ее не
пересечешь, и тут автомобиль, повернувший назад под дождем, на мгновенье осветил,
огнями своих фар статую Жан-Жака Руссо.
Ты нажал па кнопку, и парадная дверь отворилась с легким треском,— окно
привратницкой было плотно завешено портьерой, сквозь которую с трудом пробивался
красноватый свет; включив на лестнице электричество, ты вошел в лифт и поднялся на
пятый этаж, и тут в прихожую, вытирая руки о серый фартук, вышла Анриетта.
Она ждала, что ты по обыкновению ее поцелуешь, но ты решил прекратить эту комедию и
начал молча расстегивать пальто, и тогда она спросила:
— Где же твой чемодан?
— Я оставил его в конторе: сегодня я без машины, и мне не хотелось тащить его с
собой. А что дома?
— Ужин будет готов через несколько минут. Хорошо ты провел сегодняшний день?
81
— Великолепно. Правда, я немножко устал.
Она снова побежала торопить Марселину, а ты заглянул в комнату мальчиков, и оба тут
же вскочили с виноватым и вместе с тем дерзким видом; Анри до того, как услышал
твои шаги, явно валялся на постели, читая детективный роман — он успел засунуть его
под подушку, хотя и пе целиком,— а Тома украдкой вытер руки о вельветовые штаны, в
точности повторив привычный жест матери, и теперь стоял перед наполненной до краев
раковиной, где плавали и покорно шли ко дну бумажные кораблики с разноцветными
парусами; пепельница, красовавшаяся на большом столе,— наверняка украденная одним
из братьев в каком-нибудь кафе,— была доверху набита обрывками жженой бумаги и
окурками, а толковый словарь Гаффио валялся па полу среди школьных учебников —
мальчики, по всей видимости, только что швыряли их друг в друга.
Закрыв дверь, ты услышал сдавленный смех, затем ты направился в комнату дочерей (в
углу игрушечная коляска Жаклины с ворохом беспорядочно набросанных куколь-пых
вещичек, в середине комнаты под лампой — гора незаконченного шитья); развалившись в
глубоком кресле, Мадлена читала журнал «Она».
— А где Жаклина?
— Мама велела ей готовить уроки в столовой.
Они действительно в самом неблагодарном возрасте, твои дети, уже утратившие обаяние
и прелесть малышей, к которым спешишь по вечерам, чтобы забавляться с ними, как с
чудесными игрушками, но в то же время все, даже Мадлена, еще слишком малы, чтобы ты
мог говорить с ними, как со взрослыми, как с друзьями; с одной стороны, у тебя
никогда не было возможности неотступно следить за их занятиями — из-за службы и
прочих забот, а с другой стороны, ты с трудом выносишь возню, которую они
поднимают, и это вызывает у тебя раздражение против них, что в свою очередь мешает
им доверяться тебе, и потому они стали для тебя как бы маленькими чужестранцами —
необузданными, дерзкими, всегда находящимися в сговоре против тебя, чужестранцами,
которые, несомненно, догадываются, что у тебя с их матерью не все ладно, и следят
за вами обоими,— чужестранцами, которые хоть и не толкуют об этом между собой, нет,
конечно, было бы довольно странно толковать о таких вещах, но наверняка размышляют
об этом, знают, что им говорят неправду, однако уже не смеют прийти к тебе и о чем-
то спросить.
82
Если ты так долго не решался дать волю чувству к Сесиль, причиной тому, конечно,
были они, по и это тоже не выход — медленное загнивание семьи у них на глазах; нет,
совсем напротив, надо совершенно честно показать детям, что их опасения оправданы,
надо произвести хирургическую операцию, которая, возможно, причинит им боль, по
зато уничтожит ту душевную заразу, от которой их уже начало лихорадить; надо
показать им, что ты человек смелый и решительный в своих чувствах, и за это они
потом будут тебе же благодарны, значит — именно ради детей надо отбросить все
колебания и не прятаться больше.
Ты же не собираешься их бросать, ты всегда будешь им помогать, следить за тем,
чтобы они не знали лишений, но самое главное, теперь им можно будет прийти к тебе с
открытой душой, без прежней недоброй улыбки; ваши отношения уже ничем не будут
замутнены.
Очутившись в своей комнате, ты растворил окно, взглянул на черную глыбу Пантеона,
силуэт которого смутно проступал сквозь сетку дождя над вереницей мокрых
автомобильных фар, и подумал, что из всех парижских памятников, помимо терм Юлиана,
пожалуй, именно Пантеон неизменно вызывает в твоей памяти образ Сесиль, и не только
потому, что его название, естественно, повторяет название храма, который Агриппа
посвятил двенадцати богам, но еще и потому, что фриз с гирляндами, находящийся на
одном уровне с окнами твоей квартиры, представляет собой одну из самых удачных в
классической архитектуре имитаций прекрасных римских орнаментов; затем, затворив
ставни и выйдя в ванную комнату, чтобы там помыть руки, ты увидел под зеркалом
пустую полку, на которой обычно лежат твои туалетные принадлежности, и решение
оставить чемодан в конторе показалось тебе довольно глупым, и ты задумался над тем,
каким образом тебе удастся завтра утром побриться, ведь твои сыновья еще слишком
малы и у них нет необходимых принадлежностей — кисточки для бритья и всего прочего,
— и коль скоро не могло быть и речи о том, чтобы предстать перед девицами Капденак,
Ламбер и Перрен с суточной щетиной на лице, тебе оставалось только одно — сразу же
после завтрака пойти к парикмахеру.
Анриетта наверняка подумала об этом, как только ты вошел в квартиру, потому что у
нее на редкость острый взгляд на такие пустяки, но смолчала, предпочитая, чтобы
83
ты сам сделал это открытие и еще острее ощутил свое унижение, еще лучше
почувствовал, что не можешь без нее обойтись, не потому, что любишь ее (любви уже
не вернешь), а потому, что тебе не справиться без нее со всеми мелочами быта: опять
все та же политика, цель которой — помешать тебе сделать решающий шаг и уберечь
детей от скандала; все та же трусливая, мелочная политика, к тому же лицемерная,
потому что в душе жена не мепыпе твоего желает разрыва, но она страшится его,
страшится жалости своих подруг, боится того, что скажут детям их одноклассники в
школе,— вот с чем она боится столкнуться, вот почему она изо всех сил стремится
отдалить взрыв, надеясь, что спустя какое-то время ослабнет и твоя страсть и твоя
решимость и все останется как было.
Ради этого она хитрит на каждом шагу, изворачивается, но в случае успеха — чего же
она добьется? Печального преимущества видеть тебя окончательно сломленным; мрачной
радости грешника — увлечь за собой в пучину адского огня и адской скуки еще и
другую душу; торжества победы, по какого жалкого торжества, коль скоро оно лишь в
том, что при ней останется человек, не выдержавший этой войны на измор, человек,
которого она после всего будет презирать еще сильнее, чем сейчас, когда борьба не
завершена.
Вот тогда она и вовсе перестанет тебя выносить, и ее отчужденность сменится
ненавистью, ведь она поймет, что удержала тебя против твоей воли, исключительно
благодаря твоему малодушию, заразив своим страхом перед приятелышцами-гусыпями, и
тогда какие молнии станут метать эти глаза, в которых уже и теперь не угасает
упрек! Как ей простить тебе и себе самой, что она до конца обнажила твою трусость,
растоптав в тебе все, что еще могло быть достойно любви?
Как упрямо она гнет свою линию, преследует свою цель, в благородстве которой ей
легко убедить всех других, цель, состоящую в том, чтобы привести вас обоих, тебя и
себя, к безвозвратной гибели!
Ты расположился в кресле у окна гостиной, откуда открывается великолепный вид на
подсвеченный фриз Пантеона; сидя при свете одинокого металлического торшера, ты
слушал транслируемые по радио отрывки из «Орфея» Монтеверди и сквозь застекленную
дверь видел Марсели-ну, хлопотавшую в столовой; ты начал разглядывать на
противоположной стене гравюры Пиранези, одну из цикла
84
«Темницы» и другую из цикла «Римские древности», затем в твоей маленькой
библиотечке латипских и итальянских авторов, которую ты составил себе за время
романа с Сесиль, ты выбрал первый том «Энеиды» в серии, издаваемой Гийомом Бюде, и
раскрыл его в том месте, где начинается шестая книга. В это мгновение вошла Жаклина
— на большом и указательном пальцах правой руки у нее красовались чернильные пятна,
— уселась в кресло, стоявшее по другую сторону камина у высокого шкафа с
французскими книгами, и, слегка смущенная чем-то, скрестила руки на груди.
— Ты хорошо съездил, папа?
— Да, детка. А ты как себя вела в это время?
— Ты опять встречался с той дамой?
— С какой дамой?
— Сам знаешь, с той, что приходила к нам в гости.
— Ты имеешь в виду мадам Дарчеллу?
— Ох, пе зпаю я ее фамилии! Ты звал ее Сесиль.
— Да, я встречался с ней. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Она скоро опять к нам приедет?
— Не думаю.
Тут Анриетта, желая известить тебя, что ужин уже па столе, отворила застекленную
дверь и наградила дочь таким взглядом, что та покраснела, заплакала и побежала в
ванную комнату — мыть руки.
Что могла означать эта сцепа? Может быть, то была простая случайность, но почему же
тогда девочка покраснела, заплакала и бросилась бежать — неужели только потому, что
ее смутило поведение матери и твое собственное? Не вернее ли предположить, что она
расспрашивала тебя с умыслом, желая проверить обоснованность подозрений,
зародившихся в ее маленькой головенке, надеясь выпытать у тебя сведения, которые
она таким образом узнала бы первой, и еще — ив этом одна из причин, почему так
больше не может продолжаться, почему так бессмысленно дальше скрывать правду и
увиливать от решения, позорно стыдясь своего «я» и своего счастья,— разве ты не
уловил во взгляде этой девчушки, которая всего каких-нибудь несколько лет назад
горячо тебя любила, которая только что ласково подошла к тебе и, наверно, по-
прежнему нежно тебя любит, хотя, подражая своей сестре Мадлене, и старается
держаться как взрослая,— разве ты не Уловил в ее взгляде легкой насмешки?
85
Вот о чем ты размышлял, лежа в постели, потому что чашка крепчайшего чая, который
ты выпил вечером в «Римском баре», не давала тебе уснуть, несмотря на всю твою
дорожную усталость.
За окном припустил дождь, по стеклу застучали крупные капли, медленно сползая вниз
извилистыми ручейками. Сложив газету, англичанин снова сунул ее в карман пиджака.
За другим окном, по ту сторону коридора, ты еще смутно различаешь под дрожащими,
спутанными телеграфными проводами темные пятна домов и деревьев, мелькающих там и
сям между холмами, покрытыми виноградниками без листьев.
Но теперь дело сделано, решение принято — ты свободен.
Конечно, еще нужно будет уладить множество мелочей, и жизнь войдет в колею не
раньше, чем через два-три месяца, но решающий шаг уже сделан.
Послезавтра утром, в воскресенье, когда ты проснешься около девяти часов на пятом
этаже дома пятьдесят шесть по улице Мопте-делла-Фарина, сквозь щели ставней будет
светить солнце, а с улицы до тебя донесется итальянская речь.
Первым делом ты выберешься из комнаты Сесиль — к тому времени она, вероятно, уже
будет на ногах,— она протянет тебе кувшиц с горячей водой, и ты пройдешь через
боковую дверь в комнату, которая официально будет считаться твоим жилищем, и
разбросаешь на постели белье, а затем начнешь умываться.
Потом вы выйдете на улицу, и, если погода будет достаточно хороша, вы отправитесь
за город, чтобы где-нибудь пообедать, например на вилле Адриана, где вам еще ни
разу не случалось бывать осенью, а не то где-нибудь на берегу моря, если так
захочет Сесиль, потому что право выбора, как и вообще весь этот день, будет
принадлежать ей; но если нависнут тучи, тогда она, может быть, снова поведет тебя
поклониться первому римскому чуду, которое она тебе открыла — фреске «Страшный Суд»
Пьетро Ка-валлини в церкви святой Цецилии в Трастевере, куда свя-щепник-иезуит
каждое воскресенье в одиннадцать часов утра впускает по особому разрешению всех
желающих посмотреть роспись.
86
И поскольку в это время даже в Риме быстро темнеет, вы рано возвратитесь в квартиру
Сесиль, и она соорудит тебе ужин, потому что всегда рада показать, какая она
искусная повариха, и на этот раз ты снова рано ляжешь в постель.
На другой день, в понедельник, ей придется снова пойти к девяти утра во дворец
Фарнезе, на другой день и во все последующие, пока она не получит письма с
приглашением поступить на службу в туристическое агентство Дюрье, пока она не
заявит о своем уходе и не согласует его с посольством; ты встретишься с ней лишь в
полдень, а утром ты постараешься в одиночку осмотреть какой-нибудь из памятников
или музеев, которые она скоро уже не сможет посещать вместе с тобой, потому что
скоро ее уже не будет в Риме, так что когда ты снова приедешь в Рим и снова
навестишь эти места, это уже будет своего рода паломничество туда, где начиналась
ваша любовь, ты можешь, например, пойти в Музей терм напротив вокзала, с комнатой
Ливии, этим цветущим садом, населенным певчими птицами; или в Ватикан, если ты не
успел осмотреть в этом музее все, что хотел, правда, Сесиль ни разу не сопровождала
тебя в этих походах, но именпо ради нее, из любви к ней, ты снова пойдешь туда и
станешь еще внимательнее изучать эти залы, которых она никогда не видела, отчасти
потому, что ей не позволяло время, по и потому, что такова была ее воля, пойдешь,
чтобы потом донести до нее дух творений, украшающих эти залы, отделив его от
заслоняющей их неприятной, уродующей шелухи.
К тому же этот поход в Ватиканский музей, намеченный па ближайший понедельник,
подобно завтрашнему походу, чьим завершением ему, возможно, суждено стать, будет
твоей первой — за долгие месяцы — прогулкой к римскому памятнику, предпринятой без
Сесиль, он станет, таким образом, самой первой из всех тех прогулок, которые тебе
скоро неизбежно придется совершать без нее, когда она переедет к тебе в Париж и
никто уже не встретит тебя в доме на улице Монте-делла-Фарина; этот поход в
Ватиканский музей будет своего рода прощальной церемонией, предвещающей ее отъезд.
Короче, если ты не используешь оба утра для этой цели, то, наверно, пройдет
довольно много времени, пока тебе снова представится эта возможность, ведь ты не
сможешь часто отлучаться из Парижа на четыре-пять дней,
87
да к тому же, когда Сесиль уже не будет в Риме, тебе этого и не захочется.
Ты боишься, как бы Вечный город тогда не опустел для тебя, как бы ты не стал в нем
тосковать по женщине, из-за которой тебя влекло в этот город, которая удерживала
тебя в нем. Разве не резонно предположить, что отныне у тебя будет только одно
желание: уладить свои дела в Риме и поскорее сесть в первый попавшийся поезд, даже
пе использовав уик-энда, и что ты привыкнешь уезжать отсюда по субботам в
тринадцать часов тридцать восемь минут в вагоне первого класса, а еще лучше — в
спальном вагоне, тем самым поездом, которым ты уехал в минувшее воскресенье,
поездом, покрывающим расстояние от Рима до Парижа куда быстрее, чем тот, что ты
выбрал для своего отъезда в понедельник вечером только потому, что в нем есть
вагоны третьего класса.
После обеда — это уже решено — ты отправишься бродить в ту часть города, где на
каждом шагу видишь развалины древних памятников Римской империи, где, можно
сказать, только их и видишь, где как бы отступил и современный, и барочный город,
чтобы не нарушать их величавого одиночества.
Ты пересечешь Форум, поднимешься на Палатин, и тут чуть ли не каждый камень, чуть
ли пе каждый обломок стены будут вызывать в твоей памяти какие-нибудь слова Сесиль,
какие-нибудь любопытные мысли и сведения, которые ты вычитал и приберег для нее;
стоя у дворца Сеп-тимия Севера, ты будешь глядеть, как спускаются сумерки па
каменные рога терм Каракаллы, высящихся посреди пиний; ты пойдешь дальше, через
храм Венеры и Ромы, и, стоя внутри Колизея, увидишь, как гаснет закат и сгущается
тьма, потом ты минуешь арку Константина и проследуешь по улице Сан-Грегорио и улице
Черкн вдоль древнего Большого цирка; во мраке ты увидишь слева от себя храм Весты и
с другой стороны — арку четырехликого Януса; тогда ты направишься к Тибру и пойдешь
вдоль реки до улицы Джулии, а затем вернешься к дворцу Фар-незе, и тогда, по всей
вероятности, тебе придется подождать считанные минуты, пока оттуда выйдет Сесиль.
За окном коридора, плохо различимый под шквалом дождя, проходит длинный товарный
состав: сначала — платформы с углем, затем — другие, груженные длинны-
88
ми балками, некрашеными автомобильными корпусами, поставленными один против
другого, словно надкрылья мертвых букашек, насаженных на булавку; затем вагоны для
скота с решетками на окнах, бензоцистерны с узкими лесенками, плоские платформы,
доверху наполненные щебнем — будущим балластом на других железнодорожных путях, и,
наконец, последний вагон с башенкой и фонарем, правда, не у самого окна, а чуть
подальше, в глубине. Молодожены молчат, и он и она поглощены чтением, и он и она
вытянули ноги под твою скамью. В коридоре, опираясь на медный поручень, теперь
стоит преподаватель, он курит. Мелькнула станция, названия которой ты не успел
разобрать.
Священник, сидящий слева от тебя, встает, захлопывает свой требник, укладывает его
в черную папку и оставляет на сиденье, чтобы занять место; проходя мимо,
извиняется, что вынужден тебя обеспокоить, и, слегка отодвинув дверь купе, тут же
исчезает за твоей спиной.
Сейчас одиннадцать часов, через одиннадцать минут поезд будет в Дижоне,— интересно,
туда ли едет священник? На вид ему лет тридцать пять, это крепкий, энергичный
человек; сидя в своем углу в полном одиночестве, он, видно, изнывал от скуки.
Прочел ли он все положенные молитвы или ему попросту надоело? Как много скрывает
сутана от посторонних глаз! Она, конечно, кое о чем свидетельствует, но сколько
всего можно утаить под этим облачением! Разве узнаешь, кто он — отец-иезуит или
учитель в коллеже, сельский кюре или викарий городской церкви? Ои иосит одежду,
свидетельствующую о его духовном сапе, о том, что он ежедневно читает молитвы и
служит обедни, но в черных складках его сутаны ты не сыщешь ни единого указания на
его образ жизни и на повседневные занятия, на среду, с которой он связан.
Куда он едет? Вероятно, куда-нибудь дальше Дижона, если судить по его поведению;
надо думать, дальше, но пе намного, потому что у пего нет с собой никакого багажа,
кроме этой черной папки. Что же заставило его собраться в путь? Маловероятно,
чтобы, подобно тебе, он ехал к женщине, может быть, он гостил у своих родных или
ездил повидаться со старушкой матерью; наверно, у священников, как и у всех людей,
тоже иногда бывает отпуск; наверно, им тоже позволяют изредка путешествовать по
собственной охоте, да только сезон не слишком подходящий... Но вряд ли ои
путешествует по долгу службы, точнее, в
89
силу того, что в его жизни соответствует понятию служебного долга, не совсем ясно,
зачем ему курсировать между Парижем и Дижоном, если только он не ученый, ездивший в
Париж читать лекцию и знакомиться с какими-нибудь документами в Национальной
библиотеке на улице Ришелье, где ты в минувший понедельник вечером, возможно,
столкнулся с ним, сам того не заметив,— впрочем, на ученого он не похож.
Преподаватель обернулся, он входит в купе, садится, глядит на часы, снимает очки,
достает из кармана футляр, вынимает оттуда замшевую тряпочку и снова протирает
стекла.
У этого человека па лице прямо-таки написано, что он преподаватель и привык
разгребать старый интеллектуальный хлам; в тех же случаях, когда по лицу этого
точно не определишь, людей его типа легко выдает костюм, книги, которые они читают,
манеры, жесты; зато у его соседа все человеческое заслонено сутаной, духовным саном
и требником.
Вряд ли он сейчас едет в Рим, однако возможно, он уже бывал там раньше, возможно,
он мечтает там побывать, чтобы увидеть папу, смешаться с этой толпой людей в
сутанах, которые, словно рои жужжащих мух, заполняют все улицы,— толстые и худые,
молодые и старые,— наверно, он видел или скоро увидит совсем другой Рим, совсем не
похожий на тот, что за эти два года показала тебе Сесиль.
Оторвав взгляд от своего итальянского разговорника, молодой супруг заметил, что
место напротив него пустует, его молодая жена, сидящая рядом, уже отложила в
сторону женский журнал, теперь она листает путеводитель и разворачивает план
какого-то города, ты видишь, что это Рим.
Чтобы священник мог снова войти в купе, ты убираешь ноги, он достает из папки,
лежащей на скамейке, свой требник, но не открывает, а сует в карман, глядя куда-то
вдаль сквозь пелену дождя.
Недовольство, отразившееся на его лице, нервная судорога, которая сводит его тонкие
пальцы,— чем их объяснить: глубокой и тайной неудовлетворенностью, сомнением во
всем том, что символизирует его облачение; или сожалением, что путь, который он
избрал,— он и сам не смеет признаться себе в этом до конца,— это не его путь, да и
вообще — тупик, а может быть, это следствие вре-
90
меиных мелких неприятностей, тень, неожиданно нависшая над его жизнью; в этом
случае вполне подтвердилось бы предположение, что он ездил в Париж проведать
больного родственника, а может быть, он парижанин и его больной родственник живет в
Буре или Маконе?
Но может быть, за этим напряжением скрывается не воспоминание, а тревога; может
быть, это не тень прошлого на его лице, а предвестье будущего, ибо и он тоже должен
принять важное решение, быть может, даже в эту самую минуту, или, быть может, это
произошло мгновение назад, когда вместо того, чтобы вновь углубиться в свой
требник, как ты ожидал, он брезгливо супул его в карман, может быть, именно тогда
оп принял решение еще важнее того, что отправило в путь тебя, может быть, он
задумал отказаться от этих молитв и от этого платья и теперь, лишившись всего, но
обновленный, хочет окунуться в свободу, которая прежде страшила его, леденя душу.
Нет, он спокоен, просто он ворчит про себя; он будет носить сутапу всю свою жизнь,
наверно, он служит надзирателем в каком-нибудь небольшом коллеже, наверно, он с
утра до вечера шпыняет мальчиков — сверстников твоих сыновей, и они уважают его за
то, что он отлично играет в футбол!
Преподаватель, сидящий напротив тебя, глядит в окно коридора, видно, оп узнал по
какой-то примете, что поезд подходит к станции, оп встает, надевает пальто, берет
под мышку портфель, и англичанин тоже надевает пальто, берет свой чемодан и
выходит. Ты готов биться об заклад, что он представитель лондонской виноторговой
фирмы, который приехал сюда договориться о покупке вин нового урожая.
Все гуще сеть рельсов и проводов, за окном первые дома Дижона.
Тебя тянет размять ноги. Роман, который ты купил на перроне Лионского вокзала и
который до сих пор даже не раскрыл, все так же лежит на сиденье рядом с тобой;
уходя, ты слегка подвигаешь книгу — так, чтобы твое место считалось занятым.
Часть вторая
IV
Ты все еще дрожишь от холодной сырости, которая пронизала тебя, как только ты вышел
из вагона; на нем, теперь ты сам в этом убедился,— снаружи, под коридорным окном за
твоей спиной, подвешена металлическая дощечка, где и в самом деле указано, что
поезд следует через Дижон, Модап, Турин, Геную, Рим, Неаполь и Мессину в Сиракузы;
это, по-видпмому, и есть конечная цель свадебного путешествия молодоженов, которые
сейчас опустили стекло окна напротив тебя и, высунувшись наружу, увидели рельсы и
другой поезд, который вдалеке медленно сдвинулся с места под дождем, усиливающимся
с каждой минутой.
Новобрачный поднял голову, брызги дождя сверкают в его сухих волосах того же цвета,
что дерево стола в гостиной твоей квартиры в доме номер пятнадцать на площади
Пантеона; а его жена отряхивает локоны, окунув пальцы в их светлый, точно
ноябрьское солнце, костер,— совсем как Сесиль, когда та поправляет иссиня-черные
змейки кос, или как Анриетта много лет назад, когда она еще была молодой.
Священник снова вынул требник из папки, валявшейся на сиденье, как если бы оп
намеренно бросил ее сюда, рядом с романом, который ты оставил в знак того, что твое
место занято, а теперь, взяв с сиденья, кладешь на полку, хотя ни слова в нем пе
прочитал, а лишь быстро перелистал его, проведя большим пальцем по обрезу, подобно
тому, как школьником ты перелистывал книжечку с движущимися картинками, но теперь
уже не для того, чтобы посмотреть, как скачут фигурки, а просто желая услышать,
сквозь грохот поезда и вокзальный гул, легкое, похожее на птум дождя шуршание
бумаги.
92
Он по-прежнему невозмутимо сидит в углу, и складки па его черной сутане теперь
неподвижно застыли, словно ыа каком-нибудь изваянии из окаменевшей лавы,— сидит,
отвернувшись от мокнущих под дождем рельсов и проводов, от этого, вероятно, слишком
привычного для него, унылого пейзажа, просунув указательный палец под красный обрез
страниц, и когда ты садился на с,вое место, его взгляд неожиданно встретился с
твоим взглядом, но оп глядит не на тебя, а па того, кто занял место преподавателя,
который только что сошел с поезда, на человека, появившегося в купе в то время,
когда ты выходил из вагона и, стоя снаружи, рассматривал металлическую планку с
обозначением маршрута,— человека, еще не успевшего сиять светло-серое пальто, лишь
слегка намокшее под дождем, итальянца, судя по всему, не только по тому, что он
достал из кармана номер «Стампы», но прежде всего по тому, что на нем остроносые
ботинки из черной и белой кожи, покоящиеся на отопительном мате, который, словно
мозаичная река, выложен ромбовидными волнами.
Подняв оконное стекло, молодожены вновь садятся на свои места.
Входит женщина, вся в черном, суетливая, низкорослая, с ранними морщинами на лице,
в шляпе, отделанной тюлем и приколотой большими булавками с круглой головкой на
конце,— входит, держа в одной руке плетеный соломенный чемодан и кошелку, а другой
ведя мальчика лет десяти, который в свою очередь тащит корзину, накрытую платком
помидорного цвета; они опускаются на сиденье между священником и тобой, и у женщины
вырывается долгий вздох облегчения.
Голос, искаженный репродукторами, заключает свое сообщение: «...Шамбери, Модан,
Италия. Пассажиров просят занять свои места. Поезд отправляется»; ты слышишь глухое
щелканье последней двери, захлопнутой второпях,— поезд трогается.
На белой коже ботинок, стоящих на отопительном мате, круглыми, бросающимися в глаза
пятнами лежит грязь: наверно, человек не захватил с собой другой обуви, когда
уезжал из Италии прекрасным солнечным днем, быть может, как и ты, в минувшее
воскресенье.
Появляется в белой фуражке и куртке официант из вагона-ресторана, раздающий голубые
талоны на обед в двенадцать часов, в первую смену, которую выбирают молодожены, и
розовые — на обед во вторую, после часа дня,
93
которая больше устраивает тебя, как, впрочем, и итальянца,— он, видимо, твой
ровесник, но наверняка беднее тебя, возможно, он агент какой-нибудь дижонской фирмы
и торгует горчицей и вином «Кло-Вужо».
Шарф, который он так и не сиял с шеи, в точности того же синего, кобальтового
цвета, что и его сумка, лежащая в багажной сетке, на том месте, где недавно еще был
темно-рыжий, весь в чернильных пятнах портфель, из которого преподаватель доставал
книги в черной коленкоровой обложке, вероятно взятые им в факультетской библиотеке.
Интересно, какие дорожные принадлежйости везет он с собой? Уж конечно,
электрическую бритву, к которой тебе так и не удалось привыкнуть, потом — по
меньшей мере одну ппжаму, несколько элегантных рубашек, какие умеют шить только в
Италии, кожаные домашние туфли в шелковом футляре, какие выставлены в витринах
магазинов на Корсо, ну и, конечно, папки с делами, бумаги, машинописные тексты на
разноцветных листках, проекты и сметы, письма и счета.
Женщина в черном, та, что села рядом со священником (вдвоем они составили странную
черную пару, контрастирующую со светлой парой молодоженов) и, наверно, сойдет па
ближайшей станции, приподняла платок на корзине, стоящей между пей и мальчуганом
слева от тебя, который (он похож на Тома, каким тот был несколько лет назад) уже
нетерпеливо болтает ногами, то и дело ударяя одной о другую.
Поезд миновал станцию Жеврей-Шамбертен. В коридоре мелькнула белая куртка
официанта, переходящего из одного купе в другое; а за окном прохода, снова усеянным
крупными дождевыми каплями, медленно, нехотя сползающими по стеклу пучками косых
неровных линий, то отклоняющихся в сторону, то сливающихся, отъезжает призрачный
молочный фургон, удаляясь от колеи посреди неясных пятен, темнеющих на мутном
коричневом фоне пейзажа.
В понедельник вечером, выйдя из дворца Фарнезе, Сесиль поищет тебя глазами и
увидит, что ты стоишь у одного из продолговатых фонтанов, прислушиваясь к шуму
падающих струй и глядя, как она во мраке идет к тебе через площадь, почти совсем
пустынную — в этот час на
94
Кампо-деи-Фьори 1 уже не будет ни одного торговца,— и только добравшись до
памятника Виктору-Эммануилу, вы вновь окунетесь в сверканье и суету большого
города, с его трамваями и неоновыми рекламами; но так как в вашем распоряжении до
ужина останется еще целый час, то, возможно, вы не пойдете этой слишком уж
привычной дорогой, а будете долго, не спеша, петляя, бродить по узеньким темным
улочкам, и ты обнимешь Сесиль за талию или за плечи,— так же обнявшись, вероятно,
будут бродить здесь молодожены из твоего купе, если только они едут в Рим, так же
они станут прогуливаться и в Сиракузах, если держат путь в этот город, и так же
гуляют каждый вечер юные любовники Рима; вы будете бродить по улицам Рима, окунаясь
в густую толпу влюбленных, словно в животворный ручей, и пойдете вдоль Тибра,
временами прислоняясь к его парапету, глядя, как мерцают отсветы далеко внизу на
черной воде, а с танцулек на поплавках будут доноситься приглушенные прохладным
ветром звуки дешевой музыки; так вы дойдете до моста Святого ангела, и его статуи с
их необыкновенной чистотой линий, застывшие в мучительных позах, ослепительно белые
при дневном свете, покажутся вам странными, плотными чернильными пятнами; затем,
уже другими глухими улочками, вы снова выйдете к сердцу вашего Рима — площади
Навона с ее сверкающим фонтаном Бернини и расположитесь если не на террасе, где в
этот час уже слишком прохладно и откуда, по всей вероятности, уже будут убраны
столики, то, во всяком случае, как можно ближе к окошку в ресторане «Тре Скалини»,
и, заказав самого лучшего «Орвьето», ты подробно расскажешь Сесиль, как ты провел
вторую половину дня, прежде всего для того, чтобы она окончательно уверилась, что
ты приехал в Рим только ради нее, хотя весь этот день вы были разлучены, а отнюдь
не воспользовался поездкой, навязанной тебе фирмой «Скабелли», потому что для этой
новой жизни, которую вы собираетесь начать вдвоем, совершенно необходимо, чтобы в
начале ее не было не только лжи, по даже тени лжи; и, во-вторых, для того, чтобы в
последний раз поговорить с ней о Риме — в Риме.
Ведь теперь она должна будет уехать, как только вы оба примете решение, установите
сроки и она выполнит необходимые формальности,— может быть, уже в поне-
1 Цветочный рынок (ит.).
95
делышк вечером, самое позднее — через две-три недели, и если, что вполне возможно,
это случится в дни твоей очередной командировки в Рим, тогда ты, вероятно, в
последний раз застанешь в этом городе Сесиль и у тебя будет такое ощущение, словно
она уже его покинула, потому что она захочет еще раз взглянуть на все, что ей и так
хорошо знакомо, чтобы прочнее закрепить в памяти римские впечатления, но уже не
пытаясь их углубить.
Отныне из вас двоих римлянином станешь ты, и тебе хотелось бы, чтобы она, прежде
чем уедет из Рима, передала тебе большую часть своих знаний, пока их не поглотили
парижские будни; болеё того: тебе хотелось бы, чтобы она потратила эти последние
дни своей жизни в Риме, немногие дни до отъезда (пусть сделает небольшую передышку
после того, как покончит со службой в посольстве), на знакомство со всем, что
нравится тебе и чего она не видела ни разу,— прежде всего со всем наиболее
любопытным, что есть среди множества экспонатов Ватиканского музея, куда она до сих
пор отказывалась идти не только из-за своего отвращения к католической церкви
вообще (это еще не причина), но и потому, что в Ватикане она со времени вашей
встречи не без основания усматривает — сколько бы ты ее ни убеждал, что свободен от
предрассудков,— воплощение всего, что мешает тебе порвать с Анриеттой, что
возбраняет тебе начать новую жизнь, прогнав унылую тень старика, в которого ты
медленно превращаешься.
Теперь, этим решением, этой поездкой, предпринятой ради нее одной, ты докажешь ей,
что сбросил все цепи, и, следовательно, эти статуи и картины уже не должны казаться
ей помехой на пути, ведущем к тебе, преградой, которую надо разрушить, чтобы ты
стал свободен, а потому она может и должна их увидеть, хотя папский город, его
стражи и посетители наверняка вызовут у нее острое раздражение,— увидеть для того,
чтобы еще больше окрепло ваше римское братство, ваш союз, освященный красотами
Рима, ибо на его почве взросла ваша любовь, любовь, которой суждено пустить корни и
расцвести в иных краях, в том самом городе — Париже, который остается вашей
неотъемлемой родиной.
По другую сторону прохода, за окном, покрытым узором, сотканным из дождевых капель,
мелькает что-то свет-
96
лое, металлическое, и но тому, как оно приближается и, поравнявшись с поездом,
исчезает, ты догадываешься, что это бензоцистерна. От толчка, чуть сильнее
обычного, пуговица на рукаве чьего-то пальто ударяется о металлическую перекладину.
За окном, залитым брызгами дождя, плывут па фоне пейзажа, похожего на отражение в
мутном пруду, темные треугольники крыш и одинокой колокольни.
Когда вы с Сесиль вышли из ресторана «Тре Скалини», где только что пообедали
вдвоем, стояла чудесная погода; если бы не разлитая в воздухе свежесть, можно было
бы подумать, что сейчас август: фонтан Четырех Рек ослепительно сверкал в лучах
солнца.
Она горевала, что ты ее покидаешь, что ей придется одной провести весь остаток дня,
долгие часы этого воскресенья, а ты старался ее утешить, доказывая, что тебе
непременно нужно быть завтра утром в твоей парижской конторе; нет, ты пе можешь
послать телеграмму и предупредить, что вернешься на другой день, а потому
бесполезно пытаться тебя задерживать, уговаривать, чтобы ты дождался поезда,
который отправляется в двадцать три тридцать, того самого, каким ты уедешь в Париж
в будущий понедельник.
— А я — я бросила бы все, чтобы уехать с тобой в Париж, чтобы видеть тебя
каждый день, хоть каких-нибудь пять минут, хоть украдкой. Впрочем, я понимаю, я
ведь всего-навсего твоя римская подруга, и какое же безумие с моей стороны тебя
любить, прощать тебе все и верить, когда ты говоришь, будто я для тебя — весь мир,
хотя твое поведение убеждает меня в обратном...
Вот почему ты стал ее уверять, что прилагаешь все силы, чтобы подыскать ей работу,
что, как только представится возможпость, ты увезешь ее отсюда, расстанешься с
Анриеттой без лишних слов и вы заживете вместе.
Между тем, если теперь ты и вправду принял решение, и вправду, расспросив знакомых,
отыскал для Сесиль место, которое хотел пайти, если все, что ты ей говорил, теперь
и вправду сбылось, то тогда, в ту пору, ты еще ничего не успел предпринять, у тебя
были лишь неопределенные намерения, осуществление которых ты откладывал с педели на
неделю, от одной поездки до другой.
И она отлично это понимала, глядя на тебя с грустной улыбкой, хотя грусть казалась
тебе ничем не оправданной,
4 М. Бютор и др.
97
и, понимая это, Сесиль умолкла и зашагала вместе с тобой к стоянке такси напротив
Сант-Андреа-делла-Валле, потому что час уже был поздний, а тебе еще надо было взять
чемодап в «Квиринале».
На новом marciapiede 1 вокзала Термини ты сел в вагон первого класса и, заняв место
у коридора, по ходу поезда, оставил на сиденье газеты и итальянский детектив,
которые купил в большом прозрачном холле, когда часы уже показывали тринадцать
тридцать, и, положив на багажную полку чемодан и портфель, снова вышел па перрон,
чтобы поцеловать Сесиль, которая снова спросила тебя, добиваясь желаемого ответа
(она и вправду добилась его, но тогда ты этого еще не знал, и ты не мог ее утешить
и успокоить):
— Так когда же ты вернешься?
И ты повторил ей то, что она и так уже знала, что ты повторял ей раз двадцать за
время этой встречи:
— Увы, только в конце декабря.
Это теперь оказалось неправдой; но она, словно предчувствуя то, что произойдет, то,
что уже происходит сейчас, вдруг стряхнула с себя печаль, рассмеялась и, когда
поезд уже тронулся, крикнула:
— Счастливого пути, не забывай меня!
И ты увидел, как ее фигура, все уменьшаясь, уплывает вдаль.
После ты устроился в своем купе напротив цветной репродукции, на которой
воспроизведен фрагмент «Страшного Суда» из Сикстинской капеллы — тот, где один из
грешников силится закрыть глаза, чтобы не видеть,— репродукции, висевшей над
местом, которое так и осталось до самого Парижа незанятым,— и погрузился в чтение
посланий Юлиана Отступника.
Солнце уже почти село, когда ты приехал в Пизу, а в Генуе, пока ты ужинал в вагоне-
ресторане, шел дождь, и ты смотрел, как на стекле с другой стороны теснятся водяные
капли; около часу ночи поезд пересек границу, потом ты погасил свет и благополучно
успул и проснулся лишь часов в пять утра; отдернув справа на окне синюю занавеску,
ты увидел огни вокзала, прорезавшие темноту, и когда поезд замедлил ход, прочитал
название станции — Турню.
1 Перрон (ит.).
98
За окном, по-прежнему замутненным дождевыми цаплями, ворвавшись в строй опор
контактной сети неожиданным, чуть более резким аккордом, поднимается на девяносто
градусов раскрашенный шашечками семафор. От толчка иосильпее хлопает крышка
пепельницы под твоей правой рукой. За окном прохода, изборожденным сетью узеньких
ручейков, похожих на траектории неторопливых робких частиц в камере Вильсона,
крытый грузовик вздымает грязные брызги, проезжая среди желтых придорожных луж.
Па этот раз тебе не придется ни возвращаться в отель «Квиринале», пи торопиться
после обеда, коль скоро ты проведешь вечер в доме номер пятьдесят шесть на улице
Монте-делла-Фарипа, в той самой комнате, которую скоро покинет Сесиль и где,
следовательно, тебе суждено побывать еще не более двух-трех раз.
Предметом вашей беседы станет устройство вашей будущей жизни, все, что связано с
переездом Сесиль в Париж, впрочем, это улажено еще не до конца, вот почему ты
предпочтешь отложить разговор на самый последний миг, хотя и можешь уже предложить
ей на выбор кое-ка-кие варианты: например, в крайнем случае, на первых порах —
комнату для прислуги в доме номер тринадцать на площади Пантеона, хотя тебя и
смущает тягостная близость твоего дома; или помер в гостинице — совсем не то, о чем
вы мечтали, но сойдет на неделю-другую, затем, с января, квартиру Мартелей, которые
собираются уехать на целый год в Соединенные Штаты и, вероятно, согласятся приютить
вас на это время, но с которыми придется соблюдать известную осторожность, открыв
им лишь часть правды, потому что, хотя на словах они горячо одобрят твое решение,
ты не знаешь, как они отнесутся к нему в душе; и, наконец, но только не раньше
февраля, квартирку Дюмона, который намеревается переселиться в Марсель, не слишком
просторную и комфортабельную, в скверном районе, но за неимением лучшего вы смогли
бы более или менее прилично обосноваться в ней.
Вот как обстоят дела, скажешь ты ей, снова столкнувшись с проблемой, обычно
встающей перед молодоженами; по не исключено, что через несколько дней появятся
новые предложения, ты будешь внимательно следить за газетными объявлениями, и если
вдруг подвернется что-пи-
4*
99
будь подходящее, ты сразу закрепишь квартиру за собой и даже начнешь в ней ремонт,
чтобы к приезду Сесиль все было готово.
Лежа вдвоем в ее постели, под снимками Обелиска и Триумфальной арки, вы станете
между ласками толковать, несмотря на неясность с квартирой, о том, какая вам
понадобится обстановка и как оборудовать кухню, и, беседуя, вы будете надолго
замолкать после каждой фразы, после каждого слова, и скоро, невыносимо скоро,
пробьет час, когда надо будет расплачиваться за соседнюю комнату, где ты пи разу пе
ночевал, где лишь по утрам комкал простыни на постели, и отправляться па вокзал, по
пе пешком — из-за твоего чемодана, хотя он не такой уж и тяжелый,— а в такси,
которого вам, наверно, придется дожидаться довольно долго у Сант-Андреа-делла-Валле
или па Ларго Арджеитина, потому что в одиннадцатом часу автомобили попадаются
гораздо реже.
На залитом светом вокзале, после того как ты войдешь в вагон третьего класса, на
котором будет по-итальянски написано «Пиза — Генуя — Турин — Модан — Париж»,—
войдешь, чтобы отыскать и запять место вроде того, которое ты занимаешь сейчас,
угловое место у коридора по ходу поезда, ты снова выйдешь па перрон к Сесиль,
которая, может быть, вновь повторит свой прежний вопрос:
— Так когда же ты вернешься?
Однако это будет сказано совсем иным тоном и с совершенно иной целью, и ты ответишь
ей в этот вечер, счастливый для вас, несмотря на разлуку, так же, как ты ответил в
мипувшее воскресенье:
— Увы, только в конце декабря!
Но ты произнесешь эти слова совсем по-другому, смеясь, уверенный в близости вашего
счастья, в том, что отныне вы всегда будете вместе, забыв об обидах и ничего пе
стыдясь.
До последней минуты ты останешься с ней, обнимая ее и целуя, потому что на этот
раз, в эту позднюю пору, перед отправлением этого не очень удобного поезда тебе пе
придется опасаться, что какой-нибудь влиятельный представитель фирмы «Скабелли»,
даже если бы в силу невероятной случайности он оказался в двух шагах от тебя,
сможет тебя узнать; ты вскочишь на подножку только тогда, когда раздастся свисток,
и, опустив в каком-нибудь окне стекло, увидишь, как бежит по перрону Сесиль и все
машет и машет тебе, запыхавшись и раскрасневшись от
100
бега и волнения, и ее фигура, все уменьшаясь, уплывет вдаль, и поезд выйдет из-под
свода вокзала,— и только тогда ты расположишься на ночлег, мучительный и неудобный,
но не сразу погрузишься в чтение, потому что ты весь будешь пастолько полон ею, что
лица всех твоих дорожных спутников станут смотреть на тебя ее глазами, улыбаться ее
улыбкою, как и лица всех тех людей, которые будут дожидаться других поездов на
перронах ближайших станций: Рим-Тусколана, Рим-Остьенсе, Рим-Трастевере.
Потом кто-нибудь попросит, чтобы погасили свет.
Сквозь оконное стекло, уже пе столь замутненное каплями стихающего дождя, ты видишь
автомобиль, похожий на твой собственный, черный, весь забрызганный грязыо, с
порхающими по стеклу щеточками,— черный автомобиль, который вскоре удаляется от
железной дороги и исчезает за каким-то амбаром, среди виноградников по другую
сторону коридора, где сейчас появился, позванивая в колокольчик, официант вагона-
ресторана. Поезд проходит станцию Фонтен-Меркюрей.
Молодожены встрепенулись, но муж, видимо более опытный путешественник, чем жена,
заявил, что время еще есть, что они вполне могут подождать, пока официант с
колокольчиком не пойдет обратно.
Ты взглянул на свои часы; на них одиннадцать пятьдесят три, значит, до Шалоиа
осталось четыре минуты, и больше часа — до твоего обеда.
Слева от тебя мальчуган грызет шоколадку, которая начала таять и пачкает ему
пальцы, поэтому женщина в черном — па которую через какие-нибудь несколько лет
станет похожа Анриетта, разве что будет выглядеть немного элегантнее в темно-сером
костюме, чуть более светлом, чуть более веселом, чем это черное платье,— поэтому
женщина, вынув из сумки платок, вытирает ручонку мальчугана, выговаривая ему за
неопрятность, затем достает из корзины пачку печенья, разрывает серебряную упаковку
и сует печенье ребенку, который может приходиться ей и сыном, и внуком, и
племянником или еще кем-нибудь в этом роде, а тот роняет куски на подрагивающий
отопительный мат.
Оторвав взгляд от требника и подавив зевоту, священник кладет левую руку на ребро
окна и постукивает паль-
lot
цем по металлической пластинке, на которой написано: «Высовываться наружу опасно»;
затем, потеревшись плечами о спинку сиденья, усаживается поглубже и распрямляет
спину; затем опять погружается в чтение требника — уже в виду первых домов Шалона.
Человек, который захватил твое место, возвращается в купе, набрасывает свой черный
плащ, покачиваясь между сиденьями, точно хмельной, потом теряет равновесие, но в
последний миг, уцепившись за твое плечо, все же удерживается на ногах.
Теперь все замерло, и наступила тишина, на фоне которой лишь изредка раздаются
крики, скрежет и шорохи; на окнах больше не вздрагивают дождевые капли и новые не
ложатся на стекло.
Коммивояжер ловко снимает с багажной полки свой рыжеватый, с металлическими
уголками чемодан из картона под кожу, в котором, вероятно, носит свои образцы —
только что это: щетки? консервы? хозяйственные товары?
Как правило, торговые агенты так далеко не ездят: они путешествуют короткими
перегонами из города в город и сами живут по соседству с подведомственным им
районом. Никому из твоих провинциальных агентов не приходится предпринимать по
заданию фирмы «Скабелли» столь дальние путешествия; они даже не наведываются в
Париж по делам, к ним выезжают твои инспекторы, а этот человек определенно не похож
на инспектора. Возможно, он служит в каком-нибудь из этих мелких и скверно
организованных предприятий, которые наугад пытаются сбыть товар сплошь и рядом
довольно пизкого качества, а может быть, он был в отпуску (неподходящее для этого
время!) или же ездил повидаться с родными, а может быть, и с женщиной - но с какой
женщиной и где, в каком подозрительном квартале, в каких меблированных комнатах?
А в этом пакете, завернутом в газету,— возможно, в нем съестное, какие-нибудь
остатки вчерашних лакомств, но нельзя же весь день таскать его с собой и с ним
заходить к клиентам, хотя в камере хранения его не примут, а впрочем, может, и
примут; кроме того, возможно, в этом городе у него есть друзья, возможно, оп сам
живет здесь с женой и детьми (да, па пальце у него кольцо, как у тебя, как у
новобрачного, которого оп загородил от тебя, как у итальянца, сидящего напротив),
живет с женой, воображая, будто очень ловко ее обманывает, но она-то отлично
102
знает, зачем он ездит в Париж, и хоть чаще всего выслушивает его вранье, ни слова
не говоря в ответ, чтобы только пе было шума, но изредка все же вспыхивает и
облегчает душу.
В дверях появился другой мужчина того же пошиба, что и коммивояжер, чуть постарше,
с почти таким же чемоданом, с еще более красным лицом и располневшей фигурой, и
первый кричит ему, что сейчас придет,— наверно, это и есть знакомый, которого он
обнаружил в соседнем купе, куда и перекочевал, освободив твое любимое место.
Сидящий рядом с тобой мальчуган отрывает зубами куски разрезанной пополам булки, из
которой вылезает наружу ломтик ветчины.
Входит молоденький солдат в промокшей шинели цвета спелого сена, застенчиво кладет
наверх деревянный сундучок, в котором лежат его вещи, и усаживается рядом с
итальянцем.
Раздается переливчатый звук свистка, ты видишь, как отплывают назад столбы и
скамейки на перроне, возобновляется шум, покачивание вагона. Вокзала уже не видно.
У переезда дожидаются машины. Мелькают последние дома Шалона.
Начинается шествие пассажиров беа пальто, с голубыми талонами в руках, пассажиров,
которые спешат к обеду в эту трапезную па колесах, и снова проходит по вагонам
официант с колокольчиком.
Первой поднимается с места молодая женщина; положив на сиденье путеводитель по
Италии, она поправляет волосы перед зеркалом и, приведя в порядок прическу, выходит
из купе вместе с мужем.
Вдова достает из своей корзины кусок швейцарского сыра, нарезает его тонкими
ломтиками; священник, захлопнув свой требник, прячет его в папку.
Поезд проходит станцию Варенн-ле-Гран. В коридоре видна удаляющаяся спина официанта
в белой куртке и фуражке. За окном, снова покрывающимся каплями дождя, выбегают из
школы ученики.
В купе было еще два пассажира, мужчина и женщипа, которые спали с открытым ртом, а
под колпаком плафона сторожила их сон маленькая синяя лампочка; ты встал, отворил
дверь и вышел в проход, чтобы выкурить италь-
103
янскую сигарету. За окном все было черно после Турню; вагонные стекла отбрасывали
на откос световые квадраты, скользившие по траве.
Тебе приснилась Сесиль, но сон был пе из приятных: перед тобой возникло, словно для
того, чтобы тебя помучить, ее лицо с выражением недоверия и укора — лицо, которое
поразило тебя, когда ты прощался с ней на перроне вокзала Термини.
Между тем разве не из-за этого вечного укора, который сквозит в каждом слове, в
каждом движении Анриетты, ты так спешишь расстаться с ней? Неужели отныне тебя ждет
то же самое в Риме? Неужели ты больше не найдешь там вдохновения, тебе больше
нельзя будет насладиться покоем, вновь обретая молодость в незамутненном потоке
светлой, новой любви? Может быть, старость уже подбирается к тебе с новой стороны,
там, где ты мнил себя неприступным? И не значит ли это, что отныне ты обречен
метаться между двумя укорами, двумя обидами, двумя обвинениями в малодушии? Неужели
ты дашь разрастись этой бреши, грозящей разрушить великолепный дворец счастья,
который в течение двух лет рос и упрочивался у тебя па глазах, с каждой твоей
поездкой становясь все прекрасней? И неужели ты допустишь, чтобы и на другом лице,
словно лишай, поселилось неверие и подозрительность, из-за которых ты возненавидел
ту, другую, неужели ты позволишь этому недугу разрастись только потому, что не
осмеливаешься смести его одним резким, спасительным ударом?
И если ты так долго не решался удалить огромную злокачественную опухоль, которая
накрыла черты Анриетты чудовищной маской, особенно плотной возле уголков рта, почти
лишившей Анриетту способности изъясняться по-человечески (любое слово, сказанное
ею, доносится будто из-за стены, с каждым днем становящейся все толще, будто с
другого конца пустыни, где с каждым днем все грознее ощетиниваются колючки),
сделавшей ее губы под твоими поцелуями — она принимает их исключительно по привычке
— ледяными и жесткими, как камень; маской, особенно плотной у глаз и как бы
затянувшей их уродливым рубцом; если ты так долго не решался ее сорвать, то лишь из
страха перед кровавой раной, которую ты обнажишь, словно хирург, взрезающий
скальпелем кожный покров,— из страха перед застарелым недугом, который сразу
откроется всем.
104
Но эта глубокая рана, гнойная и опасная, может затянуться только после решительной
чистки, и если ты по-прежнему будешь медлить, гной уйдет внутрь, а яд расползется
дальше, и недуг перекинется на лицо Сесиль...
Уже и без того на пего легла тяжелая тень укора, самое время сделать выбор между
двумя женщинами, или, точнее, поскольку исход выбора предрешен, самое время перейти
к делу, объявить обо всем во всеуслышание: пусть мучается Анриетта, пусть
недоумевают дети, ведь нет другого средства излечить ее, детей и вылечиться самому,
ведь это единственный шанс сберечь здоровье Сесиль; но как тяжело далось тебе это
решение, как дрожал в твоей руке скальпель!
Да о чем уж тут говорить, ты перекладывал бы это решение с недели на неделю, до
следующей поездки, если бы в Париже не захлестнули тебя все эти досадные мелочи,
вся эта пресная муть; ты стал бы вилять, малодушный, каким считала тебя Анриетта,
каким начала считать тебя и Сесиль, каким она теперь больше никогда не будет тебя
считать, потому что ты, наконец, сделал решающий шаг; так ты отсрочил бы
собственное счастье, вопреки голосу, преследовавшему тебя везде, вопреки мольбе
поспешить, вопреки зову о помощи, вопреки этому лицу, которое, как ни хотелось тебе
забыть его, все же мучило тебя во сне и мерещилось тебе на убегавшей вдаль траве
откоса, испещренной квадратами света, падавшего из вагонных окон, попреки
тревожному воплю сирены, раздававшемуся в твоем сердце, как ни старался ты
заглушить его.
Ты пытался успокоить себя тем, что тогда, на перроне, она рассмеялась, но тщетно,
потому что теперь ты знал, что, когда наступит срок ближайшей — декабрьской —
поездки, ты снова увидишь то же искаженное лицо, только па этот раз выражение его
будет более горьким, и при каждом новом прощании смех ее будет звучать все
саркастичнее.
Стремясь отдалить, затушевать, выбросить из памяти это искаженное лицо Сесиль, ты
начал вглядываться в ночную тьму, где совсем черные пятна — дома и деревья —
проносились, словно огромные стада, бегущие по земле; следить за мельканием станций
с их огнями, надписями и часами. Сеннесей, Варенн-ле-Гран, длинные пустые перроны
Шалона, где поезд не останавливался, Фон-тен-Меркюрей, Рюлли; затем, утомившись,
надеясь, что тебе снова удастся заснуть, ты вернулся в свое купе пер-
105
вого класса и затворил дверь; слегка отодвинув синюю занавеску, закрывавшую окно
справа от тебя, ты увидел вокзальпые фонари, и поскольку поезд замедлил ход, ты
прочитал название стапции — Шаньи.
За окном, на которое теперь ложатся еще более мелкие капли дождя, проплыла деревня
— судя по всему, Сенне-сей. Поднявшись с места, священник достал с багажной сетки
свою папку, дернул застежку-молнию, сунул в папку требник и снова сел. На
отопительном мате дрожит огрызок печенья — в центре одного из ромбов, между туфлями
дамы в черном и сапогами молоденького солдата, который расстегнул шинель, широко
раздвинул поги и, уперев локти в колени, уставился в проход.
Ты очнулся в купе третьего класса, где напротив тебя спала Сесиль, чей сон стерегла
синяя лампочка в плафоне, и дремали еще трое пассажиров, вероятно, туристы.
Затем забрезжил рассвет, и ты разглядел на своих часах, что еще нет и пяти; небо
совершенно очистилось — его зелень казалась светлее каждый раз, когда твой вагон
выскакивал из туннеля.
Между двумя пригорками, по ту сторону прохода, ты заметил холм Венеры, и только ты
успел узнать вокзал Тарквинии, как пассажиры, сидевшие у окна, резко подняли головы
и стали потягиваться; один из них отстегнул штору — она сама медленно поползла
наверх,— и розовеющие лучи осветили и вырвали из мрака лицо Сесиль; она
зашевелилась на сиденье, выпрямилась, раскрыла глаза, какое-то время смотрела на
тебя, не узнавая, спрашивая себя, гадая, куда же это она попала, и, наконец,
улыбнулась тебе.
Тебе вспомнилось усталое лицо Анриетты, когда прошлым утром она лежала в
супружеской постели с взлохмаченными, разметавшимися по подушке волосами, а у этой
черная коса, которую она не стала расплетать, даже не помялась, лишь ее кольца чуть
ослабели от ночной тряски, от трения о спинку скамьи, и теперь эта коса в новом
свете зари осепяла ее лоб, ее щеки самой сладострастной, самой щедрой тенью, отчего
еще ярче казалась ее шелковистая кожа, ее губы, ее глаза, которые поначалу секунду-
другую смотрели неопределенно и мутно, часто моргая, но
106
тут же обрели прежнюю живость и еще нечто новое — некую радостную доверчивость,
которой не было в них вчера,— и ты почувствовал, что в этой перемене повинен ты.
— Как? Вы остались здесь?
Проведя рукой по своему колючему подбородку, ты сказал ей, что скоро вернешься, и
зашагал по проходу против движения поезда к тому купе первого класса, теперь совсем
пустому, куда ты сел в Париже; опустив на сиденье чемодан, ты достал из него
нейлоновый мешочек, в котором лежали туалетные принадлежности, и отправился
бриться, вслед за чем ты снова прошел вереницу вагонов, где почти всюду уже были
подняты шторы и почти все пассажиры пробудились от сна; Сесиль за это время тоже
успела умыться, поправить прическу и накрасить губы,— Сесиль, имени которой ты
тогда еще пе знал.
После станции Рим-Трастевере и реки, станции Рим-Остьенсе с пирамидой Цестия,
сверкавшей в лучах утреннего солнца, после того, как промелькнули Рим-Тусколана,
Порта-Маджоре и храм Минервы Целительницы, поезд вошел в большой прозрачный вокзал
Термини, и здесь ты помог ей сойти на перрон и взял ее вещи; вы вдвоем прошли через
весь холл, и ты угостил ее завтраком, разглядывая сквозь огромные стеклянные степы
руины терм Диоклетиана, освещенные великолепным молодым солнцем; затем ты настоял,
чтобы она села с тобой в такси, и вот таким-то образом ты в первый раз очутился на
улице Монте-делла-Фарина у дома номер пятьдесят шесть, в этом почти совсем
незнакомом тебе квартале.
Она не сказала тебе своего имени; твое имя было ей неизвестно; вы оба не
заговаривали о новой встрече, по когда шофер вез тебя назад по улице Национале в
гостиницу, ты уже был уверен, что раньше или позже ты ее отыщешь, что приключение
не может завершиться на этом и что тогда вы по всей форме представитесь друг другу,
обменяетесь адресами и договоритесь о месте встречи; что скоро эта молодая женщина
откроет для тебя не только многоэтажный римский дом, в который она вошла, но и весь
этот квартал, всю эту часть Рима, которую до последнего времени ты почти не знал.
Ее лицо весь день стояло перед тобой, что бы ты ни делал — гулял по Риму или
беседовал о делах, и всю ночь оно стояло перед тобой во сне, и назавтра, не в силах
удержаться, ты стал бродить вокруг улицы Мопте-делла-Фарина и даже долго караулил у
дома номер пятьдесят
107
шесть, подобно тому как станешь караулить завтра, надеясь, что она выглянет в
какое-нибудь окно, но потом, боясь показаться смешным (тебе давно уже не случалось
вести себя так), но больше всего боясь, что она рассердится и смутится, если увидит
тебя в такой роли, опасаясь, что она осадит тебя, сочтя наглецом, и ты таким
образом все испортишь, все погубишь своим нетерпением, ты решил удалиться, стараясь
ее забыть и предоставляя судьбе позаботиться о будущей встрече.
Под сапогом молоденького солдата раскрошился огрызок печенья на отопительном мате.
Вынув из кармана кошелек, священник стал подсчитывать свои ресурсы. За окном, на
которое теперь уже реже ложатся дождевые капли, подплывает городок с колокольней, и
ты отлично знаешь, что это станция Турню.
Синяя лампочка под колпаком плафона стерегла сон пассажиров. В купе стоял жаркий,
тяжелый дух, от которого давило грудь, два других пассажира по-прежпему спали, их
головы раскачивались из стороны в сторону, словно плоды под порывами сильного
ветра, затем один из пих, высокий грузный мужчина, проснулся, встал и, шатаясь,
пошел к двери.
Ты старался прогнать из памяти лицо Сесиль, преследовавшее тебя, но тогда тебя
стали терзать видения твоей парижской семьи, и ты их тоже пытался прогнать, по
тогда приходили мысли о службе, и так ты бился, не зная, как вырваться из этого
треугольника.
Хорошо бы опять зажечь свет, чтобы можно было читать или хотя бы разглядывать что-
нибудь, по в купе была еще эта скрытая темнотой женщина, о которой ты ничего пе
знал, не видел ни глаз ее, ни лица, ни волос, ни платья,— женщина, которую ты,
возможно, даже заметил вчера вечером, когда она входила в купе, по с тех пор забыл,
смутная фигура, забившаяся в угол у окна лицом к движению поезда и отгородившаяся
от всех подлокотником, который она опустила,— женщина, чье размеренное хрипловатое
дыхание ты не смел потревожить.
Сквозь неплотно задвипутую дверь падал клин желтоватого света, в котором жили своей
суетливой жизнью пылинки,— клип, вырывавший из мрака твое правое ко-
108
лено и рисовавший на полу трапецию, вдруг усеченную тенью возвратившегося назад
толстяка, который прислонился к выдвижной двери, и ты увидел его правую ногу,
правый рукав, несвежий манжет рубашки с запонкой из слоновой кости и руку, которую
он сунул в карман, чтобы достать сигареты, только «Национале», а не «Голуаз»;
потом, пока ты следил за клубами дыма, которые поднимались кверху, извивались,
стараясь проникнуть в купе, и, наконец, стелились полосами, еще один толчок — более
резкий — известил тебя о том, что ты прибыл в Дижон.
В тишине, лишь время от времени нарушаемой лязгом сцеплений, случайным перестуком
колес, женщина, очнувшись от сна, отстегнула кнопки шторы рядом с собой и
приподняла ее на несколько сантиметров; возникла — поскольку на дворе уже светало —
узкая серая полоска, постепенно, после того как снова тронулся поезд, расширявшаяся
и светлевшая, хотя еще и не вобравшая в себя красок зари.
Скоро в это окно, ничем больше не затененное, ты увидел обложенное тучами небо, а
на стекло снова стали ложиться кружочки дождевых капель.
Под колпаком плафона потухла синяя лампа, погасли желтоватые лампы в проходе; одна
за другой стали открываться двери, и оттуда выходили пассажиры, тараща глаза, еще
подернутые сном; на всех окнах поднимались шторы.
Ты пошел в вагон-ресторан и там проглотил не превосходный, живительный и крепкий
итальянский кофе, а какую-то черную бурду в чашке из плотного бледно-голубого
фаянса, закусывая ее смешными квадратными сухариками, завернутыми по три штуки в
целлофан,— таких ты больше нигде не встречал.
Снаружи, за завесой дождя, проплывал лес Фонтенбло; его деревья еще были покрыты
листьями, которые ветер горстями срывал с ветвей, и они медленно опадали, похожие
на багровых и желтых летучих мышей,— деревья, за несколько дней растерявшие весь
свой наряд, так что на концах их суровых ветвей теперь сохранились лишь редкие
дрожащие пятнышки, последние остатки пышного убора, столь щедро рассыпавшегося
вокруг, что все лужайки и кусты были усеяны ими, и тебе казалось, будто ты
различаешь за высокими стволами деревьев, за молодым подлеском силуэт всадника
гигантского роста, в лохмотьях, за спиной которого треплются на ветру, словно
109
языки тусклого пламени, оторвавшиеся от его когда-то великолепного костюма лепты и
золотые галуны, и различаешь коня, у которого сквозь полусгнившую плоть,
разодранные жилы и дырявую, обвисшую болтающимися клочьями кожу виднеются черные
кости, похожие на мокрые обуглившиеся ветви бука, будто ты различаешь силуэт того,
кто породил всю эту суету в природе, того самого Великого Ловчего, чей стон,
казалось, раздается в твоих ушах: «Ты слышишь меня?»
Затем появились парижские окраины, серые степы, будки стрелочников, сплетения
рельсов, пригородные поезда, перроны, вокзальные часы.
По ту сторону окна, на которое все реже ложатся дождевые капли, ты различаешь куда
более четко, чем час назад, проступающие под разлившимся в небе светом дома,
столбы, землю, людей, выходящих из домов, тележку и маленький итальянский
автомобиль на мосту под железной дорогой. Двое молодых людей, уже в пальто, с
чемоданами в руках, выходят в коридор. Мимо проплывает станция Сеиозан.
Священник вынимает из кошелька билет, потом, пересчитав деньги, кладет кошелек
назад в карман сутаны, застегивает черное пальто, обматывает вокруг шеи вязаный
шарф, сует под мышку пухлую папку, которую тщетно пытается застегнуть до конца,— а
тем временем за его спиной уже проплывают первые улицы Макона,— затем, ухватившись
за металлическую перекладину и высоко поднимая ноги, он проходит мимо дамы в
черном, между молоденьким солдатом и мальчуганом, между итальянцем, листающим
газету, и тобой и, выбравшись из купе, застывает в неподвижности у окна до полной
остаповки вагона.
Что он хранит в своей папке, между этими двумя кусками дешевой кожи, кроме
требника? Другие книги? Возможно, это учебники, если он и вправду учительствует в
коллеже, если он и вправду торопится к обеду, потому что уже в два часа он должен
дать урок мальчишкам вроде Анри и Тома, а может быть, его ждут тетради, которые
нужно проверить, диктанты, на которых он будет писать красным карандашом: «слабо»,
«крайне слабо», «плохо», жирно подчеркивая отдельные строчки и ставя на полях
восклицательные знаки, стопка контрольных работ, которые надлежит «вернуть с
подписью родителей», сочинения
110
на тему: «Ты пишешь письмо своему другу, чтобы рассказать, как ты провел каникулы»
(нет, каникулы кончились уже давно, эту тему всегда дают в самом начале учебного
года) или: «Вообрази, будто ты — парижский агент итальянской фирмы по продаже
пишущих машинок, ты пишешь письмо своему директору в Рим, сообщая, что решил взять
отпуск на четыре дня», где будет начертапо: «Мысли есть, по нет плана», «Следи за
правописанием», «Злоупотребляешь длинными фразами», «Тема пе раскрыта», «Твой
итальянский директор ни за что не согласится с твоими доводами». Или еще:
«Вообрази, будто ты — мосье Леон Дельмон и пишешь письмо своей любовнице Сесиль
Дар-челле, в котором сообщаешь, что нашел ей службу в Париже», «Совершенно ясно,
что ты никогда не был влюб-леп»,— ну, что он может знать о любви?
А может быть, как раз его и пожирает любовь, может быть, он мечется между своим
желанием, тем раем, который он торопится обрести здесь на земле, и страхом перед
разрывом с церковью, который оставил бы его совсем неприкаянным.
«Вообрази, будто ты хочешь разойтись с женой; ты пишешь ей письмо, чтобы изложить
суть дела», «Ты недостаточно вошел в образ автора письма», «Вообрази, будто ты
священник-иезуит; ты обращаешься с письмом к отцу-провинциалу, сообщая, что ты
покидаешь Орден».
Кто-то раскрыл в проходе одно из окон, и через репродуктор довольно отчетливо
звучит голос: «...Шамбери, Сен-Жан-де-Морьенн, Сен-Мишель-Валуар, Модан и — Италия.
Пассажиров просят занять свои места...»
Эти пассажиры без чемоданов и без пальто, вероятно, возвращаются из вагона-
ресторана, пообедав в первую смену, и правда, вот среди них молодожены, которые
спешат на свои места, а на перроне проводник захлопывает двери вагона, и поезд
трогается, и молодая женщина проходит между багажными сетками, качаясь, как березка
на ветру.
Очистив румяное яблоко, выбранное в корзине, вдова разрезает его на четыре дольки,
которые — одну за другой — передает мальчугану и, аккуратно сложив очистки па
обрывок газетной бумаги, расстеленной у нее на коленях, дожидается, пока мальчик
возьмет последнюю дольку, потом комкает бумажку, скатывает в шар и бросает под
скамейку, предварительно вытерев о газету лезвие ножа, который она складывает и
убирает в сумку, а затем про-
111
двигается к окошку, на место, освобожденное священником, и мальчуган тоже
отсаживается от тебя и, облизывая пальцы, грызет яблоко, запах которого наполняет
все купе.
Мимо проплывает станция Поп-де-Вейль. Молодые люди, стоящие в коридоре, прислонясь
к медному поручню у окна, прикуривают друг у друга. На отопительном мате левая нога
новобрачного в светло-желтом ботинке на каучуковой подошве почти совсем закрыла
пятно точно такого же цвета, оставшееся от раздавленного огрызка печенья.
Спустя месяц, а может быть и больше, после той встречи в поезде, когда ты уже успел
почти совсем о ней забыть, как-то раз вечером не то в сентябре, не то в октябре,
когда еще было очень тепло и ярко сверкало солнце, ты в одиночестве пообедал в
одном из ресторанов на Корсо, попивая вино, очень неважное, несмотря на чудовищную
цену, и так как тебе перед этим пришлось утрясать в правлении фирмы «Скабелли»
множество весьма запутанных дел, ты в поисках разрядки решил пойти посмотреть
какой-то — сейчас ты уже не помнишь какой — французский фильм в кинотеатре на углу
улицы Мерулана напротив аудитории Мецената и у окошка кассы встретил Сесиль; она
спокойно поздоровалась с тобой, и вы вместе поднялись наверх, поэтому билетерша,
решив, что вы пришли вдвоем, посадила вас рядом.
Через несколько минут после начала сеанса плавно раздвинулся потолок, и твой
взгляд, оторвавшись от экрана, прилепился к этой расползающейся синей полосе
ночного неба, усеянного звездами, среди которых пробирался самолет с красным и
зеленым сигнальными огоньками, а в ваше логово между тем проникали струи свежего
воздуха.
Выйдя из кино, ты предложил ей выпить чего-нибудь прохладительного, и в такси,
которое везло вас на улицу Венето, мимо храма Санта-Мария-Маджоре, по улице Четырех
Фонтанов, ты назвал ей свое имя, свой парижский адрес и тот, по которому тебя можно
разыскать в Риме; затем, воодушевленный волшебным зрелищем светлой, нарядной толпы,
ты пригласил ее завтра отобедать с тобой в ресторане «Тре Скалини».
Вот почему на другое утро, еще прежде чем отправиться в правление фирмы «Скабелли»,
ты зашел на главный
112
почтамт и послал Анриетте телеграмму, предупреждая, что приедешь в Париж только в
понедельник, а потом, что-то около часу дня, сидя за столиком на террасе ресторана,
ты увидел, как Сесиль идет к тебе через площадь, где в фонтане Четырех Рек
плескались мальчишки, совсем крошечные рядом с изрыгающими струи гигантами, и если
бы в ту пору ты уже был знаком с поэзией Кавальканти, ты сказал бы Сесиль, что
исходящий от нее свет сотрясает воздух вокруг.
Она села напротив тебя, положив сумку и шляпу па соседний плетеный стул, опустив
тонкие руки на ослепительно белую скатерть, где между вашими рюмками стояла ваза с
цветами, мягко колыхавшимися в благодатной теии, которая защищала, покрывала и
подстрекала вас,— в тепи, падающей от высоких старинных домов и разрубающей то, что
когда-то было ареной императорского цирка, на две четко очерченные половины.
Вдвоем вы смотрели, как люди, пересекая грань между солнцем и тенью, продолжали все
так же жестикулировать и говорить, как вспыхивали или тускнели краски их нарядов,
как ярко выделялись вдруг волосы и складки на черной одежде, как возпикали
неожиданные отблески, обнаруживая в обыкновенных белых лучах поразительное
богатство оттенков.
Вы принялись наперебой расхваливать эту площадь, этот фонтан, эту церковь с ее
эллипсообразными колокольнями,— и это был ваш первый разговор о памятниках Рима,
прежде всего о памятниках семнадцатого века, и потом, желая показать тебе
«прелестные уголки» города, она на этот вечер стала твоим гидом и во время долгой —
и очень скоро ставшей интимной — прогулки заставила тебя обойти все церкви
Борромини, которых ты еще пе видел.
На отопительном мате смятый газетный шар подкатился к ногам итальянца. Молоденький
солдат — шинель цвета спелого сена на нем уже высохла — встает и выходит за дверь.
Человек, идущий по коридору в направлении движения поезда, просовывает голову в
купе и, убедившись в своей ошибке, удаляется.
Поезд был набит до отказа, а ведь стояла зима, и было это в этих же самых краях,
между Маконом и Буром,
113
примерно в это же время дня; отобедав в первую смену и покинув вагон-ресторан, вы
стали искать свое купе в вагоне третьего класса. Анриетта твердила, что оно не
здесь, а гораздо дальше, и всякий раз оказывалась права, по ты все равно открывал
одну за другой все двери (с легкостью — сейчас у тебя уже нет той хватки), подобно
вот этому человеку, ты просовывал голову в купе и тут же уходил, убедившись в своей
ошибке.
Ты едва пе поступил точно так же, когда, наконец, набрел на свое купе, потому что в
нем сменились все пассажиры; теперь здесь была семья с четырьмя детьми, которые
расселись па обоих сиденьях, аккуратно сложив на полочке книги, оставленные тобой
на местах в знак того, что они заняты.
Вы стали ждать, стоя в проходе, глядя на поля, виноградники и черную кромку лесов,
на низкое, темное небо над ними, на снег, который начал сыпать в Буре, на спеж-ные
хлопья, распластывавшиеся по стеклу и прилипавшие к раме окна, и так продолжалось
вплоть до самого Шам-бери, где вам, наконец, удалось вернуться на свои места:
Анриетта села у окна, а ты рядом с пей, в точности так, как сидят вот эти
молодожены, только по движению поезда.
Снег, переставший сыпать, покрывал горы, деревья, крыши домов и вокзалов под
молочно-белым небом, и холодное стекло запотевало, так что приходилось то и дело
его протирать.
Посреди почи поезд пересек границу, и так как вам едва хватало тепла, шедшего от
слабо нагретого мата, вы оба закутались в свои пальто, и Анриетта успула, положив
голову тебе на плечо.
Другой человек, проходящий по коридору в хвост поезда, просовывает голову в дверь
купе и тут же уходит. Возвращается и садится на свое место молоденький солдат; он
нечаянно задевает ногой смятый комок газетной бумаги, перекатывающийся на
отопительном мате, и загоняет его под сиденье.
Перед следующей командировкой ты уведомил ее о своем приезде тем первым письмом,
которое заметно отличалось от твоих нынешних писем к ней, ибо обращение
114
«дорогая мадам» сначала было заменено словами «дорогая Сесиль», а затем — разными
ласкательными прозвищами, какими всегда наделяют друг друга влюблеппые, учтивое
«вы» сменилось интимным «ты», а обычные формулы вежливости в конце — простым
«целую».
Ты пашел ее ответ по прибытии в отель «Квиринале», куда ты ее просил паписать; она
предлагала встретиться у подъезда дворца Фарнезе и обещала отвести тебя, если это
покажется тебе любопытным, в маленький ресторанчик в Трастевере.
Так начались ваши встречи; всякий раз, приезжая в Рим, ты виделся с Сесиль;
миновала осень, затем зима; стоило тебе заговорить с ней о музыке, как она тут же
добывала билеты на концерт; ради тебя она стала следить за репертуаром кинотеатров,
взяла на себя заботу о твоем досуге в Риме.
Сама того пе заметив в ту пору (вы оба обнаружили это одновременно, когда каждый из
вас стал изучать для другого Рим), она сделала так, что ваша первая совместная
прогулка была осенена именем Борромини; с тех пор у вас было много других
вдохновителей, других путеводных нитей: так однажды в лавчонке букиниста рядом с
виллой Боргезе, там, где Сесиль вскоре купила тебе в подарок ко дню рождения две
гравюры — одну из цикла «Темницы» и другую из цикла «Римские древности», которые
теперь украшают твою гостиную в доме номер пятнадцать на площади Пантеона,— ты
долго листал альбом Пиранези с изображением развалин, по большей части тех же
зданий, которые были изображены на холстах в вымышленной галерее Паннини, и посреди
зимы вы вдвоем отправились осматривать одно за другим эти нагромождения камня и
кирпичей.
Однажды вечером, наконец, гуляя по Аппиевой дороге, вы оба продрогли на ветру, и
закат захватил вас у гробницы Цецилии Метеллы; город и его стены были окутаны
пыльной красноватой дымкой,— и Сесиль предложила тебе то, чего ты ждал уже много
месяцев: зайти к ней выпить чашку чаю; и, переступив порог дома номер пятьдесят
шесть по улице Монте-делла-Фарина, ты поднялся по длинной лестнице на пятый этаж и
вошел в квартиру семейства Да Понте, в квартиру с черными буфетами, с креслами в
чехлах из плетеного шнура, с рекламными кален-
113
дарями, среди которых был календарь фирмы «Скабелли», и с изображениями святых, а
потом — в комнату Сесиль с ее совершенно иной, приветливой обстановкой,
библиотекой, состоявшей из французских и итальянских книг, с видами Парижа, с ярким
полосатым покрывалом на постели.
Рядом с камином лежала большая связка дров, и ты заявил, что берешься развести
огонь, но оказалось, что за долгие годы, прошедшие после войны, ты утратил былую
сноровку, и у тебя ушло на это довольно много времени.
Стало тепло; устроившись поудобнее в одном из кресел, ты выпил чаю, заваренного
Сесиль, который чудесным образом тебя приободрил; блаженная истома разлилась по
твоему телу; ты глядел в светлое пламя камина и ловил его отблеск на стеклянных и
фаянсовых вазах, в глазах Сесиль, оказавшихся рядом с твоими, на лице Сесиль,
которая сбросила туфли и растянулась на диване, а сейчас, слегка приподнявшись,
намазывала маслом гренки.
Ты слушал постукиванье ножа по затвердевшей корке, потрескиванье огня; в комнате
стоял тонкий аромат чая и поджаренного хлеба; ты снова был робок, как юноша,
поцелуй мнился тебе роком, которого нельзя избежать; ты порывисто поднялся с места,
и она спросила: «Что с вами?»
Ты взглянул на нее не отвечая, уже не в силах отвести взгляда от бе глаз, медленно
приблизился к ней, словно волоча за собой огромную тяжесть, опустился рядом с ней
на диван и, преодолев последние жуткие сантиметры, коснулся губами ее губ; твое
сердце сжималось, словно влажная простыня, выкручиваемая чьей-то рукой.
Она выронила нож, который держала в руке, и хлеб, который держала в другой, и было
между вами то, что бывает у всех влюбленных.
На отопительном мате мечется, перескакивая с одного ромба на другой, яблочное
семечко. В коридоре снова звонит в колокольчик официант вагона-ресторана. Мимо
проплывает станция Поллиа.
Молоденький солдат встает, осторожно снимает с полки коричпевый деревянный сундучок
с металлической ручкой, составляющий весь его багаж, и выходит, и следом за ним
покидает купе итальянец, который удаляется в противоположный конец коридора, но не
успевает он сделать и несколько шагов, как его заслоняют от тебя две
116
женщины из соседнего купе, вышедшие следом за ним в коридор, и в это время
показываются первые дома Бура, а с тобой остаются лишь двое молодоженов,— над их
головами стоят два огромных чемодана из одинаковой светлой кожи с привешенными к
ручкам бирками, па которых, по всей вероятности, указан город, возможно, и вправду
в этой самой Сицилии, куда держат путь супруги, куда ты и сам хотел бы уехать, если
бы этим можно было ознаменовать твою мнимую свадьбу, твою полусвадьбу с Сесиль,—
уехать, чтобы найти там некое подобие лета.
Помимо туалетных принадлежностей, всех этих сложных приспособлений для ногтей,
которыми пользуются женщины, в чемодане новобрачной, вероятно, лежат светлые платья
без рукавов, оставляющие на воле руки, которые покроются золотистым загаром,— руки,
глубоко прятавшиеся в рукавах там, в холодном Париже, откуда молодожены уехали
вместе с тобой; руки, которые все так же будут прятаться в рукавах до самого конца
этой поездки, даже если молодые остановятся в Риме, даже если они проведут там
целый день и только под вечер поедут дальше и потом, усталые после еще одной ночи в
поезде, куда более шумном и менее быстром, чем этот, утомлепные еще более сильной
качкой, еще более частыми и грубыми толчками, прибудут в Палермо или же в Сиракузы,
где, как только они сойдут на землю, вечером или утром, их встретит великолепное,
как на картинах Клода, золотистое море, с лиловыми и изумрудными глубинами, они
будут вдыхать чудесный, папоенный ароматами воздух, который очистит их легкие и
наполнит их бодростью, такой, что они переглянутся, как победители, совершившие
подвиг; в чемодане должен быть также купальный костюм и мохнатые простыни, которыми
вытрутся молодожены, прежде чем растянутся па песке в тот же вечер или на другое
утро, в понедельник или во вторник, а ты в это время уже снова будешь сидеть в
вагоне, и поезд, везущий тебя назад, уже пересечет границу у Модана.
Женщина в черном покончила с едой, ее мальчугап уже сосал мятную конфетку; она
раскрыла окно, на котором теперь поблескивают лишь редкие дождевые капли, и
выбросила бумажку с мусором на перрон, почти совсем безлюдный, который вдруг замер,
застыл в неподвижности, и вместе с ним, перед грядой выступающих на горизонте
низких серых строений, застыли деревянные вагоны,
117
провода, прочерчивающие пебо, и рельсы, тянущиеся по земле.
Снова приблизился звон колокольчика; ты встаешь, глубоко вдыхаешь влажный воздух,
и, покосившись на бирки обоих чемоданов, где и в самом деле написано слово
«Сиракузы», на четыре снимка в углах купе с изображением гор, парусников, башен
Каркассона и красующейся над твоей головой Триумфальной арки на площади Звезды, ты
кладешь на сиденье, чтобы занять место, роман, который купил на Лионском вокзале
перед отправлением поезда, и выходишь за дверь.
V
Ты вошел в купе, раздавил в пепельнице, привинченной к дверной раме, окурок только
что выкуренной сигары, потом, наклонившись, неловко взял двумя пальцами левой руки
книгу, которую оставил в знак того, что место под снимком Триумфальной арки на
площади Звезды занято, но в эту минуту вагон тряхнуло сильнее, ты еле устоял на
ногах и, ухватившись за сиденье, выронил книгу из рук.
Едва ли полбутылки маконского вина могли так сильно на тебя подействовать; правда,
была еще сигара и рюмка коньяку, и к тому же ты не удержался и перед едой выпил
портвейна, чего обычно не делаешь, когда обедаешь один, да вдобавок, наверно,
сказывается усталость после куцей недели в Париже, когда пришлось быстрее обычного
улаживать текущие служебные дела и, призвав на помощь всю силу воли, принять,
наконец, важное решение относительно перемен в твоей жизни, а дома хранить
молчание, ничем не выдавая себя в кругу семьи, которую тебе стало еще труднее
выносить с тех пор, как ты почти окончательно решил с ней порвать, а ведь ты
полагал, что перестанешь испытывать раздражение, лишь только уверишься, что все это
уже ненадолго.
Малыш Тома смотрит своими круглыми глазенками, как ты разглаживаешь и отряхиваешь
страницы книги, которая измялась и испачкалась, упав на отопительный мат.
Так, значит, ты снова принялся за свою любимую игру — давать имена каждому из
спутников, но, пожалуй,
118
имя Тома не очень подходит этому непоседе,— ведь он гораздо моложе твоего сына;
лучше назвать его Андре; женщина, которая, взяв малыша за руку, выводит его из
купе, будет зваться мадам Поллиа, что до молодой четы — нет, пе надо никаких
литературных ассоциаций, просто Пьер и...— гм, Сесиль отпадает, а вот Аньес годится
вполне; Сант-Аньезе-ин-Агоне — церковь Борромини на площади Навона.
Захлопнув книгу, ты кладешь ее на полочку, садишься; в эту минуту возвращается
итальянец — его лицо заметно покраснело за время отлучки, и ты начинаешь подбирать
ему одно из имен в классическом духе, до которых так падки его соотечественники:
Гамилькар? Нет, это недостаточно римское имя, тогда — Нерон? Траян? Или, может
быть, Август?
Впрочем, с чего ты взял, что он римлянин? Можешь держать какое угодно пари с самим
собой — сойдет он в Турине, где его ждет обед, разогретый женой (итальянец тоже
носит обручальное кольцо),— спагетти, кьянти (впрочем, может, он солгал жене,
сказав, что вернется не раньше завтрашнего дня, а сам назначил свидание другой
женщине), или в крайнем случае оп сойдет в Генуе, где ему приготовлен ночлег. Тебе
вспоминается генуэзский собор и в романском тимпане его фронтона — мученик на
раскаленной решетке, да и в Турине тоже есть церковь Сан-Лоренцо с куполом Гварипи
на крестовых сводах, ну что ж, стало быть, имя Лоренцо подойдет и в том и в другом
случае.
Мадам Поллиа уже привела своего племянника обратно и усадила рядом с корзиной, из
которой извлекла кулек с мятными конфетами, почти пустой.
Наверное, она родилась в сыром и темном городишке в Альпах, где ее отец служил
кассиром в банке; после работы ои возвращался домой усталый, жене изменял с
официантками из кафе, по воскресеньям вся семья — они протестанты — отправлялась в
церковь гнусавить псалмы; дочь получила аттестат об окончании начальной школы,
годами играла гаммы на пианино, когда ей минуло восемнадцать лет, она впервые
поехала с матерью в Лион, брала уроки танцев в залах мэрии у учителя пения, на
повогод-пем балу познакомилась со студентом-медиком, приехавшим на каникулы к
родным, он пригласил ее в кафе, потом они встретились снова, она проводила его на
вокзал и, купив перронный билет, долго глядела вслед последнему убегающему вдаль
вагону;
119
тайком стала писать ему письма, но это вышло наружу, и однажды, когда она сидела за
пианино, родители потребовали объяснений, решено было навести справки, сведения
оказались самыми благоприятными, и переписка стала официальной,
она пристрастилась к чтению романов, что сразу сказалось на ее письмах, купила
губную помаду, которую стала носить в сумочке как талисман, и время от времени,
запершись в своей комнате, пробовала наводить на себя красоту.
Когда оп получил диплом — объявили о помолвке; когда вернулся из армии — они
поженились и отправились в свадебное путешествие в Париж.
Он с успехом занялся частной практикой, потом началась война, муж умер, оставив ее
бездетной вдовой; с тех пор она выезжала из родного города только в Бур к старшему
брату, банковскому служащему, который надеется дослужиться до кассира и у которого
двое сыновей и три дочери; Андре, самый младший, немного прихворнул, доктор сказал,
что ему необходимо отдохнуть, и решено было отправить его к тетке.
Поезд проезжает станцию Шендриё. За окном прохода, на стекле которого осталось
всего несколько дождевых капель, да и те постепенно испаряются, под очень низким
серым небом открылись платиновые воды озера.
Поезд будет идти берегом моря, кто-нибудь попросит погасить свет, и если тебе
удастся занять место в углу, ты увидишь, приподняв штору возле самого твоего виска,
лунные блики на волнах под ночным небом, безоблачным после минувшего прекрасного
дпя.
Все уже будет сказано, все будет сделано, все подготовлено, и даже будут назначены
почти точные сроки; между вами снова воцарится полное согласие — о, больше чем
согласие, такая близость, какой не было никогда, и ты освободишься, наконец, от
этой гложущей тревоги, которая упорно не отпускает тебя, несмотря на все твои
радужные и вполне обоснованные надежды.
Устав, но совсем особой усталостью — эти дни в Риме дадут тебе полную разрядку,— ты
заснешь без труда, несмотря на дорожные неудобства, даже если все места в купе
будут заняты, но сегодня тебе наверняка предстоит беспокойная ночь.
120
Поезд остановится в Чивита-Веккии, потом ты, возможно, угадаешь в темноте
Тарквинию, а потом закроешь глаза и, избавленный от мучительных кошмаров, ненадолго
заживешь той новой жизнью, к которой тебе расчистила путь твоя поездка; во спе ты
начнешь исследовать страну, в пределы которой ты вступил, приняв свое трудное
решение.
В Генуе перед рассветом тебя разбудит шум па платформе; ты пойдешь в конец коридора
побриться, потом позавтракаешь в вагоне-ресторане и уже возвратишься в купе, когда
поезд прибудет в Турин.
Потом поезд начнет понемногу взбираться по склонам Альп, снежные вершины которых
ослепительно сверкают под прямыми лучами солнца, он пройдет через леса, стоящие в
белом уборе над крутыми откосами, и купе зальет отраженный свет, его чистый и яркий
отблеск омоет праздничным весельем лица всех пассажиров, даже тех, кто ночью не
сомкнул глаз, но ни на одном лице нельзя будет прочесть такой радости отдохновения
и обретенной свободы, такого торжества, как на твоем, и даже таможенные чиновники в
Модане покажутся тебе людьми.
Конечно, по ту сторону перевала небо будет уже пе таким чистым, и во время обеда
ты, наверное, увидишь снегопад, а не то придется ехать сквозь облака, и стекла
запотеют от избытка влаги, а когда вы спуститесь с гор, облака прольются дождем,
леса снова почернеют и небо станет серым.
И вскоре вы приблизитесь вот к этому самому месту, к озеру, берегом которого ты
будешь ехать уже в обратном направлении, и на тебе будет то самое чистое и
выглаженное белье, которое сейчас лежит в чемодане над твоей головой, а то, которое
сейчас на тебе, будет лежать в чемодане, грязное и мятое.
За окном, с которого уже исчезли дождевые капли, замедляет свой бег,
останавливается вокзал Экс-ле-Бен и проходит встречный паровоз, потом вагоны поезда
Рим— Париж, того самого, в который ты сядешь в понедельник вечером и который
пройдет здесь во вторник днем в этот же самый час.
В прошлое воскресенье, в своем номере в отеле «Квири-нале», выходящем на шумную
улицу Национале — звон трамваев и выхлопы отъезжающих мотороллеров несколь-
121
ко раз будили тебя в то утро,— ты поглядел на стоявший на столе открытый чемодан и
свесившийся из него измятый рукав рубашки, в которой ты приехал из Парижа в Рим (а
у тебя не было в запасе чистой, кроме той, которую ты собирался надеть, то есть той
самой, которую ты сбросил перед сном, вернувшись с улицы Монте-делла-Фарина, номер
пятьдесят шесть, и она валялась теперь вместе со всей остальной твоей одеждой на
стуле возле кровати), н сказал себе, как говорил уже неоднократно в подобных
случаях, что в следующий раз надо захватить с собой в дорогу пе одну, а две смены
белья, но ты и сегодня опять забыл о своем намерении.
Солнце уже освещало два верхних этажа дома напротив, ты водворил на место
строптивый рукав, закрыл крышку чемодана, все приготовив для того, чтобы по дороге
на вокзал только на минуту забежать в гостиницу за багажом.
Накануне вечером ты так задержался у Сесиль, не в силах расстаться с ней, хотя
понимал, что не можешь пробыть у нее до утра (правда, в тот момент все эти
соображения казались тебе сущим вздором), что было уже около десяти, когда ты утром
вышел из гостиницы на улицу.
Ты понимал, что Сесиль встала гораздо раньше и наверняка уже позавтракала, так как
ей надоело дожидаться тебя. Вот почему ты, не торопясь, зашел в бар выпить caf-
felatte и съесть пирожное с вареньем — в Италии их называют рогаликами — и на улицу
Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят шесть, явился только около одиннадцати, когда
все семейство Да Понте отправилось к мессе, а Сесиль была одна и сильно не в духе,
потому что приготовила для тебя чай, поджаренный хлеб и все прочее,— ведь ты сам
накануне сказал ей, что тебе это будет приятно... Но ты нашептывал ей накануне еще
многое другое, а к утру все забыл.
На отопительном мате возле твоей левой ноги неподвижно лежат два яблочных семечка.
Чуть больше года назад, осенью, но только чуть пораньше, в воскресенье вечером, вы
вдвоем не спеша пили чай, окно и ставни были распахнуты настежь, заходящее солнце
освещало часть карниза дома напротив, пахло поджаренным хлебом, вы сидели рядом на
диване, прислонив-
122
шись к стене, она положила голову тебе на плечо, пряди ее волос щекотали тебе шею,
и ты обнимал ее за талию.
Уличные шумы становились все явственнее, полоса неба над крышами розовела все гуще,
а потом тугие перевивы облаков расплелись, и в них проглянули первые звезды.
К свету фонарей, золотившему стены домов, изредка примешивались вспышки фар, а в
комнате, где все сгущался сумрак, поблескивали фосфоресцирующие стрелки твоих
часов.
До поезда, отходившего в двадцать три тридцать, на который вы должны были сесть
вдвоем, потому что она решилась наконец поехать с тобой в Париж, еще оставалось
время,— и вдруг ты поежился от вечернего холодка.
При свете лампы, укрепленной над маленькой плитой и над маленькой раковиной,
скрытой в нише, которая заменяет кухню, ты перетер вымытые Сесиль тарелки и чашки,
потом закрыл окно, а она тем временем складывала последние мелочи в чемодан; свой
багаж ты уже сдал в камеру хранения.
На Корсо царила обычная суета, но улицы по другую сторопу проспекта как-то странно
притихли, на площади Навона было почти безлюдно, столики ресторанов и кафе были
убраны, и в темноте тихо струился фонтан Четырех Рек.
В купе третьего класса, точно таком, как твое нынешнее, в углу у двери по ходу
поезда, она заснула, склонившись головой к твоему плечу, едва только потушили свет,
словно благодаря твоему присутствию чувствовала себя в дороге как дома, а наутро вы
завтракали вместе за столиком, за которым, по счастью, оказались вдвоем, и
вспоминали вашу первую встречу.
На отопительном мате в четырехугольпом пространстве, замкнутом твоими ботинками и
ботинками итальянца, сидящего напротив, в одной из прорезей застряли два
раздавленных яблочных семечка, и сквозь их тонкую поврежденную оболочку
проглядывает белая мякоть.
На маленьком круглом столике, не выше дивана, застланного великолепным покрывалом с
яркими полосами, которое ты подарил Сесиль в свой прошлый приезд,— на
123
покрывале не было пи единой морщинки, пока Сесиль пе смяла его, бросившись на
диван,— она бросилась па него, подогнув колени, прижавшись спиной к стене, разметав
по снимку парижской Триумфальной арки волосы: черные прозрачные облака на широком
фоне неба и белых облаков, нависших над этим заурядным памятником наполеоновской
эпохи,— легким движением пальцев сбросила домашние туфли и поставила на пеструю
ткань босые ступни, на ее ногтях еще сохранились красные чешуйки вчерашнего лака (в
Париже в нынешнем году ей уже не придется ходить без чулок),
на низком круглом столике, покрытом камчатной скатертью с монограммой — но не
покойного мужа Сесиль, который был не настолько богат, чтобы заказать к свадьбе
полный комплект белья, а его родителей, или, может быть, даже деда и бабки, как
тебе однажды объяснила Сесиль, когда вы завтракали за этим столиком (ты уже не
помнишь при каких обстоятельствах),—
на столике стоял серебряный, начищенный до блеска чайник с остывшим чаем,
наполовину пустой, ярко-синий фаянсовый молочник, стеклянная сахарница, две большие
чашки из тонкого фарфора, одна из них со следами чая на дне — маленьким
коричневатым пятном с черными точечками чаинок,— тарелка с цветочным узором и на
ней четыре ломтика поджаренного хлеба, рядом никелированный тостер, в котором их
приготовили, наполненная доверху масленка, вазочка с вареньем,
и на металле чайника играл яркий отблеск солнца, точно звезда сверкавший в
полумраке комнаты, потому что в щелку приоткрытых ставней проникал только этот
единственный луч.
— Все уже остыло. Хочешь, я подогрею чай?
Но было совершенно очевидно, что она пе собирается вставать,— она сидела,
напряженно выпрямившись, не улыбаясь; впрочем, тебе и не хотелось чая.
— Извини, я опоздал; я думал, ты уже убрала со стола, и выпил кофе.
Ты распахнул ставни, и вся посуда на столе и чешуйки лака на ногтях Сесиль
заблестели; с того места, где ты стоял, можно было глядеться, как в зеркало, в
стекла парижских видов над кроватью.
124
За окном снова приходит в движение, потом исчезает вдали вокзал Экс-ле-Бен.
И вот на исходе короткого и ясного ноябрьского дня, оставив позади озеро Бурже, ты
узнаешь промелькнувшую станцию Шендриё. Солнце — или, вернее, его отблеск, потому
что, переехав границу, самого солнца ты больше не увидишь,— будет мало-помалу
бледнеть; в Буре тебя уже настигнут сумерки, в Маконе небо затянет мглой, и по
стеклам, сквозь которые проникает в вагон свет ламп, фонарей и вывесок очередного
придорожного городка или поселка, почти наверняка будут стекать дождевые капли.
Стало быть, Бургундии ты не увидишь совсем; в сыром и холодном мраке, который
сгустится над миром и заползет тебе в душу, ты будешь подъезжать к Парижу, где тебе
предстоит неделя потрудней минувшей, потому что теперь, когда твое решение
бесповоротно, надо приложить все усилия, чтобы его скрыть, пока ты его не
осуществил, ладо по-прежнему жить под одной крышей с этой женщиной, с Анриеттой, в
кругу семьи, как ни в чем не бывало, и, надев на себя личину безмолвной
невозмутимости, ждать приезда Сесиль в Париж.
Полно, неужели ты настолько слаб? Разве пе лучше сразу по приезде честно во всем
признаться Анриетте? Неужели твоя решимость так хрупка, что ее могут поколебать
упреки, жалобы, попытки вновь завлечь тебя — все, к чему она, безусловно,
прибегнет?
Нет, пе слез Анриетты ты боишься,— да и станет ли она плакать?
О нет, она поведет себя куда коварнее и опаснее: тебя встретит молчание и
презрение, презрение не только во взгляде, но и во всем ее облике, в каждом
движении, в каждом повороте головы; а через пекоторое время она спросит: «Когда ты
от нас уезжаешь?» — и тебе останется только сложить чемодан.
И тут тебе придется зажить холостяцкой жизнью в какой-нибудь парижской гостинице, а
для тебя пет ничего страшнее, в этих обстоятельствах ты будешь совершенно
беззащитен перед любым ее выпадом, любой ее уловкой, а уж можно не сомневаться —
она вложит в них всю свою изобретательность, зная, как никто, все уязвимые места
твоей брони и твоего характера.
Пройдет несколько недель, и ты вернешься к ней с про-
125
тянутой рукой, потерпев окончательное поражение и в ее глазах, и в своих
собственных, и в глазах Сесиль, с которой ты никогда больше не осмелишься
встретиться.
Нет, всякое скороспелое объяснение только сорвет планы бегства, которое ты так
тщательно подготовил.
Для успеха твоего замысла тебе совершенно необходимо осознать, насколько ты слаб, и
принять все меры к тому, чтобы оградить себя от собственной слабости, а значит,
выход один — молчать и лгать, может быть, еще несколько недель, а быть может, и
месяцев; вообразить себя сильным — значит безвозвратно загубить себя.
Но как унизительно, как трудно это решение, подсказанное осторожностью во имя
полного торжества любви,— настолько трудно, что тебе совершенно необходимо снова и
снова укрепляться в нем, и особенно настойчиво придется втолковывать самому себе
неоспоримые и грустные доводы во вторник вечером, когда ты будешь приближаться к
Парижу, потому что, опьяненный ощущением силы и мужества, окрепшим в тебе после тех
дней, что ты провел с Сесиль в предвкушении близкого счастья, ты вполне можешь
поддаться соблазну покончить с прежней жизнью раз и навсегда.
А стало быть, надо готовиться заранее к тому, что предстоит лгать недели и месяцы,
надо то и дело напоминать себе, что ты твердо решил не проговориться и ждать,
тщательно поддерживая и оберегая свое внутреннее пламя и собрав все душевные силы
для долгой подпольной борьбы,— готовиться заранее, еще тогда, когда, ужиная в
вагоне-ресторане, ты будешь глядеть во тьму сквозь мутные стекла, усеянные
мириадами дождевых капель, в каждой из которых вспыхивает обманчивый огонек, а
квадраты света, падающего из окон поезда, будут на ходу выхватывать из кромешного
мрака откосы, усыпанные прелой листвой, и сотни стволов в лесу Фонтенбло, и тебе
почудится, будто ты видишь среди них серый хвост огромного копя, похожий па клочья
тумана, повисшего на голых и острых сучьях, и сквозь скрежет осей слышишь конский
топот и эту жалобу, этот призыв, укоризненный и искусительный: «Чего ты ждешь?»
За окнами прохода сквозь два обсохших, но грязных стекла уже не видно неба, а
только откос, по которому карабкаются вверх, разбегаясь врассыпную, дома, а по уз-
126
кой извилистой тропинке спускается, не притормаживая, велосипедист, и полы
сероватого плаща распластались за его спиной как крылья. Поезд проезжает Воглан.
Мадам Поллиа встает, поправляет перед зеркалом черную шляпу, поглубже воткнув в
волосы булавку с агатовой головкой, просит Пьера помочь ей снять с багажной полки
плетеный чемодан,— тот передал синий путеводитель Ань-ес, она заложила страницу в
конце книги пальцем, чтобы Пьеру было легче найти место, где он остановился, а две
закладки, две узенькие голубые ленточки праздно покачиваются, подхваченные
движением поезда, следуя неприметному, но настойчивому ритму, который отбивают
колеса на каждом стыке рельсов.
Мадам Поллиа составила весь свой багаж на сиденье в углу у окна по ходу поезда — на
то место, куда она пересела после ухода священника,— потом застегнула пальто на
своем племяннике Андре, который безропотно ей покорился, обмотала ему шею шарфом и,
достав из сумки гребень, стала приглаживать его вихры, заслонив от тебя лица Аньес
и Пьера, а Пьер уже снова сел и, наверное, взял у жены свою книгу, или нет, судя по
положению его левой руки,— только она тебе и видна,— он тянется через колени жены к
окну, чтобы сквозь грязное стекло разглядеть первые дома Шамбери.
Интересно, где они познакомились? Встретились в поезде, как ты с Сесиль, или сидели
рядом на студенческой скамье, как ты с Анриеттой? Нет, навряд ли,— он учился на
инженера, а она в Институте прикладного искусства или в Школе при Лувре, и в первый
раз они увидели друг друга на вечеринке у общих знакомых; оп пригласил ее
танцевать, и хотя сам вовсе не был таким уж блестящим танцором, сумел побороть ее
застенчивость, ту неуверенность в себе, которая ее сковывала, и все сразу это
заметили; над ней стали подтруниват^; она отшучивалась и прилагала все усилия,
чтобы не краснеть, но каждый раз чувствовала, как кровь приливает к ее щекам.
Затем они увиделись уже летом; от него не укрылось, что она вздрогнула, когда он
вошел в гостиную; он увлек ее в комнату, где было менее людно, а оттуда на балкон,
выходящий на один из парижских бульваров; внизу машины сливали свет своих фар, и по
дрожащей листве платанов изредка пробегал более сильный шелест, похожий на вздох.
Ах, она прекрасно понимала, что влюблена, что в мгновение ока очутилась в том
недосягаемом мире, кото-
127
рый издали манил ее в книгах и фильмах, и спрашивала себя, может ли быть, что его,
Пьера, такого красивого молодого человека, покорила она, когда вокруг сколько
угодно девушек к его услугам; она боялась в это поверить, чтобы пе испытать потом
слишком жестокого разочарования, отмалчивалась и даже избегала его взгляда, а он не
знал, как себя с ней держать.
О, как все это тебе знакомо! Они стали завсегдатаями клубов и синематеки, где с
благоговением смотрели старые киноленты,— вероятно, те самые, которые вы с
Анриеттой когда-то видели в кинотеатрах своего квартала; несколько раз ои водил ее
в погребки и в ресторан; они объявили обо всем родителям и вчера повенчались в
церкви; к вечеру они страшно устали — в квартиру набилось много народу, и каждому
из друзей надо было сказать хоть несколько слов.
Но как им хорошо теперь, как славно они отдохнули, хотя прошлой ночыо спать им
почти не пришлось, и как уже далеки от дома, где все перевернуто вверх дном,
и в глубине души как искренне они клянутся хранить друг другу верность! Долго ли
продержатся их иллюзии?
Ах, если бы они знали, что привело тебя в этот поезд, если бы ты рассказал им, как
в их возрасте, во время свадебного путешествия с Анриеттой, ты тоже воображал, что
ваше согласие никогда и ничем не будет нарушено и дети, которые потом появились на
свет, только скрепят ваш союз, и что из этого получилось, как все пошло вкривь и
вкось, и почему ты здесь, и какое решение тебе пришлось принять, чтобы покончить с
прежней жизнью и вырваться на свободу,— наверное, твое лицо и твоя застывшая, чуть
ссутулившаяся фигура показались бы им зловещими!
Может быть, тебе следует нарушить их спокойствие, предупредить их, чтобы они не
воображали, будто им выпало особое счастье, что и ты когда-то верил в это со всей
искренностью, на какую был способен, что им надо уже теперь готовиться к будущему
расставанию и заранее избавляться от предрассудков, связывающих их и порожденных
средой,— а они люди твоего круга,— потому что эти предрассудки надолго отсрочат их
решение, их освобождение в трудную минуту, подобную той, какую теперь переживаешь
ты, когда с Аньес произойдет то, что произошло с твоей Анриеттой, когда невыразимое
презрение к Пьеру будет сквозить в каждом ее жесте, и она умрет для него, и ему
тоже придется искать другую женщину, чтобы по-
128
пытаться начать все сначала, другую женщину, которая будет ему казаться совсем иной
— воплощением вновь обретенной молодости.
Поезд остановился. Энергичная мадам Поллиа опустила стекло — платформа оказалась с
той стороны, где купе. Поручив свой багаж Пьеру, она просит его передать ей вещи
через окно, когда она выйдет, и, схватив за руку своего племянника Апдре и
извинившись, неуклюже пробирается к двери, между твоими ногами и ногами синьора
Лоренцо.
Двое юношей, один лет шестнадцати, другой лет восемнадцати, в кожаных куртках на
молнии, со школьными портфелями в руках, пропускают ее в коридоре и сами входят в
купе.
Ты видишь руку вдовы, она тянется за плетеным чемоданом, за сумкой, за корзиной, из
которой совсем недавно извлекалась всякая снедь,— сухая, цепкая рука. Мальчик рядом
с ней тебе не виден, может быть, это вовсе не ее племянник, и она, быть может,
вовсе не вдова, и зовут ее вовсе не мадам Поллиа, и навряд ли мальчик носит имя
Андре.
Два брата, забросив портфели на багажную сетку и расстегнув куртки, садятся на
освободившиеся места, тот, что помоложе, у открытого окна, а Аньес смотрит на них
и, конечно, мечтает иметь таких сыновей, красивых, жизнерадостных, и думает про
себя: «Когда Пьеру будет столько лет, сколько этому господину, который сейчас
смотрит на меня, и мы будем уже не молодыми, а пожилыми супругами, у меня подрастут
такие сыновья, только манеры у них будут лучше — ведь мы сумеем их лучше воспитать
и не пошлем, как этих мальчиков, в какое-нибудь политехническое училище в Шамбери».
Два рабочих-итальяпца, шумно переговариваясь, сбрасывают с плеч рюкзаки и,
усевшись, кладут их к себе на колени; теперь все места в купе заняты.
Ты и не пытаешься вслушаться в три одновременных разговора, которые ведутся вокруг
тебя на двух языках, и в них еще врывается невнятный голос репродуктора,
объявляющий об отходе поезда.
II снова возобновляются ставшие привычными шум и покачивапие, и мир за окном снова
бежит тебе навстречу к той границе без начала и конца, которая проходит по твоему
сидеиыо, а за ней исчезает из глаз, и снова в купе
5 М. Бютор и др.
129
врывается ветер, который в одно мгновение осушает воздух. Пьер поднимает стекло.
Поезд выезжает за черту города, и в эту минуту контролер стучит в дверь своими
щипцами. Все умолкают и тянутся за билетами.
Мелькает станция Шиньен-ле-Марш. За окном, на склонах, поросших лесом, который
становится все темнее, кое-где уже лежит снег.
Перевесившись через окно, ты засмотрелся, как внизу на улице, освещенной утренним
осенним солнцем, с трудом разворачивается неуклюжая тележка, груженная древесным
углем. Что верно, то верно, зима приходит и в Рим, и, быть может, в эту субботу и в
воскресенье вам не так повезет с погодой, как на прошлой неделе; в комнате, которую
ты снимешь для вида, будет собачий холод, а за стеной, у Сесиль, почти все время
будет топиться камин.
Ее рука тихонько легла на твою голову, уже немного облысевшую; Сесиль облокотилась
о подоконник рядом с тобой и сказала:
— Знаешь, это просто нелепо! Неужели нельзя иначе, и ты должен каждый раз
снимать комнату в этом дурацком «Квиринале» и возвращаться туда среди ночи, точно
ты школьник из интерната или солдат, который самовольно отлучился из казармы, а
утром во что бы то ни стало должен явиться на поверку. Как хочешь, но это очень
похоже! И неужели тебе не надоела вся эта ложь,— а впрочем, я не знаю, кого ты
обманываешь: жену или меня. Не возражай, я прекрасно знаю, что ты меня любишь и что
это правда — тебе все труднее выносить жену; знаю, не перебивай Меня, я наизусть
знаю все, что ты скажешь: дело, мол, не в ней, а в хозяевах фирмы «Скабелли»,
которые не допустят... Да, да, ты мне все это уже объяснял, и все мои упреки —
просто чтобы позлить тебя, должна же я отомстить тебе за малодушие, хоть я и давно
тебя простила. Но если бы однажды ты пренебрег своими страхами... Сегодня утром я
узнала, что в ближайшие дни съезжает жилец, он снимает комнату за этой дверью —
видишь, какой огромной старинной задвижкой она заперта? Мне стоит попросить Да
Понте, и они наверняка согласятся сдать комнату тебе (ведь ты не забыл — ты мой
двоюродный брат), а нам с тобой будет так хорошо! Сосед недавно ушел,
130
я сама слышала, наверняка он еще не вернулся; давай заглянем туда одним глазком.
Она потянула неподатливую щеколду и открыла дверь, заскрипевшую на петлях.
Ставни в комнате были еще закрыты; вы увидели железную кровать со смятым бельем,
открытый чемодан, множество галстуков и носков, разбросанных на комоде, а рядом —
жестяной таз на треножнике, кувшин и ведро.
И ты на секунду представил себе то, что произойдет завтра, хотя и не подозревал
тогда, что так скоро осуществишь свой план — вернее, даже не имел еще^ никакого
плана,— представил просто как некую отдаленную возможность, не без удовольствия
угождая капризу Сесиль: твои вещи разбросаны по комнате, они валяются в нарочитом
беспорядке на старых, обитых темно-красным бархатом креслах, а под этой периной и
одеялами для тебя постланы простыни, ты на них не ляжешь — не ляжешь, но сомнешь
их, чтобы сделать вид, будто спал на этой постели, а на самом деле дверь,
соединяющая обе комнаты, всю ночь будет открыта.
Ты смотришь на отопительный мат — на нем среди грязных следов, оставленных мокрыми
ботинками тех, кто пришел с улицы, и похожих на грозные снеговые тучи,— россыпь
крошечных звезд из розовой бумаги и темно-коричневого картона от билетов, пробитых
щипцами контролера.
Контролер проверил ваши билеты. Вы с Сесиль вернулись в купе. Вы молча сели рядом,
как сидят теперь Пьер и Аньес, и ты, как он, углубился в книгу, которую, уходя,
оставил на сиденье и снова открыл, вернувшись в купе,— сейчас ты уже пе помнишь
точно, что это была за книга, но наверняка речь в ней шла о Риме; время от времени
ты показывал Сесиль какой-нибудь интересный абзац.
Но вскоре ты отвлекся от чтения и, проезжая те самые места, мимо которых едешь
теперь, и глядя в окно на горы, бегущие в обратном направлении, подумал: «Почему
так не может быть всегда? Почему я неизменно должен расставаться с ней? Правда,
сделан огромный шаг: я добился того, что она рядом со мной уже не только в Риме п
наша совместная жизнь в кои-то веки выплеснулась из тех узких берегов, которыми мы
вынуждены ее стеснять;
5*
131
прежде каждый раз, когда я уезжал из Рима, вокзал Тер-мини становился местом нашей
разлуки, нашего прощанья, но наконец нам удалось отодвинуть эту границу; теперь в
Париже, где обычно я так тоскую оттого, что она далеко, что нас разделяет это
расстояние, эти горы, я буду сознавать, что она рядом, и смогу хоть изредка
видеться с ней».
И, конечно, при этой мысли тебя охватила величайшая радость, ощущение победы, но к
ним примешивалось грустное сознание, что это всего-навсего первый шаг и ты
представления не имеешь, когда за ним последуют другие, что расставание оттянуто
лишь на время, что граница перейдена лишь однажды, а когда ты снова приедешь в Рим,
все начнется сначала — и тебе придется прощаться с ней на вокзале Термини, что
нынешняя поездка — исключительный случай, а не подлинная перемена в жизни.
Впрочем, прежде ты и не помышлял об этой коренной перемене; тебя устраивало твое
двойное существование; в Париже ты предавался воспоминаниям о своей жизни в Риме,
но тебе еще ни разу всерьез не приходило в голову изменить свою парижскую жизнь.
И вот теперь ты вдруг представил себе эту возможность, она явилась вначале в образе
отчаянного, безумного искушения, которое шаг за шагом овладело всеми твоими
помыслами, мало-помалу ты к нему привык, оно стало неотступно преследовать тебя и
внушило глубокую ненависть к Анриетте.
Какая же это была неосторожность — отправиться вдвоем в путешествие из Рима в
Париж! До сих пор все шло так спокойно, а теперь нет, теперь вам будет мало
прежнего, и ты понимал, что и Сесиль об этом думает, что отныне эта мысль будет
преследовать и ее, что она употребит все свое искусство, чтобы вы были вместе, если
не всегда, то хотя бы настолько часто, настолько долго, насколько вам позволяют
служебные обязанности и приличия; ее будет преследовать мысль о том, что она,
наконец, может стать для тебя единственной, открыть тебе и себе путь к той
прекрасной и чистой любви, к той свободе, которая с начала вашего романа и до сих
пор являлась вам лишь в жалком обличье — всегда урывками, всегда наспех, каждый раз
скользнув лишь по поверхности твоей души.
Но вот прошел год, и эта возможность не сегодня завтра осуществится, ты так решил,
и ты приводишь свой замысел в исполнение.
132
Поезд отошел от станции Шамбери, за окнами промелькнул Воглан, потом была остановка
в Экс-ле-Бен; вы с Сесиль вдвоем вышли в коридор полюбоваться озером Бурже,
Какой-то человек просунул голову в дверь, посмотрел направо, налево, увидел, что
попал не в свое купе, пошел дальше и исчез в коридоре.
Почти четыре года тому назад, в ту пору, когда твоя нога еще не ступала на улицу
Монте-делла-Фарина и ты был в Риме совершенно одинок, ты приехал на вокзал Терми-нй
— на вокзал, где обычно обрывается твоя совместная жизнь с Сесиль, на эту границу,
которую год назад тебе однажды удалось пересечь с нею вдвоем,— приехал зимним
утром, еще до рассвета, вместе с Анриеттой, измученной путешествием, с Анриеттой,
которую ты тогда еще любил — во всяком случае, ты не замечал, что отдаляешься от
нее, потому что тебе еще не с кехм было ее сравнивать,— с Анриеттой, в которой
йрезрение к тебе уже начало производить свое разрушительное действие, ожесточая ее,
отрывая от тебя и старя, но которая простила тебе все из-за поездки в Рим,— поездка
уже столько раз откладывалась, а она так мечтала ее повторить,— простила ради
Вечного города, который так мечтала увидеть снова и в котором, точно так же, как ты
теперь, надеялась, хоть и бесплодно, вернуть молодость, поймать кончик нити,
тянущейся к тем предвоенным годам, когда она была в Риме в первый и последний раз,
хотя все нити уже безнадежно запутались и оборвались;
вы добрались в такси до отеля «Квиринале» и сняли семейный номер — более
просторный, красивый и удобный, чем те холостяцкие номера, которые ты занимал там
впоследствии, семейный номер, о котором ты невольно вспоминал с сожалением всякий
раз, когда впоследствии брал ключи у портье, и потому-то гостиница и стала в глазах
Сесиль (ты понял это только сейчас) бастионом Анриетты в Риме; незаметно,
исподтишка она действует на тебя так, что каждый раз, очутившись в ее стенах,— и не
столько среди ночи, вернувшись от Сесиль, сколько по утрам, едва открыв глаза и
сообразив, где ты находишься,— ты неволь-
133
но вспоминаешь Анриетту, пусть даже с ненавистью, думая о том, что она преследует
тебя и здесь.
Анриетта радовалась, что может вписать свое имя в регистрационную книгу рядом с
твоим. Вы попросили подать вам завтрак в номер. Ставни еще не открывали. На улице
было холодно, но в гостинице против обыкновения хорошо топили. Она, разувшись,
вытянулась на кровати, и вы вдвоем стали ждать рассвета.
Увы, она так предвкушала эту поездку, которая столько раз откладывалась, она
возлагала на нее такие надежды, думая, что теперь ты вновь станешь прежним, таким,
какого за эти годы она с каждым днем все больше теряла, и между вами исчезнет
отчужденность, которая углублялась после каждой твоей отлучки в Рим, потому что
каждая твоя отлучка приводила к очередному взаимному разочарованию, каждый раз тебе
все яснее становилась разница между более свободной и счастливой жизнью, надежду на
которую ты вдыхал с воздухом Рима, и тем парижским рабством, той лямкой, которая
все больше душила ее, потому что Анриетте казалось, что в Париже ты с каждым разом
все больше предаешь себя, и хотя тебе платят все больше — впрочем, вы по-прежнему
жили довольно стесненно,— твоя служебная деятельность совершенно никчемна, а ты все
упорней закрываешь на это глаза и каждый раз, приглашая к обеду очередного делового
знакомого, теряешь какую-то частицу своего достоинства и былой душевной чуткости,
перенимая мало-помалу гнусные ухмылки этих людей, их расхожие нравственные или
безнравственные правила, все те словечки, которыми они аттестуют подчиненных,
конкурентов, клиентов; унижаешься, пресмыкаясь перед системой, которую прежде ты
хотя бы осуждал, с которой хотя бы мирился только внешне, от которой мог
отмежеваться хотя бы на словах, хотя бы в разговорах с глазу на глаз с ней,
Анриеттой, а теперь ты капитулируешь перед этой системой все безоговорочней, при
том постоянно утверждая, что делаешь это ради жены, чтобы лучше ее обеспечить,
чтобы она могла жить в вашей прекрасной квартире, чтобы дети были лучше одеты и
Анриетте не в чем было тебя упрекнуть,— так ты заявлял ей когда-то, вначале с
иронией, но постепенно все больше отчуждаясь и от нее и от самого себя.
Она прекрасно знала, что с образами Рима — его улиц, садов и руин — для тебя
связана мечта, власть которой растет не по дням, а по часам, мечта обо всем том, от
чего
134
ты отказался в Париже, что Рим для тебя — место, где ты вновь обретаешь свое «я»,
где раскрывается та часть твоей души, которая для нее недоступна, и вот к свету,
который излучает Рим, она и хотела с твоей помощью приобщиться.
Но, на беду, чарующая мечта в ту пору была еще смутной и не нашла своего выражения;
ты еще не мог назвать ни одного римского памятника, еще ничего не изучил, ни во что
не вложил подлинной страсти и не в состоянии был хоть что-нибудь вразумительно
объяснить.
А она-то предполагала, что ты знаешь этот город куда лучше, что твоя любовь к нему
— это любовь знатока, которым на самом деле ты сумел стать только с помощью Сесиль;
вот почему, прогуливаясь в ту зиму с Анриеттой по римским улицам, ты ничего не мог
ответить на бесконечные вопросы, которые она тебе задавала, словно старалась твоим
собственным невежеством доказать тебе, сколь ненадежно прибежище, в котором ты
ищешь спасения; она шла рядом, пытаясь понять, призывая тебя на помощь, но ты
бросил ее на произвол судьбы, и мало-помалу она стала казаться тебе олицетворением
недосягаемости того, что ъсегда сулили тебе римские улицы, и невозможности понять
или хотя бы просто разобрать слова, которые город к тебе обращает, а прежде тебе
казалось, что эти слова ничего не стоит истолковать, словно латинский текст, на
который, если ты вник в него на досуге, достаточно потом бросить лишь беглый
взгляд.
Видя, что ты отмалчиваешься и бессилен ей помочь, Анриетта, наконец, сдалась; все,
что она прежде любила — да, и она тоже,— вдруг стало ей ненавистно, и уже к концу
первого дня ты прочитал в ее запавших глазах, что ей хотелось бы уехать, да и тебе
хотелось остаться одному, чтобы обрести в Риме прежнюю свободу.
Пошел снег, первый и единственный, который ты когда-либо видел в Риме, не крупными
хлопьями, как тот, что запорошил сейчас горы за окном, а мокрый, от которого все
развезло, и улицы вдруг притихли, опустели, и только редкие прохожие торопливо
спешили по ним, подняв воротники пальто.
Анриетта простудилась и все воскресенье провела в постели, а в понедельник ты почти
до вечера просидел в правлении фирмы «Скабелли», так что ей пришлось бродить по
городу в одиночестве, и, не зная, куда направиться, она ходила из церкви в церковь,
умудряясь прочитать в каждой весь набор молитв.
135
Ей непременно хотелось увидеть папу, ты отказался ее сопровождать, хотя и не стал
ее удерживать; из Ватикана она вернулась в полном изнеможении, но глаза ее сверкали
каким-то фанатическим блеском. Теперь вы встречались как в Париже — за едой и по
ночам, и отъезд был для вас обоих облегчением.
Если бы только ты не затеял этой поездки с Анриеттой в такое неудачное время, в
разгар зимы, в самые холода, а все потому, что поездка и так уже долго
откладывалась и ты решился на нее с досады, чтобы, наконец, положить конец
разговорам... Впрочем, кто знает, может быть, несмотря на снег, дождь и туман, тебе
удалось бы обнаружить в Риме хоть одно из его чудес, если бы к тому времени ты уже
познакомился с Сесиль и она уже открыла бы тебе и этот город, и ту сторону твоего
«я», которая расцветала в нем.
Но кто знает, любил ли бы ты ее так, свою Сесиль, если бы вашему знакомству не
предшествовала эта злосчастная поездка? И если бы ты уже знал тогда Сесиль,
отдалился ли бы ты так от Анриетты и сидел ли бы сейчас в этом поезде?
Наверняка тогда все пошло бы по-другому, и, может быть, уже давно...
Старик итальянец с длинной белой бородой бросает взгляд в купе сквозь застекленную
дверь.
Озеро было окутано туманной дымкой, потом тучи сгустились, все сильнее стал
накрапывать дождь, и стекла сделались мутными.
Вы оба возвратились в купе, ты снова взял с сиденья книгу, Сесиль склонилась к
твоему плечу; но читать тебе не хотелось; ты не мог отрешиться от мысли, что
границу так и не удалось преодолеть до конца и, главное, это неполное преодоление
принесет куда меньше радости, чем ты ожидал, ведь в предстоящие две недели ты
будешь принадлежать Сесиль гораздо меньше, чем в Риме, будешь видеть ее только
изредка, только украдкой, что граница и на этот раз не стерлась, а только
переместилась и местом расставания станет уже не Рим, а Париж, не вокзал Термини в
минуту отхода поезда, а Лионский вокзал в минуту твоего приезда.
136
Ты захлопнул свою книгу, Сесиль углубилась в чтение своей, низко склонившись над
страницами, так как стало уже довольно темно — над Юрой шел дождь, в Бургундии
начало смеркаться,— и ты уже не ощущал прикосновения ее тела. Вы оба не произносили
ни слова.
Ах, вы уже (теперь ты это сознаешь, а тогда тебе просто было не по себе, к тебе
подкрадывалась неизъяснимая тоска, словно демон усталости и оцепенения похищал у
тебя твою душу; но осознал ты это только теперь, потому что сначала ты все забыл, а
в последние недели остерегался такого рода воспоминаний, да и не до них тебе было
среди всех твоих забот; нужна была эта передышка в твоей жизни — эта тайная
отлучка, когда в кои-то веки ты едешь не по делам «Скабелли» и голова твоя свободна
от служебных забот,— нужна была эта пауза, чтобы воспоминания обступили тебя со
всех сторон, потому что в последние дни ты сознательно гнал от себя всякую мысль,
могущую хоть в малейшей степени поколебать твою уверенность в том, что исход,
который ты, наконец, решился предпочесть, возможен, что счастье и обновление близ-
ки),
вы уже не были вместе, связь между вами ослабевала, терялась, рушилась, разлука уже
началась, граница пе только не была преодолена, хотя бы и не до конца, не только не
переместилась,— нет, дело обстояло гораздо хуже, чем ты пытался себе внушить; ее
четкая линия размылась: если прежде прощание длилось несколько коротких мгновений
на вокзале Термини, то теперь оно растянулось на всю дорогу, и вы отрывались друг
от друга медленно, мучительно, частица за частицей, не вполне отдавая себе отчет в
том, что происходит, и хотя вы по-прежнему сидели бок о бок в купе, каждая
очередная стапция — Кюлоз, Бур, а потом Макон и Бон,— как всегда, отмеривала все
увеличивавшееся расстояние между вами.
Не в силах ничего изменить, ты лишь молча наблюдал за тем, как сам предавал себя, и
по мере того, как в вашем купе итальянская речь сменялась французской, временами
прерываясь общим молчанием, образы римских улиц, домов и людей, окружавших Сесиль,
с каждым километром вытеснялись из твоего воображения виденьями других людей — тех,
что окружали Анриетту и твоих детей,— других домов по соседству с твоим домом на
площади Пантеона и других улиц.
137
Когда после Дижона вы вдвоем пошли ужинать в вагон-ресторан, в ваших взглядах уже
читалась отчаянная мольба тех, кто чувствует, как затягивает их, отрывая друг от
друга, кромешная бездна одиночества; восторженными, но бессвязными восклицаниями,
велеречивыми клятвами в том, что ты счастлив, ты пытался скрыть, замаскировать свою
измену, непреодолимое отчуждение, возникавшее между вами, но — подобно жениху,
который напрасно сжимает в объятиях мертвое тело своей суженой, и видимость ее
присутствия лишь усугубляет его горе и подтверждает утрату — ты уже замечал, как
Сесиль постепенно превращается в призрак, каким она должна была стать для тебя на
все время своего пребывания в Париже.
Стоя у окна в коридоре и глядя на то, как квадраты неяркого света, падающего из
поезда, на бегу выхватывают из темноты деревья, откосы, опавшие листья, ты стал ей
что-то рассказывать, словно для того, чтобы рассеять тени, сгустившиеся над ее
головой, рассказывать без умолку, не давая ей вставить ни слова, точно боялся, что
если хоть на секунду воцарится молчание, она сразу исчезнет и вместо нее перед
тобой окажется другая женщина, незнакомка, с которой тебе не о чем будет говорить,
и между прочим припомнил легенду о Великом Ловчем, который рыщет по темному лесу и
темным скалистым склонам, повторяя все тот же подхваченный многоголосым эхом и не
очень внятный, точно произнесенный на старинный лад призыв: «Где ты?»; так тебе
удалось протднуть время до самого Лионского вокзала.
Передвинув левую погу, Лорепцо Брипьоле изменил очертания созвездия из розовых и
коричневых звездочек, а какую-то его часть накрыл ботинком; комок газетной бумаги,
очутившийся здесь после долгих и замысловатых скитаний под сиденьем, он отшвырнул в
проход, по ту сторону границы купе — металлического желобка, по которому ходит
выдвижная дверь.
Нельзя больше думать об этой давней поездке в Париж с Сесиль; думай только о том,
что будет завтра в Риме.
— Даже если бы мне удалось приехать в Рим только ради встречи с тобой... ведь
чтобы остановиться у Да Понте, мне необходимо приехать без ведома «Скабелли»,.*
138
— Почему? Неужели твои хозяева не могут Допустить, чтобы ты хоть раз
остановился у друзей? Ты что, боишься, что они придут тебя проверять, вздумают
наводить справки о доме, где ты живешь?
— Они наверняка так и сделают, только, пожалуй, примут меры, чтобы ни я, ни ты
об этом не узнали, а возможно, они даже и не станут принимать никаких мер, но я
любой ценой хочу избежать этой проверки... А потом сами Да Понте...
— Полно, не воображай, что они так наивны, ведь они живут в городе, где им
ничего не стоит успокоить свою католическую совесть, прочитав утром на скорую руку
две-три молитвы в любой из церквей, дарующей отпущение грехов «toties quoties» !,
их сколько угодно, и они расположены в двух шагах отсюда — взять хотя бы церковь
Иисуса. Неужто ты и впрямь поверил, что нам удалось усыпить бдительное око этих
старух? Они отлично знают про нас все и благословляют нас на все. Будь уверен, они
посылали следом за тобой одного из внучат, чтобы разузнать, где ты служишь и где
живешь. Им нужно одно (и тут они неумолимы): чтобы соблюдались внешние приличия;
если в наше отсутствие к ним заглянет соседка, хозяевам — старухе или ее сестре —
очень важно, чтобы они могли показать ей квартиру, в том числе обе наши комнаты, и
при этом объяснить, что ты — мой двоюродный брат и спишь вот в этой постели, и
чтобы внешний вид комнат это подтверждал, потому что соседка не менее пронырлива и
любопытна, чем они сами, и к тому же язык у нее длинный. Им хочется, чтобы мы по
мере сил таились и от них: им важно быть уверенными, что мы поступаем
осмотрительно.
В общем, я убеждена, что они будут за нас, лишь бы мы вели себя как до сих пор; они
не станут нам мешать; наоборот: они будут опекать нас, всей семьей, включая внучат
и племянников, которые иногда навещают стариков; им, конечно, никто ничего не
скажет, но они все угадают сами, учуют в воздухе и, зная, когда можно посудачить, а
когда надо держать язык за зубами, будут охранять нас и завидовать нам.
Вы стояли вдвоем в дверном проеме между темной и светлой комнатами, и она шептала
тебе это не на ухо, а прямо в губы, то и дело касаясь своими губами твоих.
1 Целиком и полностью (лат.).
139
— Вот уже сколько лет я живу у Да Понте, они добры ко мне, относятся ко мне по-
родственному, но хоть они и считают своим долгом по очереди вести со мной длинные,
утомительные разговоры, я все же до сих пор не могу взять в толк, как они смотрят
на некоторые вещи, в том числе на вопросы веры. Но так или иначе, сознают они это
или нет (думаю, что сознают, вот почему мне у них так хорошо), их вера не имеет
ничего общего с тем католицизмом, который распространяют полчища здешних
священников, похожих на громадных сонных мух, ползающих по лицу Рима! Во всяком
случае, они понимают (это сразу видно; если бы ты знал их так же хорошо, как я, ты
прочел бы это во взглядах, которыми они провожают нас, когда мы с тобой выходим и я
прощаюсь с ними через стеклянную дверь кухни),— они понимают, что совесть у нас
спокойна, по крайней мере, они думают, что спокойна (да нет же, я тебя не упрекаю,
я знаю, что ты сам так думаешь, во всяком случае, стараешься думать,— перестань
хмуриться, я сейчас порадую тебя — иногда — как бы мне хотелось сказать: все чаще и
чаще — тебе это удается; ну да, это правда, ты сделал успехи, я сослужила тебе кое-
какую службу за те два года, что мы живем вместе, пусть даже урывками: я помогла
тебе, признайся, стать похожим на того свободного и искреннего человека, каким ты
хочешь быть, несмотря ни на что — несмотря на твою жену, на детей, на твою
парижскую квартиру); Да Понте думают, что совесть у нас спокойна, и им все равно,
как мы этого достигаем — с помощью их индульгенций или каким-нибудь иным путем. Ах,
какую пользу принесло бы тебе их мудрое и скрытое пособничество!
И тут, наконец, она поцеловала тебя, как бы в изцемо-жении, потом высвободилась из
твоих объятий, закрыла дверь, снова скрипнувшую на петлях, и задвинула засов.
— Но если ты не решишься, не попросишь оставить комнату за тобой, они, конечно,
через несколько недель сдадут ее другому жильцу, через несколько педель, а может, и
дней...
— Когда он уезжает?
— Не то в четверг, не то в пятницу. О, я знаю, я говорила с тобой безрассудно:
я увлеклась, со мной это пе так уж часто случается. Я знаю, ты приедешь в следующий
раз и опять будешь уходить от меня среди ночи к себе в гостиницу, а за этой дверью
снова будет кто-то чужой. Ну, кажется, пора идти завтракать.
140
На Корсо царило обычное оживление; двери церкви Сант-Андреа-делла-Валле были
открыты, и узкие улочки позади нее кишели людьми, возвращавшимися после мессы,—
девушки в белых платьях, молодые люди в голубых костюмах, старые дамы в черном,
деловитые семинаристы с разноцветными поясами.
На площади Навона, где уже убрали столики, которые еще стояли, когда ты проходил
здесь в последний раз, спорили, сбившись в кучки, какие-то люди, а вокруг,
возвращая огромному продолговатому пространству площади ее первоначальное
назначение цирковой арены, мчались наперегонки три или четыре мотороллера, и на
каждом сидели два-три человека, которые смеялись и кричали.
Фонтан Четырех Рек искрился на солнце. Если бы не разлитая в воздухе прохлада,
можно было бы подумать, что сейчас август. Вы вошли в ресторан «Тре Скалини».
За окном, которое запотевает все сильнее, по-прежпему падает снег, только не такой
густой. Поезд минует какую-то станцию, название которой ты не успел рассмотреть.
Ты выпрямляешься на сиденье, разбитый и уже уставший, думая о том, что еще целую
ночь придется провести па этой жесткой скамье. Глядишь на часы: половина четвертого
— больше часа до границы и четырнадцать часов до прибытия в Рим. Поезд проезжает
короткий туннель.
Один из мальчиков собирается выйти, это тот, который постарше,— Анри, таким станет
Анри через год или два, только он будет лучше одет, и манеры у него будут лучше,
потому что ты лучше его воспитаешь; пожалуй, он не так статен, но дипломы, которые
он получит, избавят его от неуверенности в себе, и хотя ты разойдешься с его
матерью, это пе помешает вам встречаться, когда тебе заблагорассудится, когда
захочется вам обоим, а не в принудительном порядке, вечерами за ужином, как теперь,
когда вы обречены на тягостное и недружное совместное житье; это не помешает тебе
следить за его ученьем, а позже помогать ему на жизненном поприще и оказывать
всевозможную поддержку;
это не помешает сыну приходить к тебе в гости, когда ты поселишься вместе с Сесиль,
приходить к вам ужинать, и однажды, когда Анриетты не будет дома, он поведет тебя
на площадь Пантеона, номер пятнадцать, чтобы показать, как он обставил свою
комнату;
141
хотя ты разойдешься с его матерью, это не помешает тебе через какое-то время ее
навестить; от Сесиль ты это скроешь.
Вот еще один туннель, немного длиннее.
Постарайся сосредоточить свое внимание на предметах, которые у тебя перед глазами:
на ручке двери, на полочке, на багажной сетке, на снимке с видом гор, на зеркале,
на снимке парусников в порту, на пепельнице с крышкой, привинченной шурупами, на
свернутой шторе, на выключателе, на стоп-кране,
на людях, сидящих в купе: двух итальянских рабочих, синьоре Лоренцо Бриньоле, Аньес
и Пьере, которые уже позевывают, но вновь мужественно берутся за свои книги, на
лету обменявшись поцелуем в висок, на мальчугане, младшем из двоих, который
вытирает рукавом запотевшее стекло,
и положи конец этой душевной смуте, этому опасному занятию — перебирать и
пережевывать воспоминания;
постарайся думать не об Анри, а о том юноше, который вышел из купе, или о его
брате, сидящем у окна,— уж твой Тома никак не будет на него похож через несколько
лет; можешь окрестить его Андре, поскольку племянник вдовы сошел в Шамбери и это
имя свободно — Сант-Андреа-дел-ла-Валле,— тебе всегда нравилось это имя, и ты
наверняка дал бы его своему третьему сыну (но после рождения Жаклины ты больше не
захотел иметь детей); постарайся думать об этих двух мальчуганах, которые,
наверное, возвращаются в горы, в родную деревню, после того как провели неделю в
политехническом или, пожалуй, в коммерческом училище в Шамбери, неделя на сей раз
окончилась в пятницу среди дня — то ли потому, что у них в семье что-то случилось и
родители, позвонив утром в училище по телефону, просили сыновей вернуться домой, то
ли потому, что мальчики вообще возвращаются домой каждый вечер, а сегодня
преподаватель заболел и вечерние занятия отменены.
Вот еще один туннель; на потолке зажигается лампочка.
Рабочий-итальянец, сидящий рядом с тобой, развязывает веревки своего рюкзака,
вынимает оттуда шкатулку и, открыв ее, показывает своему товарищу ожерелье из
черных стеклянных бусин — подарок жепе, а может, подружке. Ты пытаешься вслушаться
в их разговор, но они говорят на диалекте, который тебе незнаком.
142
Вот вернулся старший мальчик. Пейзажа больше не видно; перед тобой только стекла,
сначала темные, и на них — отражения, потому что поезд вошел в туннель, а потом
белые как снег.
Ну что ж, ступай в коридор и выкури там сигарету, время от времени протирая рукавом
запотевшее стекло и глядя в окно.
Ты берешь с полочки так и не раскрытую книгу и перекладываешь ее на сиденье.
VI
Пора возвращаться в купе: французская полиция с минуты на минуту начнет обход.
Раздавив окурок в пепельнице и удостоверившись, что у тебя осталось только восемь
сигарет, ты берешь книгу с сиденья и кладешь ее обратно на полочку. В каждом твоем
движении чувствуется, как напряжены твои нервы.
У синьора Лоренцо паспорт зеленый, у Аньес и Пьера паспорта новенькие, синие, с
твердой корочкой, у двух итальянских рабочих, пересевших на места мальчуганов,— уже
слегка потрепанные; но дольше всех прослужил, конечно, твой — старого образца,
коричневый, в мягкой обложке, он у тебя с 1950 года, и ты уже два раза его
продлевал.
Поезд остановился, духота стала еще нестерпимее. Ты знаешь, что это Модан; сквозь
затуманенные стекла ничего не видно, но вокруг, наверное, лежит снег.
Рассеянный таможенник-француз удалился, Аньес и Пьер с облегчением переглянулись.
Второй таможенник, итальянец в серо-зеленом мундире и облепленных засохшей грязью
ботинках, потребовал, чтобы рабочие открыли рюкзаки — рюкзаки лежат на местах, где
рабочие сидели прежде,— и вот перед тобой начинает расти груда рубашек, носков,
мелких сувениров, а синьор Лоренцо с отвращением наблюдает эту сцену, обмахиваясь,
словно веером, своим зеленым паспортом, на внутренней его стороне ты мельком видишь
фотографию, а над ней тебе удается прочитать вверх ногами имя: Этторе Карли.
Того, что сидит у окна, зовут Андреа, дальше ты разобрать не успел; фамилия второго
оканчивается на «етти».
Формальности позади, хлопают двери, раздается свисток, поезд, рванувшись с места,
тут же резко тормозит,
143
потом трогается снова, на сей раз по-настоящему — и входит в туннель Мон-Сени.
Свет внезапно гаснет; воцаряются полный мрак — если пе считать красной точки
сигареты в коридоре да почти неразличимого ее отсвета — и тишина, подчеркнутая
громким дыханием, какое бывает у спящих, и перестуком колес, отдающимся под
невидимым сводом.
Ты смотришь на зеленоватые стрелки своих часов и точки на циферблате: еще только
четырнадцать минут шестого; как бы это не кончилось катастрофой — тебе вдруг
становится страшно,— как бы это не кончилось катастрофой для тебя и крахом смелого
решения, которое ты, наконец, принял; ведь ты еще больше двенадцати часов — если не
считать кратчайших передышек,— будешь прикован к этому месту, где отныне тебе нет
покоя, где ты обречен на самоистязание, еще двенадцать часов будешь терпеть
душевную пытку, прежде чем приедешь в Рим.
Снова зажегся свет, опять завязались разговоры, но шум и головная боль отгораживают
тебя от них все более глухой перегородкой; стекла мало-помалу окрашиваются в серый
цвет, потом внезапно становятся белыми. И вдруг сквозь прозрачное отверстие,
которое в середине окошка расчистил платком Пьер, ты видишь краешек проносящегося
мимо вокзала — должно быть, это Бардонечча,— да и по ту сторону прохода тоже
проступают очертания какого-то пейзажа, хотя мутные, запотевшие стекла скрадывают
размеры гор, вырисовывающихся на фоне неба.
Во вторник, измученный поездкой в третьем классе, ты откроешь своим ключом дверь
квартиры в доме номер пятнадцать на площади Пантеона и увидишь поджидающую тебя за
шитьем Анриетту, она спросит, как прошла поездка, и ты ответишь ей: «Как обычно».
Но тут-то тебе и нужно быть начеку, чтобы не выдать себя, потому что она вопьется в
тебя взглядом, и, конечно же, нечего и надеяться, что она поверит твоему ответу:
ведь она уже поняла, что эта поездка была далеко не обычная. Удастся ли тебе скрыть
от нее улыбку торжества и хоть до некоторой степени оставить ее в неведении, в
сомнении относительно того, что же все-таки па самом деле произошло и какое решение
ты принял? Это необходимо; необходимо — так гораздо надежнее.
144
Во вторник ты вернешься в Париж, в дом номер пятнадцать на площади Пантеона, и,
едва увидев тебя, она поймет, что твои надежды и ее опасения вот-вот сбудутся;
говорить ничего не придется, но и скрыть ничего не удастся, и тут-то она изо всех
сил постарается вытянуть из тебя подробности, она спросит, когда приедет Сесиль, а
ты и сам не знаешь, в эту минуту еще не будешь знать, ты скажешь ей, что не знаешь,
и это будет чистая правда, но она тебе не поверит, она изведет тебя вопросами,
высказанными и невысказанными, и избавиться от всего этого можно будет лишь одним
способом — объяснить ей по порядку, как все произошло.
Конечно, было бы куда лучше, если б она ничего не знала, ни о чем не догадывалась
до приезда Сесиль, но так как она узнает...
Во вторник ты увидишь Анриетту, поджидающую тебя за шитьем, и скажешь ей еще
прежде, чем она успеет о чем-нибудь спросить: «Я тебе солгал, ты и сама, конечно,
догадалась, на этот раз я ездил в Рим не по делам «Скабелли», потому-то я и выехал
поездом восемь десять, а не другим, самым скорым и удобным, где нет вагонов
третьего класса; на этот раз я поехал в Рим только ради Сесиль, чтобы доказать ей,
что из вас двоих я окончательно выбрал ее, объявить ей, что я, наконец, нашел для
нее работу в Париже, и просить ее приехать: пусть она все время будет со мной,
пусть внесет в мою жизнь ту необы-денность, какую не сумела внести ты,— впрочем, и
я не сумел сделать это для тебя, признаюсь, я виноват перед тобой, спорить не о
чем, я готов принять, признать справедливыми все твои упреки, взять на себя любую
вину, если это хоть немного тебя утешит, смягчит удар, но теперь уже поздно, дело
сделано, изменить я ничего не могу, поездка состоялась, Сесиль скоро будет здесь;
ты сама понимаешь, я для тебя не такая большая потеря, а значит, не нужно так
горько плакать...»
Но ты прекрасно знаешь, что Анриетта и пе подумает плакать, она будет молча глядеть
на тебя, предоставит тебе разглагольствовать, ни разу тебя не перебьет, и,
выдохшись, ты замолчишь сам; вот тут-то ты и заметишь, что ты у себя в комнате, что
она уже в постели и занята шитьем, что уже поздно, а ты устал с дороги и на улице
дождь...
Во вторник ты войдешь в ее комнату, расскажешь ей правду о поездке и добавишь: «Я
ездил в Рим, чтобы до-
145
казать Сесиль, что из вас двоих я выбрал ее, я ездил туда, чтобы просить ее
окончательно перебраться ко мне в Париж...»
И тут где-то в глубине души ты вдруг слышишь свой собственный голос, испуганный и
жалобный: «Нет, нет, я с таким трудом принял это решение, нельзя допустить, чтобы
оно бесславно рухнуло; недаром же я сижу сейчас в поезде, который мчит меня к моей
прекрасной Сесиль; моя воля, мои желания были так тверды... Надо перестать думать,
надо овладеть собой, взять себя в руки и гнать прочь неотступно осаждающие меня
видения».
Но уже поздно, неотвратимый ход поезда разматывает их вереницу, приводит в движение
цепь, которая стала еще прочнее за время пути, и как ты ни пытаешься освободиться
от этих видений, направить свое внимание в другую сторону, к тому решению, которое
— ты чувствуешь — ускользает от тебя, они втягивают тебя в зубья своих шестерен.
Тот, кого ты мысленно зовешь Пьером и настоящее имя которого ты не успел разглядеть
в паспорте, больше не смотрит в окно, потому что начался туннель, и шум длинного
состава, уносящего тебя вдаль, вновь становится глуше, точно он рождается в твоем
собственном теле; за окном больше не видно ничего, кроме смутного отражения
окружающих тебя предметов и лиц.
Было четырнадцать часов тридцать пять минут; в здание вокзала Термини с левой
стороны проникали лучи солнца. Ни завтра, ни послезавтра, ни в понедельник нечего и
надеяться на такую теплую и ясную погоду. Это была последняя улыбка лета, придающая
особую торжественность и величавость и без того роскошной римской осени, которая
вот-вот начнет блекнуть. Как пловец, после долгого перерыва вновь увидевший
Средиземное море, ты окунулся в город и прошел пешком, с чемоданом в руках, до
самого отеля «Квиринале», где тебя встретили услужливые улыбки коридорных.
В тот раз ты приехал не в отпуск: на три часа была назначена деловая встреча у
Скабелли, к половине седьмого она еще не закончилась, потом тебе не удалось
уклониться от приглашения выпить вина на одной из террас улицы Витторио Венето —
преступление, мол, не воспользоваться та-
146
кой прекрасной погодой,— а тем временем Сесиль ждала тебя, потому что в тот раз,
как всегда, отправляясь в командировку, ты сообщил ей о своем приезде и назначил
свидание в маленьком баре на площади Фарнезе после окончания ее работы в
посольстве, но обыкновенно ты являлся туда раньше ее, в шесть часов.
Придя, наконец, в бар, ты, разумеется, ее уже не застал.
— Нет, вам ничего не передавали; дама, с которой вы обычно приходите, заходила,
но ненадолго, и никто не видел, в какую сторону она пошла.
На улице Монте-делла-Фарина ее окно было освещено. Тебе открыла старая госпожа Да
Понте и сразу закричала:
— Signora, signora, ё il signore francese, il cugino l.
— A-а! Вот и ты наконец! Я уже думала, не отложил ли ты поездку, не случилось
ли чего.
Она еще не успела снять пальто, вы тут же снова вышли из дома и поцеловались на
темной лестнице.
Сесиль вела тебя в маленький ресторанчик в Трасте-вере, им увлекались тогда ее
сослуживцы, и ей хотелось самой убедиться в его достоинствах, но путь через остров
Тиберино был явно не самый короткий, вы заблудились в узких улочках, и потому,
проводив Сесиль до дому, ты уже не мог подняться к ней.
Вот и кончился туннель, поезд начинает громыхать резче, но уже почти совсем
стемнело, и ты замечаешь, как за окнами, снова почти прозрачными, в горах на разных
уровнях один за другим зажигаются огоньки. Тебе чудится, будто ромбы отопительного
мата на полу — это решетка, сквозь которую пышет жаром невидимая печь.
Тогда, как и сейчас, стояла поздняя осень; было темно, и лил дождь; вы молча вышли
вдвоем с Лионского вокзала, оба уставшие и продрогшие после поездки, которая
тянулась слишком долго.
На стоянке толпилось столько народу, что вам пришлось какое-то время дожидаться
такси. Нет, не так представляла она себе радостную встречу с городом, с твоим
1 Синьора, синьора, приехал француз, ваш двоюродный брат ( ит.).
147
городом, встречу, которой она так ждала; ей так хотелось еще раз побывать в этом
городе, а ты был для нее его посланцем и чуть ли не властелином,— конечно, она
почувствовала разочарование, увидев, как ты вдруг затерялся в толпе, едва возникли
первые ничтожные, но докучные затруднения, а она-то полагала, что само твое
присутствие оградит ее от них.
Ты проводил Сесиль до гостиницы, которую выбрал для нее в Латинском квартале,—
разумеется, подальше от площади Пантеона, чтобы Анриетта пореже встречала ее; это
была очень тихая и довольно комфортабельная гостиница на улице Одеон.
Вначале вы думали, что она поднимется к себе в номер, наскоро освежится, опять
спустится к тебе и вы проведете остаток вечера вместе в каком-нибудь уютном кафе в
районе Сен-Жермен-де-Пре, но ей уже ничего не хотелось, да и ты тоже переоценил
свои силы и свой пыл, и вы простились на улице, договорившись встретиться завтра в
обеденный перерыв — на сей раз у твоей конторы.
Ты шел пешком, с чемоданом в руке вверх по улице Месье-ле-Пренс, и у тебя было
такое чувства, будто ты приехал в чужой город, никого тут не знаешь и бродишь в
поисках пристанища, и это отбросило тебя на много лет назад, к тем временам, когда
ты еще не был богат (если тебя можно назвать богатым), пе был женат, будто ты вдруг
сразу лишился всего, на чем зиждилось твое положение, твое благополучие, твоя
респектабельность, и улица показалась тебе необычайно длинной. Только преодолев
пустыню площади Пантеона и очутившись в лифте, ты перевел дух и обрел уверенность в
себе.
Анриетта, услышав, как ты поворачиваешь ключ в замке, вышла из гостиной, где она
сидела за шитьем.
— Твой поезд опоздал?
— Нет, просто пришлось проводить до гостиницы одну знакомую даму из Рима. Она
всегда очень любезно принимает меня; по-моему, будет невежливо, если мы ее не
пригласим к себе; она говорила, что очень хочет познакомиться с тобой, с детьми и
так далее. А что, если в один из ближайших вечеров... Она пробудет здесь недели
две. В понедельник и во вторник мы никого не ждем; я позвоню ей, спрошу, когда ей
удобнее, и сообщу тебе. Между прочим, я больше не буду ездить этим поездом, это
слишком утомительно, а времени я выгадываю очень мало — середину дня и обеденные
часы в Риме; я уже сказал
148
им: в другой раз, если им вздумается задержать меня в Риме до обеда, я отложу
отъезд на утро. Кстати, завтра к обеду меня не жди.
За стеклом, все более и более прозрачным, под небом, все более и более темным, в
горах и в низинах по деревням загорается все больше огней, но вот поезд ныряет в
туннель, и шум его вновь становится глухим. Теперь прямоугольник двери, возле
которой ты сидишь, ложится за окном на убегающие черные скалы.
Мотороллеры и трамваи разбудили тебя в тесном и шумном номере отеля «Квиринале». Ты
открыл ставни и стал ждать рассвета.
Дел у Скабелли оказалось немного; тебе без труда удалось точно в назначенный час
явиться в маленький бар на площади Фарнезе.
Один уик-энд вы как-то посвятили Борромини, еще один прошел под знаком Бернини,
другие были отданы Караваджо, Гвидо Рени, фрескам раннего средневековья, мозаикам
первых веков христианства, но чаще всего вы знакомились с тем или другим периодом
империи: с царствованием Константина (его триумфальной аркой, базиликой Максенция,
фрагментами его гигантской статуи в Капитолийском музее), с эпохами Антошшов,
Флавиев, Юлиев (их храмами, дворцами на Палатине, Золотым Домом Нерона), и,
рассматривая гигантские руины, разбросанные в разных местах города, ты пытался
представить себе памятники такими, какими они были в пору своей молодости,
вообразить Рим таким, каким он был в расцвете своей дерзкой отваги; поэтому вы
бродили вдвоем по Форуму не просто среди каких-то жалких камней, разбитых капителей
или внушительных кирпичных стен и цоколей, а окунались в мир ‘величественной грезы,
которая была дорога вам обоим и становилась все более осязаемой, реальной и
достоверной после каждой очередной прогулки.
Ваше паломничество, ваши поиски, ваши странствия вели вас от обелиска к обелиску,
но ты понимал: если вы будете изучать по порядку все, что предлагает Рим, то рано
или поздно вам придется проделать путь от одной церкви святого Павла до другой, от
одного храма святого Иоан-
149
на до другого, от святой Агнессы к святой Агнессе, от церкви святого Лаврентия к
его базилике, чтобы представить себе или, вернее, уловить, почувствовать и
воспринять образы, связанные с этими именами, ибо они, вне всякого сомнения, ведут
к удивительным открытиям, относящимся к тому самому христианскому миру, о котором
существует столь ложное представление, к миру, который все еще продолжает
разваливаться, гнить и обрушиваться на тебя,— миру, от обломков и тлена которого ты
пытаешься спастись в самой его столице, но ты не решался лишний раз заговорить об
этом с Сесиль, зная, что она не захочет тебя понять — из чисто римской суеверной
боязни заразиться.
В прошлом месяце целью ваших странствий был Пьетро Каваллини, а в минувшую пятницу
в маленьком баре на площади Фарнезе, где вы встретились, чтобы пойти пообедать на
Ларго Арджентина (в будний день ты не мог уходить особенно далеко), ты сказал, что
странно, как это вы оба, собирающие подобно Изиде и Гору по кусочкам тело своего
Озириса, до сих пор не пустились на розыски того, что осталось здесь от сделанного
Микеланджело, чтобы собрать воедино разрозненные следы его трудов в этом городе.
Она рассмеялась:
— Я вижу, к чему ты клонишь: ты имеешь в виду Сикстинскую капеллу; ты хочешь
хитростью заманить меня в ненавистный мне Ватикан. Да ведь это же раковая опухоль
на теле города, сосущая соки блистательной римской свободы, это просто-напросто
нелепо раззолоченное осиное гнездо. Не спорь, ты до мозга костей отравлен
христианством, глупейшим ханжеством; у последней римской кухарки куда меньше
предрассудков, чем у тебя. О, я так и знала, что в один прекрасный день ты об этом
заговоришь, но я слишком боюсь этой всепроникающей отравы, она уже отняла у меня
слишком многое, а теперь отнимает тебя,— я ни за что не сделаю такой глупости, я и
близко не подойду, а уж тем более с тобой, к этим проклятым стенам, где все будет
поощрять твое малодушие.
И при этом она была очаровательна, она смеялась над собой и над собственным гневом
и целовала тебя, чтобы увериться в своей власти, и было совершенно бесполезно
втолковывать ей, что она не права, и пытаться ее образумить.
150
— Но если тебе так хочется, мы можем посмотреть Моисея, а кстати, знаешь, в
капелле Сант-Андреа-делла-Валле, в двух шагах от моего дома, собраны старинные
копии главных скульптур Микеланджело*
Шум поезда меняется снова — значит, туннель кончился. Аньес постукивает пальцами по
узенькой металлической пластинке, на которой написано: «Е pericoloso sporgersi» и
подавляет долгий зевок. Мелькают освещенные окна контор, вывеска под фонарем —
вокзал Ульцио Клавьере.
Беретти или Перетти, а может, Черутти, нет, Черет-ти — на паспорте ты прочитал
именно «етти»,— извинившись, выходит, пропускает в коридоре женщину в длинном манто
из белого меха и в белоснежных изящных туфельках — вне всякого сомнения, итальянку,
— а его спутник Андреа, взяв рюкзак, лежавший возле тебя, кладет его к себе на
колени: как видно, он знает, чувствует, что ему скоро сходить, должно быть, оба
едут в Турин.
Аньес и Пьер берут у служащего ресторана в синей куртке два талончика на ужин в
первую смену, а ты — талончик на вторую смену, отчасти по привычке, отчасти для
того, чтобы не слишком долго тянулось время после ужина, пока не потушат верхний
свет, пока синеватая жемчужина внутри плафона не начнет рассеивать свои тусклые
успокаивающие лучи. Ты голоден, но тебя мутит; ты голоден, но тебе не хочется есть,
тебе следовало бы выпить вина или чего-нибудь покрепче; этот голод отчасти вызван
скукой и унынием, так что лучше подождать, пока ты по-настоящему проголодаешься.
Фазелли, то есть нет, Фазетти или Мазетти, извинившись, входит и садится рядом с
Андреа, потом кладет на колени свой рюкзак, стоявший между Пьером и Лоренцо,
который на этот раз не взял обеденного талончика, а стало быть, сойдет в Турине,
где его ждет жена — наверное, ровесница Анриетты; услышав, как в замке
поворачивается ключ, тот самый, что надет на одно кольцо со щипчр-ками (ими Лоренцо
в настоящую минуту приводит в порядок свои ногти), она опустит в кипящую воду
спагетти,— а может быть, его ждет и дочь, чуть постарше Мадлены
1 Высовываться опасно (ит.)4
151
(он наверняка женился раньше тебя), которая, наверное, уже причиняет ему огорчения.
Дочь, поджидая его, накрывает на стол, или нет, вернее, так: ее не окажется дома,
она ушла, сославшись на то, что обедает у подруги, хотя на самом деле сговорилась с
дружком, и мать заявила: «Вот погоди, пусть только отец вернется из Франции»,— и та
ударилась в слезы.
Канетти или Панетти, расстегнув один из кармашков рюкзака, вынимает оттуда нож,
хлеб и масло, передает ломоть Андреа, а тот разворачивает пакет, где лежит тонко
нарезанная кружками копченая колбаса.
Сейчас итальянцы слезут — все трое; шагая почти что в ногу, они вместе пройдут по
перрону до самого турникета, а там рабочие попрощаются с Лоренцо сердечно и шумно,
точно знакомы с ним много лет, потом их пути разойдутся, и, может быть, они никогда
в жизни больше не встретятся, а если случайно столкнутся на улице, не заметят друг
друга.
Завтра опоздавшая почта задержит синьора Лорепцо в конторе, он пойдет обедать не
раньше часа, заставив и секретаршу задержаться, чтобы отстукать ответные письма на
машинке «Скабелли» устаревшего образца, которую вот уже год секретарша просит
заменить, и оба будут злы друг на друга,— должно быть, в предвидении этой сцены да
еще от усталости и голода у него и вытянулось лицо, еще недавно совсем безмятежное.
Оглядев ногти, он прячет кольцо со щипчиками в карман и потом поднимает на тебя
взгляд, чуть настороженный, словно ты напоминаешь его директора, словно он
опасается, что ты превратно истолкуешь его невинную заботу о своей внешности.
(Может, он что-то скрывает, и ему показалось, что он себя выдал. Может, он так
тщательно приводил в порядок свои руки не ради жены, а ради другой женщины, она
ждет его у турникета, и он пойдет с ней обедать в какой-нибудь ресторан на площади
Сан-Карло.)
И вдруг в устремленном на тебя взгляде ты‘4'йтДО*ць недоумение и нечто вроде
жалости, словно это твое лица изменилось, словно ты осунулся и глаза у тебя
блуждают, словно ты постарел на много лет с той минуты, когда он ц последний раз
внимательно всматривался в тебя; он отворачивается.
Официант из вагона-ресторана звонит в колокольчик, сталкиваясь в проходе с
согбенной женщиной в черном, с
152
итальянкой, похожей на тощую Сивиллу Кумскую, на старую госпожу Да Понте. Пьер
захлопывает книгу, которую уже давно не читает, встает и, поправив перед зеркалом
галстук, перешагивает через твои ноги.
В сгущающемся мраке мелькает освещенный вокзал Буссолино. Теперь выходит и Аньес.
Поезд углубляется в туннель, и его громыхание становится глуше.
Расплатившись в баре на площади Фарпезе, ты обернулся к ней и сказал:
— Может, мы успеем сходить туда еще до обеда.— Но когда вы добрались до Корсо,
двери величавой церкви Сант-Андреа-делла-Валле были закрыты, вам удалось попасть
туда только вечером, и в капелле было так темно, что вы, можно считать, ничего не
увидели.
Солнце уже зашло; поднялся холодный ветер, завивавший на мостовой клубы лиловой
пыли; вы торопились, чтобы попасть в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи до ужина: ты
считал, что это самое подходящее время. Ты помнил, что видел Моисея (уж не в тот ли
раз, когда ездил с Анриеттой?) почти в полном мраке, только он один был освещен, и
так резко, что его рога и в самом деле казались лучами света.
Главный вход был заперт, на Рим опускалась ночь, звезды загорались над Ватиканом,
над зыбким маревом, поднимавшимся от улиц, где среди темнеющих крыш вспыхивали
лампы и неоновые вывески, и над многоголосым гулом, в котором слышался скрежет
тормозов и громыханье трамваев, а из-за закрытых дверей плыли звуки органа и
приглушенные песнопения, это означало, что в храме идет служба.
Вы обогнули церковь, миновали монастырский сад; шла вечерняя служба — освящение
святых даров,— алтарь был озарен свечами и электрическими лампочками; курился
ладан, в глубине нефа коленопреклоненные женщины бормотали молитвы; в церкви было
много иностранцев, опи, стоя, разглядывали Моисея, его мраморная поверхность,
казалось, лоснится от масла или растопленного желтого сала, как у статуи какого-
нибудь древнеримского бога.
Сесиль потянула тебя за руку, и вы снова очутились на унылой улице Кавура.
— Лучше придем сюда снова завтра,— сказала она,
— Но ведь нам еще так много надо посмотреть.
153
— Что же именно, если не считать — а мы их считать не будем — твоих пророков,
сивилл, «Страшный Суд» и «Сотворение мира»?
— Ну хотя бы церковь Санта-Мария-дельи-Анджели возле терм Диоклетиана и
Картезианский монастырь.
— Там, где эта ужасная статуя святого Бруно работы какого-то француза?
— Гудона. Его, конечно, лучше смотреть в Париже. Но, кстати, святой Бруно —
один из самых трогательных святых во всем мировом искусстве.
— Ну, а если отрешиться от искусства?
— Не знаю, сам святой мне не внушает доверия,
— Зато другие святые тебе его внушают: ты должен как от чумы бежать от
освящения святых даров или уж однажды пойти полюбоваться этой службой в твой
любимый великий собор святого Петра, насладиться, проникнуться ею и раз и навсегда
излечиться от недуга; только не рассчитывай, что я пойду с тобой, я буду ждать в
траттории, должен же ты подкрепить свои силы после такого жестокого испытания, а
потом, когда тебе будут грезиться гигантские святые Бруно, я буду охранять твой сон
— увы, только часть ночи... Поцелуй меня*
— Не здесь. В пиццерии.
За столиком играли в тарок рабочие, один уже был изрядно пьян.
— И еще мы должны посмотреть «Христа у крестного древа», кажется, это в церкви
Санта-Мария-сопра-Минер-ва, единственной готической церкви в Риме.
— Это одна из самых уродливых церквей в мире; она в нашем квартале, мы можем
пойти туда от дворца Фар-незе.
— А потом позавтракаем где-нибудь возле Порта Пиа, но там только одна сторона
ворот работы самого Микеланджело.
— Мы все это проверим по моему довоенному синему путеводителю; но есть еще одна
его вещь — «Пьета», ее я никогда не видела — это на какой-то вилле, довольно далеко
отсюда,— ты не помнишь?
Наутро вы взяли такси и поехали на виллу Сан-Севе-рино, по, очутившись у ее дверей,
обнаружили, что она открыта только по понедельникам от десяти до двенадцати.
Так у вас оказалось сколько угодно времени, чтобы без помех рассмотреть Моисея в
церкви Сан-Пьетро-ин-Вин-коли — задолго до начала вечерней службы, задолго до
154
захода солнца, вдвоем в безлюдном и очень холодном нефе, при полупотушенном
прожекторе; статуя казалась привидением на чердаке, но беда была не в том: переходя
с места на место, от произведения к произведению, ты чувствовал, что тебе недостает
чего-то главного, чего ты не мог увидеть из-за Сесиль, и хотя ты не говорил ей ни
слова, ты знал, что и она об этом думает, и вас обоих преследуют эти пророки и
сивиллы, этот не увиденный вами «Страшный Суд»; понимая бессмысленность вашей
нынешней прогулки, вы оба молчали, вам было ни к чему признаваться друг другу в
вашем общем разочаровании, говорить вслух: «Да, да, Моисей, но ведь кроме него...»
— потому что вы оба слишком хорошо знали, что еще есть в Риме, кроме Моисея, и с
горечью стыда и боли ощущали собственную трусость — другого названия это не
заслужи-вало,— и даже если перед запертой дверью виллы Сан-Северино вы оба в первую
минуту не сдержали досады, вы тут же подавили ее, слишком хорошо понимая, что, как
бы пи потрясала «Пьета», она не в силах спасти положение, заполнить пустоту.
Потом Сесиль занималась стряпней на Монте-делла-Фарина, а ты, растянувшись на
диване, перелистывал номер журнала «Эпока», и она обернулась к тебе, вытирая руки
полотенцем с трехцветной полоской.
— В иные дни мне до того тошно глядеть на Рим..,
— Когда у тебя отпуск?
— Вот именно — все только во время отпуска; в этой комнате ты бываешь только в
свободные часы, а в Рим приезжаешь только ради «Скабелли», вот и сейчас ты
вернешься в свою гостиницу. Если бы я хоть могла тебе верить, если бы ты дал мне
хоть какое-то доказательство...
(Для того чтобы дать ей это доказательство, ты и выехал сегодня утром поездом
восемь десять.) А потом вы оба легли, потушили лампу, ты изредка поглядывал на
светящиеся цифры часов у себя на руке, и она шепнула:
— Приходи завтра утром пораньше, я приготовлю чай и поджарю хлеб.— И ты закрыл
ей рот поцелуем, а наутро забыл о ее приглашении.
За окном поверхность земли теперь так же черна, как ее недра (поезд грохочет уже
иначе, чем в туннеле), а на небе теперь видны только редкие зеленоватые просветы,
155
редкие облака, которые еще можно различить, и между ними кое-где поблескивают
звезды, а на холмах — огоньки домов и на дорогах — фары машин.
В Париже, куда Сесиль приехала в отпуск (а у тебя тогда отпуска не было), примерно
в ту же пору, что сейчас, отсидев в конторе томительные часы до полудня, точно ты
не директор, а рядовой служащий, ты встретился с нею внизу, где она ждала тебя под
дождем в светло-желтом плаще с капюшоном, засунув руки в карманы и поставив ноги
так, чтобы на них не текло с плаща.
— Ну и погода!
— Ты не хочешь меня поцеловать?
— Не здесь, дорогая, не в этом квартале. Я в отчаянии, что тебе пришлось стоять
под дождем. В другой раз...
— Пустяки! В другой раз ты вынужден будешь обедать с женой...
— Не каждый же день.
— Почти каждый.
— Не только с женой; у меня будут и деловые встречи, как в Риме.
— Тем меньше останется на мою долю.
— Ты же пробудешь здесь две недели...
— Они промелькнут быстро, я знаю. Мы опять сядем в поезд...
— Не думай об этом заранее. Куда мы пойдем?
— Здесь ты — мой гид.
— У нас слишком большой выбор. Что ты предпочитаешь?
— Решай сам, мне хочется, чтобы для меня это было сюрпризом.
— А какой берег — правый или левый?
— Правый берег — это твоя служба, левый берег — это твоя жеиа, выбрать нелегко.
— Тогда поедем на острова. Не знаю, что там есть, по что-пибудь мы наверняка
найдем. А вот и такси.
Справа сквозь влажное от дождя стекло, за повернутым к тебе в профиль лицом Сесиль
— оно понемногу смягчалось — ты увидел проплывавшие мимо ворота Лувра, за ними
Триумфальную арку на площади Карусель и вдалеке, смутно — Обелиск на площади
Согласия, а потом, когда вы поехали берегом Сены, над крышами домов — серые башни
собора Парижской богоматери,
156
Вы устроились в маленьком, выходящем на набережную ресторанчике, где столики были
покрыты скатертями в белую и красную клетку.
— Я говорил о тебе с Анриеттой...
— Что?!
— Да нет, я ей ничего не сказал, не волнуйся. Просто я подумал, что тебе
любопытно познакомиться с нею, увидеть мой дом, детей, и потом — мы ведь решили,—
раз уж все равно когда-нибудь ей придется сказать... Придется ведь, правда?
— Да, конечно, придется.
— А раз все равно придется, так не воспользоваться ли случаем, не подготовить
ли ее исподволь, — ведь мы с тобой всегда говорили, что лучше обойтись без драм,
правда?
— Да, говорили.
— А значит, необходимо, чтобы вы познакомились. Увидишь, она тебе понравится;
все пройдет как нельзя лучше; она тоже тебя оценит, и все окажется гораздо проще в
тот день, когда придется ей сказать.
— Да, гораздо проще — для тебя.
— Зачем ты надо мной насмехаешься? Разве это мне пришло в голову? Я предпочел
бы скрыть, что ты находишься в Париже; это ты мне твердила, что не надо делать пз
мухи слона, что по сути все обстоит гораздо проще, что надо смотреть правде в
глаза, что я должен отделаться от моих старомодных взглядов: они-де навязаны мне
мещанским и религиозным воспитанием, и я от них никак не могу избавиться. Не ты ли
повторяла мне это сотни раз? Вот и я рассказал ей об одной даме из Рима, назвал
твою фамилию (впрочем, не помню точно, назвал или нет), объяснил, что многим тебе
обязан, что мы должны тебя пригласить, иначе это будет невежливо...
— И как она к этому отнеслась?
— Как отнеслась, не знаю. Но она предложила мне на выбор понедельник или
вторник, что тебе больше подойдет. Само собой, она что-то подозревает, но в то же
время ей любопытно, и, наверное, при ее религиозном и мещанском воспитании... ведь
это она воспитана в религиозном и мещанском духе, и она не стремится от него
избавиться, с годами он дает себя знать все сильпее, на все давит, все омрачает;
когда я с ней познакомился, она была другой, вот почему я не могу ее больше
выносить, и меня так тянет к тебе, потому что ты — мое освобождение,
157
ты ведь это знаешь; но в то же время я должен стараться щадить ее, насколько это
возможно, потому что у нас дети, потому что... да ты прекрасно знаешь почему, я за
то и люблю тебя, что ты все понимаешь, и ты сама же мне все это говорила, для тебя
все это просто, и для меня просто, когда я с тобой, а с ней... О, она ничего не
говорит, особенно сейчас,— ничего, да ей и не надо ничего говорить, но с ней все
так нелепо, так безнадежно усложняется, ты понимаешь, о чем я?
— Конечно, понимаю.
— Зачем же ты вызываешь меня на эти мучительные объяснения? Само собой, если ты
не хочешь приходить — нет ничего проще. Она не станет делать из мухи слона.
— Да нет, я хочу прийти, хочу увидеть твой дом, окна, которые выходят на купол
Пантеона, обстановку, которая тебя окружает, твои книги, твоих детей, твою жену,
конечно, я хочу воочию увидеть, какое у нее лицо, и понять, что кроется за ее
молчанием, за ее презрительной застывшей улыбкой, которую ты мне описывал, хоть и
не часто (ты ведь не часто рассказываешь мне об этом в Риме, ты как-то отстраняешь
все, что составляет твою парижскую жизнь, словно хочешь доказать, что ее не
существует, по крайней мере для меня, словно хочешь быть в моих глазах только тем,
кого я вижу перед собой, увы, очень редко) — хоть и не часто, но в таких словах, с
такими недомолвками и так тебя при этом передергивало, что эта улыбка из головы у
меня не выходит, я хочу узнать, какова же она, эта женщина, за которую ты так
держишься.
— Не ревнуй, у тебя нет никаких оснований.
— Я и не ревную; как я могу ревновать, когда я знаю, что со мной ты молодеешь,
мне довольно видеть тебя в Риме и видеть, каким ты становишься здесь, в Париже. Я
не ревную, раз я решила вступить в схватку с чудовищем прямо в его логове.
— Это она-то чудовище? Несчастная, жалкая женщина, которая хочет, чтобы я
вместе с ней погряз в пучине скуки.
— Я приду к ней, к этой бедной женщине, можешь ей передать, приду в
понедельник; она меня примет, я хорошо сыграю свою роль, роль светской дамы,
которая держится очень просто, я полюбуюсь на нее, она на меня, мы будем любезны
друг с другом.
— Это ты будешь любезна.
158
— Мы обе будем любезны. Вот увидишь, я ее знаю. Я буду делать вид, будто
знакома с тобой весьма отдаленно, будто ты и в самом деле чем-то мне обязан,
— И она ни о чем не догадается?
— Она сделает вид, что нет.
— Только не надо смеяться.
— Тебе не захочется смеяться. Ты не почувствуешь ни малейшего желания говорить
мне «ты». Хоть ты и называешься господин директор, на самом деле ты ребенок, во
всяком случае, когда ты со мной, за это я и люблю тебя, мне хотелось сделать из
тебя мужчину, твоей жене это не удалось, хотя с первого взгляда этого и не
скажешь... Она добилась лишь того, что в тебе появилось'что-то старческое, а ты с
этим не желаешь мириться, и ты прав. Ты предоставишь нам свободу действий. Мы будем
вести себя безукоризненно. Все пройдет как нельзя лучше. Вот увидишь, она мне
понравится. Она тоже меня оценит. Ты будешь сидеть как на раскаленных угольях, а мы
будем говорить друг другу любезности. Под конец я скажу ей, что провела у вас
прелестный вечер, она пригласит меня заходить еще, я приму приглашение. Видишь, ты
зря опасался, я не питаю к ней ненависти. Да и с чего ты взял, что я ее ненавижу?
— Стало быть, решено — в понедельник?
— В понедельник.
Больше говорить было не о чем. Оставалось лишь ждать предстоящей встречи. А пока
пора было приступать к закускам, вам их давно уже подали. Тебе надо было
торопиться, время истекало. Жуя маслины, ты смотрел сквозь стекло, как дождь
барабанит по большой черной машине, за которой виднеется абсида собора Парижской
богоматери.
Ромбы отопительного мата волнообразно выгибаются, точно чешуйки на коже громадной
змеи. Только огоньки домов на равнине, автомобилей и вокзалов видны теперь сквозь
отражение в стекле, они проносятся беглыми бликами, прошивая зеркальное отражение
купе и в нем профиль итальянского рабочего —г того, что помоложе.
Наконец перед самой Генуей небо над Средиземпым морем прояснилось после тусклого,
холодного рассвета, после мучительной ночи, к исходу которой у тебя затекли
159
руки и ноги, всю эту ночь вы ехали под проливным дождем через римскую Кампанью, где
не видно было ни единого огонька, если не считать мелькавших время от времени
станций, почти совсем пустынных — только сновали взад и вперед какие-то тележки да
что-то выкрикивали, помахивая мерцающими фонарями, невидимые или удалявшиеся по
мокрой платформе люди,— всю эту ночь ты, что называется, не сомкнул глаз, то и дело
поглядывая на часы, подсчитывал, сколько еще осталось до рассвета, до французской
границы, до следующей ночи, до прибытия в Париж, до той минуты, когда ты, наконец,
сможешь лечь в свою постель на площади Пантеона, номер пятнадцать, и бормотал про
себя одно за другим названия станций, которые ты помнил чуть ли не наизусть,— по
крайней мере, главные из них, где поезд делал остановки, и другие, с которыми были
связаны хотя бы ничтожные личные ассоциации, или какие-нибудь события мировой
истории, или памятники,— и наблюдал за беспокойно ворочавшейся во сне Анриеттой,
которая понемногу придвинулась, прижалась к тебе, чтобы согреться, уронила голову
тебе на плечо,— глядел на ее волосы и гладил их, как не гладил уже давно, пожалуй,
с самой войны, как мечтал ласкать ее в залитом солнцем Риме, когда вы впервые,
много лет назад, заговорили об этой поездке,— и, лаская ее, думал, что отныне,
пожалуй, только когда она спит, ты можешь ощущать ее по-настоящему своей,
действительно быть с ней рядом, что после этой злополучной поездки, после этой
неудачной попытки повторить свадебное путешествие между вами встал, разделяя вас
своей громадой, Рим, который должен был вас сблизить,— Рим, к которому ты испытывал
такое жгучее влечение, никогда еще не овладевавшее тобой с такою силой, как теперь,
когда ты от него удалялся, лишаясь его, разлученный с ним этой женщиной, которую ты
ласкал с ненавистью,— Рим, который ты так жаждал узнать и постичь, с тех пор как
эта женщина, забывшаяся тревожным сном и что-то жалобно бормотавшая у тебя на
плече, открыла тебе, что ты ничего не можешь о нем сказать; она жалобно сетовала на
свое горькое разочарование, но, конечно, не способна была тебе помочь, потому что в
этой области, где она все больше и больше чувствовала себя чужой, она возлагала все
надежды на тебя, ожидая, что ты откроешь ей дорогу в Рим и там она вновь обретет
тебя таким, каким знала когда-то, в пору вашей первой довоенной поездки вдвоем.
160
Наконец небо прояснилось, облака рассеялись — хотя дождь перестал уже после Пизы,
они по-прежнему нависали, низкие и тяжелые, как бывает в эту пору в Париже, и
искажали окрестный пейзаж и цвет совершенно гладко-г0 МОря,- и в притихшем купе,
где неумолчно звучали только басы колес, гудели рельсы да неумолчно дребезжали
плохо привинченные металлические предметы, все пассажиры стали открывать глаза,
разминать руки, вертеть головой и приглаживать взъерошенные волосы.
Наконец острые лучи зимнего солнца пробились сквозь слой свалявшейся клочковатой
шерсти, наконец вы нарушили молчание, и она сказала тебе:
— Мы выбрали неудачное время для поездки в Рим.
Ты понимал, что она пытается найти тебе оправдание, как бы не желая упрекать тебя
за то, что ты умышленно выбрал неудачное время, чтобы отбить у нее охоту поехать
туда снова и мешать тебе еще раз, она старается вычеркнуть из памяти эти несколько
дней, понимая в глубине души, что это невозможно; крах, которым закончилась эта
поездка, и отчуждение, возникшее теперь между вамп, лишь подтверждали, подчеркивали
крах, к которому, по ее мнению, пришел ты сам и который она ставила тебе в вину,
равно как и отчуждение между вами,— она вот уже несколько лет ощущала его все
явственнее и надеялась, что его поможет преодолеть город, где, она угадывала,
укрылось твое былое, подлинное «я», но на беду оно существовало только в твоих
мечтах, теперь это было очевидно, а ты даже не стремился к тому, чтобы эти мечты
обрели плоть, так что она имела все основания тебя презирать.
Наконец в глубине ее глаз ты уловил обычную улыбку; она попыталась одним скачком
преодолеть пропасть, соединить края раны; она заговорила о Париже, о детях, которые
ждали вас у ее родителей; контакт налаживался, восстанавливался, привычный контакт,
который больше не устраивал ни тебя, ни ее, все же это было лучше, чем ничего, и
было важно, чтобы восстановился хотя бы он, потому что в ту пору ничего другого,
никакого выбора у тебя не было.
Вы проехали Турин,— и тот самый пейзаж, который теперь погружен во тьму, несколько
мгновений сверкал на солнце; сначала холмы, покрытые снегом, а следом за ними горы;
но по мере того, как, минуя туннели, вы поднимались все выше, стекла запотевали, а
потом покрылись
6 М.. Бютор и др.
161
изморозью, и широкий простор, долины и деревни, которые только что утонули в
сумерках, тогда исчезли за сплошным пологом белого леса, по которому какой-то
ребенок ногтем стал чертить буквы и лица.
По ту сторону границы, когда поезд миновал таможню, стекла вновь стали прозрачными,
но за ними лежал снег, потом на Юре пошел дождь, а в Маконе уже стемнело, и
километры тянулись так долго, что усталость снова одолела тебя, а лицо Анриетты
снова стало угрюмым.
Когда проезжали лес Фонтенбло, где Великий Ловчий кричал тебе: «В уме ли ты?» —
тебе вдруг неодолимо захотелось поскорее очутиться в Париже, в своей квартире, в
своей кровати! И когда вы оба, наконец, вытянулись под одеялом, она шепнула:
— Спасибо тебе, но я пальцем не могу шевельнуть от усталости, мы так долго
ехали.
Она повернулась на подушке и мгновенно уснула.
О, ты отлично знал: она благодарила тебя не за то, что ты возил ее в Рим, потому
что по сути дела ты так и не открыл ей дороги в Рим, а за то, что ты привез ее
обратно в Париж, где, если она и отдалится от тебя, теперь уже навсегда, у нее по
крайней мере останутся дети, привычная обстановка, привычные стены и привычный
уклад.
В дверях какой-то человек, старик с бородой, как у Иезекииля, резко повернув
голову, смотрит направо, потом налево, с минуту приглядывается к своему дрожащему в
стекле отражению, совершенно отчетливому и только кое-где пробитому плывущими вдали
огоньками.
Наступила суббота, и, конечно, для вас обоих было большой радостью увидеться,
поцеловать друг друга.
— Ну как, привыкаешь к своему Парижу?
— Я привыкла к нему уже на вторую ночь. По улицам хожу так уверенно, точно
никуда не уезжала. Конечно, за это время все изменилось, магазины выкрашены по-
новому, и часто они торгуют не тем, чем прежде: там, где была черная с серым
вывеска галантерейной лавки, теперь красная вывеска книжного магазина,— но мне все
кажется, что город просто принарядился ради встречи со мной.
— А я-то мечтал показать тебе все сам, открыть для тебя Париж, как ты
открываешь для меня Рим.
162
— Этого я и жду от тебя. .
— Но тебе ведь уже все знакомо.
— Я все забыла, мне надо все увидеть заново. Я вспоминаю улицы, только когда
они передо мной помолодевшие или постаревшие. Я уверена, что ты знаешь
замечательные места, куда я ни разу не заглядывала...
— Но как угадать — какие?
— Нелепый вопрос! Веди меня! Куда бы ты меня ни привел, я найду что-нибудь
такое, что любила прежде и о чем смутно тоскую в Риме, или что-нибудь новое, и у
ме-ня будет лишняя причина жалеть, что придется так быстро вернуться в Рим, ведь
когда тебя там нет, я чувствую себя одинокой, с тех пор как имела глупость
привязаться к тебе.
Стоял чудесный день бабьего лета, вы шли из центра по авеню Оперы.
— В Лувре есть новые залы, которых ты не видела, но не проводить же нам такой
день в музее.
— Но ведь мы с тобой никогда не упускаем случая лишний раз заглянуть на виллу
Боргезе и во дворец Бар-берини.
— Так то в Риме.
— По-моему, я должна вести себя в Париже так же, как ты в Риме.
— Тогда нам надо так же тщательно взяться за изучение Парижа.
— Ну что ж, значит, мне надо бывать здесь почаще, оставаться подольше или же
перебраться сюда совсем. А пока я полностью полагаюсь на твой вкус, повинуюсь
малейшим твоим желаниям. Когда ты был в этих залах в последпий раз?
— По меньшей мере год назад, а может, и два, не помню.
— А сегодня тебе захотелось пойти туда, потому что я здесь, но именно потому,
что я здесь, ты не решаешься пойти, боишься, что мне будет скучно, а ведь я не так
уж невосприимчива к живописи. Откуда этот неожиданный страх, это сомнение, точно я
вдруг стала тебе чужой? Ведь наши вкусы совпадают. В Риме ты говоришь мне тоном, не
допускающим возражений, и глаза твои горят так, точно нас ожидает небывалое
наслаждение, а тв<^й голос дрожит от восторга: «Во что бы то ни стало надо
посмотреть такую-то церковь, такие-то развалины, такой-то камень — он лежит посреди
поля или вмурован в стену дома»,— и я
6*
163
каждый раз следую за тобой не просто из покорности, а всей душой разделяя твой пыл.
— Но ведь здесь тебе нетрудно посмотреть все это и без меня.
— А почему тебе хочется, чтобы я видела это без тебя? Чем я тебе мешаю?
— А почему ты так сурово говоришь со мной, ведь я забочусь лишь о том, чтобы
доставить тебе побольше удовольствия. Неужели я должен тебе повторять, что ты
никогда не станешь для меня помехой?
— Никогда? Нигде?
— Мне мешает все остальное: Анриетта стоит между пами, даже когда ты здесь, в
Париже, рядом со мной. Если еще и ты будешь все усложнять, я никогда не смогу
чувствовать себя непринужденно!
И вот после обеда вы отправились осматривать луврские залы, не обмолвившись почти
ни словом и нарушив молчание лишь перед римской скульптурой, пейзажами Клода
Лоррена и двумя полотнами Паннини, которые вы любовно разобрали во всех
подробностях.
Только гораздо позже, давно расставшись с Сесиль и лежа в постели рядом с
Анриеттой, которая уже спала, ты сообразил вдруг, что вначале обещал повезти ее
завтра на машине за город, а потом совсем забыл о своем намерении и на прощанье
просто сказал ей: «До понедельника».
В понедельник она и не заикнулась об этом. Она была очень элегантна. Когда она
вошла в гостиную, обе женщины смерили друг друга взглядом, оглядели друг друга, как
два борца, готовые к схватке, и в ожидании взрыва, которого ты больше всего боялся,
рука твоя дрожала так сильно, что, разливая вино в стаканы, ты придерживал их, как
это рекомендуется в печатных меню вагона-ресторана, точно комната ходила ходуном,
точно в любую минуту можно было ожидать сильного толчка, резкого торможения у
платформы.
За столом вместе со взрослыми были только Мадлена и Анри (Тома и Жаклина пообедали
на кухне и уже легли спать), они смотрели на гостью, смотрели на тебя, восхищались
ею, не проронили ни звука, старались вести себя чинно, резалй мясо на маленькие
кусочки, жевали медленно, аккуратно вытирали губы, прежде чем поднести к ним
стакан; озадаченные твоей непривычной неловкостью, они угадывали, что для тебя эта
гостья — что-то совсем особое, что именно из-за нее ты в таком состоянии,
чувствовали,
164
что ты взволнован и напряжен; им тем сильнее передавалась твоя тревога, что они не
понимали ее причин.
Одна только Анриетта, казалось, ничего не замечала, она улыбалась, звонила,
отдавала приказания прислуге, не совершила за весь обед ни единой оплошности, в
любезности не уступала Сесиль и, в то время как ты молчал, говорила почти столько
же, сколько та, почти так же хорошо, как та,— о Риме, о своих поездках в Рим,
засыпала гостью множеством вопросов об ее родне, об ее квартире, об ее службе и
выведала у нее такие подробности, о которых ты даже не подозревал.
А взрыва, которого ты боялся, так и не произошло. И мало-помалу ты начал понимать,
что в их беседе была не только светскость, в их улыбках — не только притворство, в
их взаимном интересе — не только дипломатия, но что и на самом деле, очутившись
лицом к лицу, соперницы не ощутили друг к другу ненависти, они оценили друг друга и
почувствовали — это сквозило теперь в их взглядах — взаимное уважение: ведь у них
не было иной причины для вражды, кроме тебя самого, почти парализованного смятением
и немотой, и мало-помалу они перестали обращать на тебя внимание, стали забывать о
тебе, делая шаг за шагом друг другу навстречу, вступая в содружество, заключая союз
против тебя.
Ты с ужасом видел, как на твоих глазах происходит невероятное: Сесиль, твоя опора,
предавала тебя, переходила на сторону Анриетты; сквозь их обоюдную ревность стало
проступать нечто вроде общего презрения.
Тогда ты вмешался, надеясь положить конец этому жестокому сговору. Ах, опасность
была не в том, что, устав носить маску благопристойности, они могут вступить в
открытую борьбу, а в том, что эта маска сделается подлинным лицом Сесиль,
выражением ее подлинных чувств.
В стенах крепости, которой стала для Анриетты ваша квартира, она не уступила бы ни
одной из своих привилегий, а ты, приведя сюда ее соперницу, как раз и надеялся, что
она признает свое поражение и его неизбежность, увидев, как хороша, как молода, как
умна ее соперница и как животворно ее влияние на тебя. Но нет, Анриетта хоть и
презирала тебя, отступаться от тебя не желала.
Как быть, если ей удастся убедить Сесиль, что за тебя не стоит бороться, не стоит
вырывать тебя из ее когтей? А эта угроза возникала, пока еще едва заметной тенью,
но она неизбежно, неотвратимо стала бы расти, если бы две
165
жецщины пробыли вместе дольше. В конце концов Анриетта одержала бы победу, но не в
битве, не вступив в открытый бой, а влив отраву в душу своей соперницы, и это была
бы победа не над нею, а над тобой; отчаявшиеся и разочарованные, они вдвоем пошли
бы против тебя; заключив союз, вдвоем восторжествовали бы над тобой, развалиной,
мертвецом, который прикидывается живым и продолжает выполнять свои ничтожные,
отвратительные функции, и вдвоем в безмолвной ненависти оплакали бы крушение своих
надежд и лживость твоей любви.
Какую боль почувствовал ты, когда Анриетта, непринужденная и приветливая, уже на
площадке, пригласила Сесиль зайти к вам дня через три, а та согласилась с
горячностью, которая, увы, вне всякого сомнения, была искренней, что бы там ни
казалось самой Сесиль! Не мог же ты крикнуть ей: «Не соглашайся! Я пе хочу, чтобы
ты приходила сюда снова!» — а через несколько мгновений вы сидели в машине, ты вез
ее в гостиницу на улице Одеон, и все уже было решено, условлено, и обсуждать этот
вопрос было бесполезно.
— Пожалуйста, не считай, что ты обязана являться в четверг. Мы можем уклониться
под любым благовидным предлогом.
— Зачем же? В Париже нам с тобой не так легко встречаться, пожалуй, это самый
удобный способ. Ну, что я говорила: все прошло как нельзя лучше, мы расстались
друзьями, и я даже добилась того, что она меня снова пригласила, я считаю это своей
маленькой победой.
— Ты была великолепна.
— И она тоже — разве нет? Взгляды у нее куда шире, чем у тебя; и не обольщайся:
ты вовсе не так уже ей необходим. Это не ты, а она сама пригласила меня, и не для
того, чтобы доставить тебе удовольствие — вовсе нет; и не потому, что она тебя
боготворит и готова отказаться от тебя и целовать ноги той, которая тебя отнимает,—
а просто так, без всякой задней мысли. Неужели ты не понимаешь, что она
предоставляет тебе полную свободу?
Ты остановил машину; вы подъехали к гостинице.
Тебе хотелось ей сказать: «Сесиль, я люблю тебя, я хочу провести эту ночь с тобой»,
но нет, это было невозможно, ведь вы не в Риме; надо быЛо снять комнату заранее...
Она поцеловала тебя в люб. Она несколько раз приходила к вам в гости. Ты привык
видеть ее рядом с Анриеттой. Ты твердил себе, что это не имеет значения. Да у тебя
и
166
не было времени размышлять об этом. Пока все шло более или менее гладко,— разве не
это самое главное? В последнюю неделю вы ни разу не оставались с глазу на глаз; она
возобновила знакомство кое с кем из родни, а у тебя как на грех часы обеда и ужина
то и дело были заняты деловыми встречами.
Ромбы отопительного мата шевелятся, отступая друг от друга, и разделяющие их
бороздки кажутся трещинами, сквозь которые пробивается слепящее пламя; ромбы
топорщатся, щетинят свои острия, они расходятся в стороны, а потом поверхность мата
вновь становится ровной и черной, на ней подпрыгивают крошки, виднеются пятна,
грязные следы, раздавленные отстатки пищи, да под сиденьем дрожат обрывки брошенной
бумаги. Отражения в стекле все сильнее дробятся от огней, мелькающих за окнами
поезда; это предместье Турина. В глубине пока еще безлюдного прохода ты замечаешь
приближающуюся Аньес.
Синьор Лоренцо натягивает свое серое пальто, но два других итальянца, рабочие, по-
прежнему невозмутимо сидят на своих местах, держа на коленях завязанные рюкзаки, и,
скрестив на них руки, продолжают разговаривать и шутить.
Ты думаешь: «Прошел год; я забыл не о том, что мы ездили в Париж, а о подробностях
того, что тогда произошло, потому что вспоминал только о нашем возвращении, а когда
мы вернулись, все более или менее утряслось».
Синьор Лоренцо берет свой зеленый чемодан, засовывает в карман пальто газеты и
пропускает в купе Аньес,— та улыбается; Пьер, идущий за нею следом, пропускает в
дверях синьора Лоренцо.
Кишащая людьми платформа замедляет бег и вместе с ней — сверкающие рельсы, фонари,
темный свод, рекламные щиты, восхваляющие Турин, снующие с криками носильщики,
женщина, толкающая тележку о прохладительными напитками.
Тебе хочется пить, но ничего: скоро ты сможешь утолить жажду; тебе хочется есть, но
надо подождать звонка официанта, а он зазвонит с минуты на минуту, поскольку
молодые супруги уже вернулись.
Ты думаешь: «Я не знаю, что делать,— не знаю, что я делаю здесь, не знаю, что я ей
скажу; если она приедет в Париж, я ее потеряю; если она приедет в Париж, между нами
все будет кончено; если я устрою ее к Дюрье и каж-
167
дый день буду видеть из окна своей конторы, то потом, когда я брошу ее, ей будет
куда хуже, чем в Риме, где у нее все-таки много знакомых. Не падо об этом думать.
Пусть события идут своим чередом. Завтра утром я приеду, тогда посмотрим. Может,
все представится мне в ином свете. А сейчас надо думать только о том, что у меня
перед глазами, об этой вот женщине в проходе, которая поднимает свои чемоданы и
быстро передает их через окно кому-то, кого я не вижу. Холодно. Надо думать об этих
счастливых молодоженах, они только что пообедали, их лица раскраснелись от вина и
еды, и они вновь взялись за руки.
Как вам будет спаться нынче ночью, Аньес и Пьер? Интересно, сойдут ли сейчас эти
рабочие-итальянцы? Ведь если не будет новых пассажиров, вы сможете лечь на скамью;
для того, чтобы вам было удобнее, я готов даже, вернувшись из вагона-ресторана,
перебраться в другое купе. Поедете ли вы этим поездом до самых Сиракуз?
Какие счастливые дни вам предстоят! Вы будете прогуливаться вдвоем по берегу моря,
днем и ночью в полном согласии, в полном уважении друг к другу, в непрерывном
восторге, уверенные, что для каждого из вас наконец-то рухнула стена одиночества, а
я — что станется со мной в эти дни: в субботу, когда вы, наверное, еще будете в
пути, усталые, но счастливые, впервые увидите Неаполь, попытаетесь разглядеть
развалины Пестума, в воскресенье, когда вы, может быть, уже устроитесь в городе
тирапа Дионисия в изысканно простом отеле с окнами, выходящими в заросший зеленый
сад, и, наконец, в понедельник — что станется со мной, что я буду делать?
А когда вы вернетесь из этой поездки, когда вы окажетесь в Париже и суровая жизнь
вновь подомнет вас под свой тяжелый каток,— где вы поселитесь тогда? А через десять
лет что останется от вас, от этого согласия, от радости, не знающей пресыщения,
превращающей жизнь в чудесное питье, которое вы уже начали смаковать? Что останется
от всего этого, когда у вас появятся дети, когда ты, Пьер, сделаешь карьеру на
своем поприще, может быть, таком же нелепом, как мое, а может быть,— и того хуже,
когда в подчинении у тебя окажется энное количество служащих и ты будешь платить им
гроши, иначе дело пригорит (ну, а твое положение особое — ты им не чета!),— когда у
тебя появится квартира, о которой ты мечтаешь, на площади Пантеона, номер
пятнадцать? И сохранится ли в твоем взгляде, Аньес, прежняя заботливость или,
наобо-
168
рот, в пем появится то недоверие, которое мпе так хорошо знакомо, а в твоем, Пьер,
та внутренняя опустошенность, которую я замечаю каждое утро, глядя в зеркало во
время бритья, и от которой ты будешь освобождаться £Йшь на время, каждый раз всего
на несколько дней — несколько дней римской грезы,— и только с помощью какой-нибудь
Сесиль, которую ты не способен будешь перевезти в тот город, где сам живешь
постоянно?»
Входит старик с длинной белой бородой, как у Захарии, а за ним старуха с
крючковатым носом, похожая на сивиллу Персидскую.
Стало быть, Аньес и Пьеру не суждено остаться одним, и тебе придется смотреть, как
они спят в неудобной позе, а тебя самого будут одолевать мучительные сны,— тяжело,
со свистом дыша, они уже ломятся в ворота твоего черепа, наваливаются на ромбы
отопительного мата, которые еле сдерживают их напор, уже начинают поддаваться,
вспучиваются, и ты будешь барахтаться среди обрывков начертанного тобой плана, ты
считал его таким нерушимым, так тщательно продуманным и не подозревал, что под
действием пыли и крошек, под действием роя мелких событий, искусно разъедающих
поверхность твоей будничной жизни и того, что служит ее противовесом, неизбежно
откроются все щели, все трещины, и это отдаст тебя па растерзание дьяволам,
которыми одержим не только ты сам, но и весь род человеческий. Зачем в тебе вдруг
ожило это роковое воспоминание, ведь вы оба хотя бы некоторое время могли прожить в
неведении...
А этот Захария, эта сивилла, зачем они оказались в этом поезде? Какую они прожили
жизнь? Куда едут? Неужели до самого Рима за тобой будет следить их бессонный
взгляд?
Они внесли потертый черный чемодан; они сняли шляпы; наверное, он был когда-то
преподавателем, а может, банковским служащим. Наверное, у них были дети. Сын у них
погиб на войне. Они едут на крестины выучки. К путешествиям они не привыкли.
Боже, они собираются завести разговор! Только б оставили меня в покое! Только бы
поскорее прозвенел колокольчик!
Но они уже замолчали; сложили руки на животе и сидят прямо, две неподвижные фигуры
в черном.
А вот и колокольчик зазвенел; поезд все еще стоит. Ты кладешь книгу на сиденье и,
держась за дверной косяк, выходишь из купе.
169
Часть третья
VII
Нет, это было просто мимолетное недомогание; ты снова бодр, полон сил и еще
ощущаешь жар от выпитого вйна и коньяка и аромат последней выкуренной сигары, хотя
к тебе — очень кстати, впрочем,— подкрадывается дремота, потому что из
предосторожности, желая любой ценой избежать бессонницы, ты, против обыкновения, не
стал пить кофе; ведь если сети мыслей и воспоминаний снова опутают тебя, они могут
роковым образом изменить твои настроения и планы; хотя еще не прошло и временами
усиливается это подобие душевного головокружения, хотя есть еще эта потерянность,
это недомогание, вызванные путешествием, а тебе и в голову не приходило, что оно
выбьет тебя из колеи, впрочем, это лишь доказывает, что ты совсем не так стар, не
так безнадежно пресыщен и труслив, как тебе еще совсем недавно казалось.
Теперь в обществе шести ненавязчивых попутчиков — они по-прежнему сидят на своих
местах, но уже примолкли и больше не читают — старика, старухи, Аньес, Пьера и двух
рабочих-итальянцев, которых ты окрестил сам уже не помнишь как,— ты можешь
хладнокровно обдумать вопросы, о которых не хотел размышлять за ужином, для чего
пускался на различные уловки: то воображал, будто это обычная служебная поездка за
счет фирмы «Скабелли», и перебирал в памяти текущие дела, точно завтра утром тебе
предстоит их обсуждать в здании на Корсо, то, подобно повару или этнографу,
сосредоточенно смаковал блюда итальянской кухни, которую ты так любишь и которую
тебе сулят ближайшие дни — даже если они не сулят тебе ничего другого,— и
вслушивался в итальянскую речь за твоим и соседними столиками, потому что французов
в поезде уже почти нет, а те, что остались, притихли, устав после проведенного в
дороге дня,— вслушивался в звуча-
170
ние итальянского языка, который ты так любишь, хотя, к сожалению, очень плохо на
нем говоришь;
теперь, подкрепившись и отдохнув, ты могкешь обдумать все: свою поездку, решение,
которое ты принял, судьбу Сесиль и что надо сказать Анриетте; взвесить все об-
стоятельства спокойно, а не в той странной растерянности, которая сбила тебя с
толку, ослепила и завела в мрачный и постыдный тупик далеко от выбранного тобой
пути, лишая всякого смысла твое сегодняшнее существование и самый факт, что ты
сидишь здесь, на этом месте, занятом непрочитанной книгой;
а вся причина в том, что ты проголодался, устал и лишен привычных удобств; ведь ты
уже не в том возрасте, когда можно позволить себе юношеские прихоти (я не стар, я
решил начать жизнь сначала, силы вернулись ко мне, дурнота прошла);
вся причина в том, что твое «я» стало разрушаться и твое внешнее преуспеяние дало
трещины, настолько явные, что уже давным-давно пора было сделать решительный шаг,
настолько явные, что, как знать, еще несколько недель — и у тебя, быть может, уже
не нашлось бы необходимого мужества; доказательство — то, что еще недавно, да, да,
в этом самом купе, твои планы чуть было не рухнули;
хладнокровно, спокойно ты должен гнать от себя эти мысли; ведь все позади,
решительный шаг сделан, ты — здесь, повтори мысленно еще и еще: «Я еду в Рим
единственно ради Сесиль, и если вот сейчас я сяду на это место, то только ради нее,
только потому, что у меня достало мужества решиться на эту авантюру».
Так отчего же, едва ли отдавая себе в этом отчет, ты стоишь в дверях, покачиваясь в
такт движению поезда и стукаясь плечом о деревянный косяк? Отчего ты застыл точно
лунатик, остановленный на своем пути, и не решаешься вернуться в купе, словно
боишься, что прежние мысли вновь нахлынут на тебя, едва ты опять займешь место,
которое облюбовал в минуту отъезда, потому что считаешь его самым удобным?
Все пассажиры уставились на тебя, в окне купе ты видишь свое отражение — ты
покачиваешься, как пьяный, который вот-вот упадет, но тут из расступившихся облаков
показывается луна и смывает тебя.
Почему ты не прочел этой книги, раз уж ты купил се,— а вдруг она защитила бы тебя
от наваждения? Поче-
171
му даже теперь, сидя в купе и держа эту книгу в руках, ты не открываешь ее, пе
хочешь даже прочесть ее название,— а тем временем Пьер встает и выходит из купе, а
луна за стеклом поднимается и опускается,— почему ты уставился взглядом в переплет,
и обложка книги вдруг словно становится прозрачной, а скрытые под нею белые
страницы с вереницами букв, образующих слова, смысл которых тебе неизвестен, как бы
сами собой начинают переворачиваться?
И, однако, в этой книге, какая бы она ни была — ведь ты все равно ее не открыл и
даже теперь не полюбопытствовал, не взглянул, как она называется и кто ее автор,— в
этой книге, хотя она не смогла отвлечь тебя от тебя самого, оградить твое решение
от разъедающих воспоминаний, оградить видимость решения от всего, что ставит его
под угрозу, сводит на нет, хотя она не смогла спасти твои иллюзии;
в этой книге — а это роман, и ты купил его не наобум, это не просто первая
попавшаяся тебе под руку книга в бесчисленном множестве книг, которые выходят из
печати, она принадлежит к определенной категории изданий, па это указывало место,
какое она занимала на витрине вокзального киоска, и название, и имя автора, хотя в
данную минуту ты их забыл и они тебе ничего не говорят, но когда ты ее покупал, они
о чем-то тебе напомнили;
в книге, которую ты не прочел и пе прочтешь, теперь уже поздно;
в этой книге, ты это знаешь, есть персонажи, напоминающие людей, сменявших сегодня
друг друга у тебя в купе, описана обстановка и предметы, разговоры и переломные
моменты, и все это вместе составляет повествование;
в книге, которую ты купил, чтобы отвлечься, но не прочел потому, что, сев в поезд,
захотел раз в жизни быть во всем и до конца самим собой, и, значит, эта книга могла
бы заинтересовать тебя лишь в том случае, если бы ее сюжет настолько перекликался с
обстоятельствами твоей жизни, что ты нашел бы в ней твои собственные проблемы, но
тогда она не только не отвлекла бы тебя, пе только не спасла бы от гибели твои
планы, твои радужные надежды'; а наоборот: ускорила бы развязку;
в этой книге несомненно говорится — пусть скороговоркой, пусть неточно, пусть
поверхностно — о человеке, который попал в беду и хочет спастись, пускается в путь
и
172
вдруг обнаруживает, что выбранная им дорога ведет совсем не туда, куда он думал,
словно он заблудился в пустыне, в джунглях или в лесах, они сомкнулись позади него,
и он не может найти тропинку, по которой шел, потому что лианы и ветви скрыли следы
его пути, примятая трава распрямилась, а ветер стер отпечатки его ног на песке.
Ты смотришь на обложку книги, потом на свои руки и на манжеты рубашки, которую
надел только сегодня утром,— они уже загрязнились, а надеть свежую ты сможешь не
раньше, чем приедешь в Рим, не раньше, чем кончится эта ночь, этот путь, когда ты
будешь совершенно разбит усталостью, не раньше завтрашнего утра, а оно будет совсем
не таким, как ты предполагал, ну да, сколько бы ты ни повторял себе: «Все позади,
решительный шаг сделан»; хоть он и сделан, но не в том смысле, как ты предполагал,
когда садился в поезд,— шаг сделан в другом направлении: к отказу от
первоначального плана, который казался тебе таким простым и безусловным, к отказу
от лучезарного будущего, навстречу которому тебя мчал этот поезд, к отказу от жизни
в Париже, полной любви и счастья вдвоем с Сесиль;
ты должен спокойно и хладнокровно гнать опасные мысли из этого купе, куда только
что вернулся Пьер,— он сел возле Аньес, украдкой коснулся губами ее лба, поглядел
вокруг, а она опустила веки, ей хочется спать (но свет погасят еще не скоро), потом
он открыл итальянский разговорник и начал читать, и она тоже, беззвучно шевеля
губами, а синий путеводитель легонько подпрыгивает на сиденье, а старик Захария
вынул из жилетного кармана своего черного костюма большие серебряные часы, открыл
крышку, приложил к уху (непонятно, как он может расслышать их тиканье в шуме колес,
в грохоте поезда), потом посмотрел на циферблат (тебе видно, что часы показывают
еще только половину десятого), закрыл их, снова спрятал в карман, а двое рабочих-
итальянцев машут руками своему приятелю, который прошел по коридору и, выгибаясь
всем телом и подмигивая, поманил их, они встают, кладут на свои места рюкзаки,
пробираясь мимо тебя, бормочут «scusi, scusl» \ а едва оказавшись за дверью, сразу
начинают шумно болтать, идут по коридору и исчезают в другом купе.
1 Извините, извините (ит.).
173
Старуха итальяпка рядом с тобой сидит в прежней позе, скрестив руки па животе,
только губы ее слегка шевелятся, точно она бормочет про себя молитву, охраняющую от
опасностей, которые подстерегают путника, а ее стертые черты временами вдруг
заостряются, словно она произносит заклятья против демонов, притаившихся на
перекрестках дорог, при этом зрачки ее вдруг расширяются от ужа-са и сознания
обреченности, но потом она успокаивается, прикрывает веки, и губы ее шевелятся так
незаметно, что может показаться, будто это от покачивания вагона дергается ее
челюсть и чуть вздрагивают складки дряблой кожи.
В лице ее мужа, сидящего напротив, тоже что-то ожило; он смотрит на тебя, улыбается
в бороду, мысленно рассказывая себе какую-то историю, словно ты ему кого-то
напомнил, и вдруг в его старческих глазах вспыхивает жестокий и мстительный огонек,
словно он затаил на тебя горькую обиду.
Поезд проезжает Нови Лйгуре. Под стеклом плафона подрагивают лампочки. А по ту
сторону прохода ты видишь их колеблющееся отражение, которое, деформируясь, ложится
на черные склоны, испещренные огоньками окон.
Нет, ты не скажешь всего, не скажешь всего, что хотел сказать, тебе не удалось
подготовить все так тщательно, как ты хотел; наверное, вы назначите какие-то сроки,
но только не день, когда ты расстанешься с Анриеттой, как предполагал вначале, и
окончательно переберешься вместе с Сесиль в квартиру, которую ты присмотрел.
Конечно, между вами воцарится прежнее согласие, потому что ты приедешь в Рим ради
нее одной и расскажешь, что нашел для нее в Париже место, о котором она мечтала, но
это согласие будет только видимостью, оно будет до ужаса хрупкйк и ненадежным, и
ты-то сам вопреки всему будешь сознавать, насколько отдалился от нее; отныне тебя
все сильнее начнет точить тревога, ты с опаской будешь спрашивать себя, что ждет
вашу любовь, когда Сесиль приедет к тебе, прельстившись работой, которую ты ей
станешь расписывать, не жалея красок, и будет введена в заблуждение, попадется на
удочку твоих заверений и клятв, а ты будешь их повторять со щемящим чувством
счастья оттого, что ты снова с нею в Риме, что эти несколько дпей ты совершенно
свободен и полностью принадлежишь ей, с тем более страстным чувством, что ты
174
уже будешь понимать, как пенадежно будущее и какими оно чревато опасностями и
разочарованиями.
Кто-нибудь попросит погасить свет. После Чивита-Век-кии, проезжая берегом моря, ты
уже заранее и сполна почувствуешь бремя дорожной усталости, хотя большая часть
дороги еще впереди, но тебе не удастся заснуть, ты будешь вертеться, тщетно пытаясь
сесть поудобнее, вздрагивая и приподнимаясь на каждой остановке и безуспешно
отгоняя мрачные видения, которые будут все чернить и
издеваться над тобой.
В Генуе ты выйдешь из осточертевшего тебе купе третьего класса; будет еще темно,
лампа ночника будет по-прежнему отбрасывать синеватый свет на лица мужчин и женщин,
которые, раскрыв рот, тяжело дышат в тошнотворной духоте.
Когда ты вернешься в купе, резкий свет холодного дождливого утра уже вынудит твоих
спутников открыть глаза, и пока поезд будет взбираться по склону Альп, ты
попытаешься читать, чтобы отвлечься от мыслей о том, как развернутся события,
вызванные к жизни необдуманными словами, которые вырвались у тебя в угаре этих
римских дней;
читать книгу, которую ты будешь держать в руках, приближаясь к границе,— может
быть, это будет все та же книга, так как ты ее не успеешь копчить (вечерами тебе
будет не до нее, ведь на этот раз тебе наконец-то не придется среди ночи, проклиная
судьбу, тащиться в отель «Квиринале»), все та же книга, которую ты, возможно, даже
не откроешь, а может, и другая, которую ты купишь на вокзале Термини,— читать
книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности, а в
ней будет говориться о человеке, который заблудился в лесу: лес сомкнулся за его
спиной, и чтобы решить, куда двинуться дальше, он хочет найти тропинку, которая
привела его сюда, но не может ее найти, потому что его ноги, погружаясь в ворохи
опавших листьев, не оставляют следов,
(и он слышит конский топот, который звучит все ближе и вдруг исчезает, а потом
какой-то протяжный вопль, точно всадник тоже заблудился и зовет на помощь,
неожиданно натыкается на решетку, которая преграждает ему путь, и бредет вдоль нее,
все тяжелее переводя дух и усилием воли стараясь не закрывать глаза, несмотря на
хлынувший вдруг частый и шумный дождь,
175
а потом натыкается па закутанного в плащ и вооруженного человека,— тот, вынув из
кармана фонарь, обшаривает все вокруг и сквозь мириады капель вдруг видит
измученное лицо и поднятые кверху дрожащие руки,
замечает упавшую за ограду книгу, открывает ее, и дождь льет на ее страницы, и они
мало-помалу растворяются, разлетаются, а человек в плаще, разразившись хриплым
смехом, исчезает в глубине хижины, напоминающей громадный ком земли, и теперь путь
свободен);
читать книгу, которую ты захлопнешь перед тем, как начнутся таможенные формальности
и надо будет после туннеля предъявить чиновникам паспорт, а потом вновь попытаешься
ее читать, когда поезд начнет спускаться по французскому склону среди долин, зыбких
от густых теней, ибо тебе захочется отогнать от себя слишком явственную картину
безотрадного существования, какое предстоит тебе отныне,— рабочие часы в твоей
парижской конторе, из окна которой ты будешь видеть противоположную сторону улицы
Даниель Казанова и там Сесиль, работающую па втором этаже туристического агентства
Дюрье, Сесиль, мечтавшую о том, как она приедет в город своих грез и вы заживете
вместе жизнью, полной пленительного риска, которую она помогла тебе выдумать, но
вскоре убедилась, что, наоборот, ты теперь гораздо дальше от нее, чем когда она
жила в Риме, и хотя вы иногда проводите вместе ночь, вам больше не о чем говорить,
и минутами ты ловишь на себе ее взгляд, полный такой ненависти, такого жестокого
разочарования, что ей лучше уехать, и ты подготавливаешь все для ее отъезда,
настолько горько тебе то и дело замечать бросаемый тебе в лицо упрек, напоминание о
том, каким позором обернулся твой самый решительный шаг к освобождению;
читать книгу, в которую ты углубишься, чтобы ни о чем пе думать, потому что уже
поздно, уже ничего не поправишь; ты возвращаешься в Париж вдоль берега печального
озера, ты уже поделился с нею всеми своими планами насчет ее переезда, а она в
своем неведении так радовалась им эти несколько дней, что невозможно было убедить
ее от них отказаться, невозможно было объяснить, почему надо это сделать,— она все
поняла бы превратно и постаралась бы укрепить твою решимость, снова упрекая тебя в
малодушии,— невозможно было не поддаться ее доверию, благодарности, восторженному
удивлению.
В Бур ты приедешь уже в сумерках, в Макон — когда
176
совсем стемнеет, ты будешь перебирать в памяти события минувших дней — дней,
которые тебе пока еще предстоят,— и радоваться тому, что тебе удалось промолчать о
найденной для нее в Париже работе и о квартире, которую предложили тебе на время
друзья, промолчать, несмотря на ее настойчивые расспросы, и уверить ее в том, что
да, ты усердно искал и даже считал, что тебе подвернулось что-то подходящее,
потому-то ты и затеял эту тайную вылазку в Рим, но в последнюю минуту все рухнуло,
что ты, разумеется, будешь искать дальше, у тебя даже есть на примете одна комната
и ты уже вообще-то почти сговорился,— пусть она порадуется, пусть заранее
насладится предстоящими переменами, которые никогда не состоятся.
А стало быть, тебе не придется готовиться к схватке с Анриеттой, думать о том, что
ей сказать и о чем умолчать, потому что с Анриеттой все останется по-прежнему, и ты
будешь глядеть сквозь темные и, наверное, мокрые от дождя стекла, глядеть сквозь
окна освещенного коридора на откосы, усыпанные прелой листвой, на ряды голых
стволов в лесу Фонтенбло, и сквозь скрежет осей тебе будет чудиться отдаленный
топот копыт и насмешливый голос: «Ты слышишь меня?»
И, наконец, во вторник в двадцать один пятьдесят четыре под проливным дождем, в
полном мраке, совсем один, измученный путешествием в третьем классе, ты приедешь в
Париж на Лионский вокзал и окликнешь такси.
За окнами прохода, в ущелье, обнажающем горизонт, над узкой извилистой дорогой,
прочерченной фарами далеких автомашин, снова показалась луна, раздвинувшая облака,
похожие на птичьи головы с большими перьями и гребешками. Над головой сидящего
напротив старика, который полузакрыл глаза и, словно читая про себя какую-то
длинную монотонную поэму, подергивает плечами в конце каждой строфы, снимок горного
пейзажа, отчасти заслоненный его черной шляпой, образует нечто вроде темного
зубчатого нимба. За окном купе проходит длинный товарный состав.
После Ливорно поезд шел без остановок; это был римский экспресс; вы ехали через
Маремму, и слева от тебя за окном вагона-ресторана солнце искрилось в каналах
177
среди возделанных нашей и деревьев, покрытых багряной листвой, а когда вдали
показался Гроссето, мимо пропесся встречный поезд — длинный товарный состав.
Потом сидевшая напротив тебя итальянка, высокая римлянка,— она ехала с мужем,
который то и дело вынимал из кармана маленькую записную книжку в светло-лиловом
кожаном переплете и что-то в ней нервно отмечал, вычеркивал, проверял, тогда как
сама опа, поводя вокруг большими темными глазами, одаряла улыбками всех подряд, в
том числе и тебя,— спросила, не будешь ли ты возражать, если она опустит штору, и
штора вспыхнула сотнями искр.
Ты любовался ее холеными руками, чистил апельсин и думал о Сесиль, которой назначил
свидание в половине седьмого в баре на площади Фарнезе, гадая, где она сейчас
обедает, у себя или в одном из своих любимых ресторанчиков,— конечно, она при этом
думает о тебе, о том, как вы сегодня проведете вечер, и, конечно, надеется, что уж
на этот раз ты сообщишь ей долгожданную новость, сообщишь, что принял окончательное
и столь желанное для нее решение и нашел ей место в Париже, о котором опа так
мечтает.
Вернувшись в купе первого класса, где ты был один,— на горизонте время от времени
уже показывалось море,— ты взял книгу посланий Юлиана Отступника с полочки, где ты
ее оставил, и, не раскрывая, загляделся в открытое окно — порывом ветра в него
заносило иногда песок,— мимо промелькнул вокзал Тарквинии, а потом и самый город
вдали с его серыми башнями на фоне бесплодных гор; а немного погодя ты перевел
взгляд и уставился на солнечное пятно в форме резака, которое все шире расплывалось
по одпой из подушек.
Путь был свободен; впереди тянулась горная долина, поросшая высокой травой, которая
обсыхала на предрассветном ветру.
Среди редеющих зарослей за пеленой пыли он видит на горизонте зубья гор, от которых
его отделяет ров, и чем ближе он подходит, тем ров становится глубже,— это теснина,
по дну которой, должно быть, бежит река, и он начинает спускаться по ее склону,
цепляясь за колючие ветви. Но пытаясь ухватиться рукой за кусты, он с корнем
выдергивает их из земли, а камни, на которые он хочет поставить ногу, обваливаются,
осыпаются и стремительно катятся с уступа на уступ, и под конец он уже не в силах
отли-
178
чить шум их падения от гула, идущего снизу, а тем временем спускается ночь, и
полоса неба над его головой окрашивается в лиловый цвет.
Большое солнечное пятно медленно расплывалось по подушкам, захватывая — нитка за
ниткой — их плотную ткань, а на повороте дороги вдруг потекло вниз на зыбкий пол и
потом понемногу уползло из купе.
Ты тогда уже понимал, что рано или поздно тебе придется принять решение, но еще не
подозревал, что этот день так близок;
не имея ни малейшего желания торопить события, надеясь, что все образуется,
полагаясь на случай, на то, что все решится само собой,
не думая о будущем Сесиль, о том, как устроить в ближайшее время вашу совместную
жизнь, не размышляя о ваших нынешних отношениях, не пережевывая ваших общих
воспоминаний,
ты держал на коленях закрытую книгу — послания Юлиана Отступника,— которую только
что дочитал, но все твои мысли были заняты прежде всего делами фирмы «Скабелли»,—
ты их проклинал, пытался от них отвлечься, хотя дела были настолько срочные, а до
встречи, назначенной на пятнадцать тридцать, оставалось так мало времени, что ты
волей-неволей неотступно к ним возвращался, и лицо Сесиль то и дело заслоняли
цифры, контракты, предложения по реорганизации французского филиала и отдела
рекламы, а голос и улыбка Сесиль лишь на мгновения проступали сквозь гул
профессиональных разговоров, калейдоскоп ведомостей и прейскурантов.
Надо только преодолеть этот барьер, этот рубеж, и тебя ждет отдых — ее взгляд, ее
походка, ее объятия,— тебя ждет передышка, ждет покой, возвращенная молодость и
обновление.
Тебе было некогда сожалеть заранее о том, что по ночам придется возвращаться в
отель «Квиринале», твоя голова была забита другим, всей этой житейской прозой,
нелепыми проблемами, бессмысленной борьбой, работой, в которой проходит твоя жизнь
и весь осязаемый результат которой сводится к тому, что твое служебное положение
может еще упрочиться, что ты можешь надеяться на прибавку жалованья, а это позволит
тебе создать еще более обеспеченную жизнь женщине и детям, которые стали тебе
чужими;
179
в тот раз ты ехал в Рим не ради Сесиль, она не была, как теперь, единственной целью
твоей поездки, ты ехал по распоряжению и за счет своих хозяев; ты скрывал от них
счастье свидания с нею; в этом состояла твоя великая месть за то, что они тебя
поработили, что они заставляют тебя играть унизительную роль, вынуждают постоянно
вести за них борьбу, постоянно защищать не твои, а их тайные интересы, и ты
послушно изменяешь ради них самому себе.
На этом полюсе были постыдная суетливость и принужденное усердие, которые под
бдительным оком начальства стараешься выдать за преданность, а в глазах тех, над
кем ты сам начальство, стараешься выдать за энтузиазм, про себя издеваясь над теми,
кого удается провести; а на том полюсе была она; и каким же избавлением, каким
возвращением к твоему подлинному «я», каким спасением она тебе представлялась, вся
— улыбка и пламень, прозрачный и жаркий ключ, врачующий и очищающий, а ее глаза —
бескрайняя, обволакивающая даль, уводящая от прозаических будней, и тебе хотелось
думать только о ее глазах, а между тем ты с досадой перебирал в памяти слова и
уловки, которые предстояло пустить в ход на совещании, чтобы обойти завистников,
которые тебя подсиживают, чтобы послужить делу — не твоему, да и, по правде
сказать, вообще ничьему; и тем пе менее к тебе постепенно возвращалось спокойствие,
бодрость, хорошее настроение, радость жизпи, и ты любовался соснами, мерно
покачивавшимися на солнце!
За окном, сквозь отчетливое, вибрирующее отражение купе — немного наклонившись
вперед, ты можешь разглядеть в нем самого себя чуть подальше старухи итальянки,
неподвижно сидящей, полузакрыв глаза,— сквозь твое собственное отражение виднеется
скала, в которой пробит туннель, и кажется, будто это брусок, на котором тебя
обтачивают, будто это каменистая стена, склон ущелья, по которому ты низвергаешься
в пропасть. Аньес спит, Пьер смотрит на нее, пряди их волос переплелись, и над ними
как бы колышется в волнах лодка на снимке с видом Кон-карно. Их ноги вздрагивают,
шаркая по отопительному мату.
180
Но на сей раз ты едешь ради нее одной, на сей раз ты [ принял, наконец,
бесповоротное рртттрнив, и, однако, оно I увяж>, омертвело за время пути, ты больше
не узнаешь его, \ оно продолжает разрушаться у тебя на глазах, а ты не в силах
приостановить отвратительный распад, на сей раз ты не прочел книги, которую держишь
в руках, даже не открыл ее, ты не знаешь и не хочешь знать о ней ничего — вплоть до
ее названия; а все потому, что на сей раз ты как бы в отпуске, ничто извне не
заставляет тебя спешить и суетиться, и гигантский заслон из случайных дел на сей
раз не стоит между тобой и твоей любовью, все потому, что отношения обострились до
предела и ты, не отдавая себе до конца отчета в том, что ты делаешь, в том, что
происходит, был вынужден нарушить заведенный порядок, поломать то, что вошло в
привычку, и сам загнал себя в тупик и сразу же оказался перед необходимостью
пристально рассмотреть (пережитая встряска сделала тебя куда более зорким)
подробности твоей будущей жизни, которая еще сегодня утром казалась тебе тщательно,
всесторонне и до конца продуманной,— перед необходимостью оценить положение, в
котором ты очутился, и тем самым гостеприимно открыть двери забытым, отстраненным
воспоминаниям; от этих воспоминаний какая-то частица твоего «я» (можно ли считать
ее твоим «я», раз ты сбросил ее со счетов?), именно та частица твоего «я», которая
и регулирует ход твоих мыслей, считала тебя надежно застрахованным, и вот эту самую
частицу твоего «я» потрясла стремительность событий, необычность путешествия, его
новизна, и если этой грани твоего «я» до сих пор более или менее удавалось
маскироваться, то теперь она, слабея и исчезая, проявила себя, обнажила свою суть.
И вот тебе вспоминается конец той злосчастной поездки в Париж — встреча в поезде,
точно таком, как тот, в котором ты едешь сейчас (и все из-за проклятых денег и
разницы в стоимости первого и третьего классов), когда уже давно скрылся из виду
Лионский вокзал, где вы договорились встретиться на платформе, правда, договорились
условно, потому что перед отъездом из Парижа вы с ней несколько дней не
встречались, а обратный билет у нее уже был; когда Лионский вокзал давно скрылся из
виду, потому что утром ты проспал, и было уже пять минут девятого, когда ты
выскочил из такси, не успев даже запастись сигаретами; ты до последней минуты ждал
на платформе, где Сесиль уже не было, а потом на ходу вскочил в
1st
поезд, который был набит битком — не то что нынешний; пробираясь по людным
проходам, ты заглядывал подряд в каждое купе и решил, что если ты ее не пайдешь,
если она отложила свой отъезд и даже не предупредила тебя, потому что терпение ее
истощилось и она разочаровалась в тебе, в твоем поведении — в таком неприглядном
свете ты предстал перед ней в Париже,— ты заплатишь разницу и перейдешь в вагон
первого класса, чтобы по крайней мере знать, что у тебя будет место, где сесть;
потом ты зашел в вагон-ресторан, где подавали завтрак (ты успел поесть дома, но во
рту у тебя пересохло), думая: «Что я буду делать в Риме без нее? Схожу завтра на
Монте-делла-Фарина, узнаю, не вернулась ли она, если нет, буду наведываться туда
каждый день до самого отъезда», заказал чашку чаю и, сев у окна, увлажненного
дождевыми каплями, стал сквозь стекло глядеть на рельсы, на стрелки, на щебень
между рельсами, местами покрытыми ржавчиной;
а потом взял свой чемодан и, продолжая поиски, двинулся дальше по направлению к
головному вагону, как вдруг услышал ее голос: «Леон!» — и, обернувшись, застыл в
дверях, а она сказала:
— Я думала, что уже не увижу тебя, что ты отложил поездку; сначала я заняла
тебе место, но мы уже так давно в пути, я решила, что это ни к чему,—
и ты остался стоять в коридоре, у тебя не было даже сигареты, ты молча наблюдал,
как она углубилась в книгу, а потом прислонился к окну и стал думать: «Как же быть
дальше? Хоть бы кто-нибудь сошел в Лароше или Дижоне, тогда я сяду рядом с ней!» —
и сам все глядел на опавшие мокрые листья и большие, почти совсем голые деревья в
лесу.
Он долго в изнеможении прислушивался к шуму реки, сжатой крутыми склонами, в ее
волнах сверкали теперь узкие блики месяца, который взошел, выставив кверху рожки,
во всем блеске новолуния, похожий на лодочку, плывущую в скалистой теснине, и вдруг
по ту сторону реки ему почудился конский топот и даже окрик, эхом прокатившийся от
скалы к скале, словно кто-то обнаружил его присутствие и стремится его опознать:
«Кто ты такой?»
В поисках брода он пополз вдоль реки по склону сужавшегося ущелья, потом сорвался,
увяз в песке между камнями, а эхо все усиливало шум, и вот стремнина подхватила
его, закружила, снова выбросила на скалы, и он стал
182
карабкаться вверх, пока пе добрался до входа в пещеру, откуда со свистОхМ вырывался
ветер. Он ощупью поискал вокруг себя ровную площадку, где можно было бы
растянуться, но нашел только выемку, куда и забился, только не лег, а сел,
прижавшись виском к отвесному склону, должно быть, это была мраморная жила —
прохладная и гладкая, как стекло; дыхание его стало ровпее; на него повеяло запахом
дыма.
Ты глядел на опавшие листья в лесу Фонтенбло и на то, как кучи этих листьев жгут в
садах, где уже отцвели цветы, и, не желая просить сигарет у Сесиль, погруженной в
чтение,--- у нее в сумке наверняка были сигареты, но тебе пе хотелось начинать с
попрошайничества,— ты вынул из кармана спичечный коробок, в котором осталось всего
три спички, и стал зажигать их одну за другой, опираясь локтем на перекладину под
окном, а они мгновенно гасли: на другом конце коридора, как видно, было опущено
стекло, а когда ты поднял голову и заметил, что Сесиль наблюдает за тобой, что ей
смешно, ты нарочно отодвинулся в сторону, и она сразу же вышла из купе с сигаретой
в зубах; ты показал ей пустой коробок, и она вернулась в купе за своей зажигалкой.
— Хочешь сигарету?
— Спасибо, нет.
— А сесть не хочешь?
— Подожду, пока освободится место.
— Наверняка кто-нибудь выйдет в Дижоне.
Легкими ударами мизинца она стряхивала пепел с сигареты. Медленно проплыл собор в
Сансе, серой массой возвышаясь над городом; поезд шел берегом Йонны.
— В котором часу ты будешь обедать?
— Я еще не успел взять талончик. Я приехал в последнюю минуту. Вчера поздно
лег. В последние дни дел у меня было по горло.
— В последние дни мы оба были заняты по горло.
— Сейчас придет официант.
— Он уже приходил. У меня талончик в первую смену; если б я знала, что ты
здесь, я взяла бы два.
— Наверное, как раз когда он приходил, я пил чай. Я ведь тоже не знал, что ты в
поезде. Я обошел уже половину состава, разыскивая тебя.
— Пойдем обедать вместе. Чем черт не шутит...
— Тем более что метрдотель меня знает. Садись. Не стоять же тебе из-за меня до
самого Дижона.
183
Но ни один пассажир пе сошел ни в Лароше, ни в Дижоне, и только в вагоне-ресторане
вы наконец сели рядом, но и здесь нельзя было поговорить по душам, потому что за
вашим столом сидели еще двое, муж и жена, и непрерывно ссорились.
— В Риме у нас будет много свободного времени. Правда, в девять часов мне
придется быть у Скабелли, и еще я имел глупость согласиться па деловую встречу за
обедом, но с шести я сам себе хозяин... Буду тебя ждать на площади Фарнезе.
— О да, в Риме...
— Можно подумать, что ты не любишь Рим.
— Я его люблю, особенно когда ты приезжаешь туда ко мне.
— Я был бы рад не уезжать оттуда.
— А я хотела бы жить с тобой в Париже.
— Не вспоминай об этой поездке. В другой раз все будет иначе.
— Я никогда ни словом не заикнусь о ней.
Книга выскальзывает у тебя из рук и падает на отопительный мат. Ты поднимаешь
голову и в зеркале между снимками гор и парусников видишь башни и зубчатые степы
Каркассона — снимок, висящий как раз над тем местом, где лежит рюкзак одного из
рабочих. Мелькает маленькая заброшенная платформа, несколько фонарей освещают
только скамью, часы и ящики, ждущие отправки.
Вдруг грохот усиливается, и за окном с бешеной скоростью, словно кто-то исступленно
колотит молотком по неподатливому гвоздю, проносятся освещенные окна встречного
поезда, скорого Рим — Париж, которым ты воз^ вращался из прошлой поездки.
Престарелые супруги, мерно покачиваясь все в тех же окаменелых позах, обмениваются
взглядом и понимающей улыбкой.
Ты шаришь в кармане, но там осталось всего две сигареты, а ты не догадался
запастись в вагоне-ресторане пачкой «Национале». Ты пытаешься переменить положение,
потом закрываешь глаза, потому что свет начал тебе мешать. Заснуть сейчас, конечно,
не удастся; а может, не удастся заснуть и ВСЮ ночь. В этом положении тебе удобнее,
но долго сидеть, заложив ногу на ногу, будет невмоготу.
464
Раз на него повеяло дымом, значит, в пещере кто-то есть; ои поднимается на ноги и
осторожно, чтобы пе удариться о свод, начинает продвигаться в глубь пещеры,
ощупывая стену руками, а запах дыма становится все явственнее.
За выступом скалы он видит огонь, разв1денный в обширном гроте, сочащемся влагой и
насыщенном испарениями,— огромное орапжевое пламя в клубах пара; он подходит ближе
и слышит чье-то тяжелое, хриплое дыхание,— уставившись в громадную книгу,
неподвижно сидит старуха; не поднимая головы, она обращает к нему взгляд, в котором
притаилась насмешка, и шепчет (но шепот, отраженный эхом, похож на грохот поезда в
туннеле, и почти невозможно разобрать, что она говорит):
«Трудеп путь по лесам, через степи и скалы, но теперь заслужил ты короткий отдых,
ты имеешь право услышать меня и задать мне вопросы, ты, наверно, давно и
старательно их обдумал, ибо никто не отважится на такое опасное странствие, не
познав, не поняв, не постигнув, что погнало его в дорогу; вопросы свои записал ты,
должно быть, па тех двух клочках бумаги, что белеют сквозь туман и дым моего костра
па странном твоем одеянье; я вижу, оно в лохмотьях, оно утратило цвет, и это
значит, что пришел ты издалека.
Почему ты молчишь? Или думаешь, я не знаю, что ты тоже пустился на поиски отца
своего, чтобы он возвестил тебе будущее твоих потомков?»
И тогда, заикаясь, он пробормотал:
«О, не смейся надо мною, сивилла! Я ничего не хочу, я хочу только выйти отсюда,
возвратиться домой, к началу пути, по которому я бреду. И если ты говоришь на моем
языке, сжалься надо мной, над моим унижением, над моим бессилием, ибо я не способен
воздать тебе почести, обратиться к тебе с подобающими словами, дабы они заставили
тебя возвестить мне ответ».
«Разве эти слова не записаны там, на страницах синего путеводителя заблудших?»
«Увы, сивилла, они стерлись, но если даже они и не стерлись, я не могу их
прочесть».
«Ступай, я могу дать тебе в дорогу две лепешки, испеченные в моей печи, но чудится
мне, что тебе больше не увидеть света».
«А разве у тебя йет золотой ветви, которая указала бы мне путь и отворила передо
мною решетки?»
t85
«Не для тебя, не для тех, кто сам не ведает своих желаний. Придется тебе отыскивать
путь по неверному мерцанью, оно появится впереди, едва лишь угаснет мой жалкий
костер».
И вот уже все вокруг окутано плотпым облаком, оно расплывается вширь, и только
вдали сквозь едкую мглу смутно серебрится какой-то свет; странник снова пускается в
путь.
Тебе больше невмоготу сидеть, заложив ногу на ногу, ты одну за другой вытягиваешь
их, как после долгой ходьбы, и задеваешь ногу старика итальянца, который сидит
напротив, застыв словно спящий, хотя глаза его открыты и вот уже несколько минут
созерцают тебя, будто старика забавляют движения твоих губ и мысленно он по-своему
истолковывает их.
Как тебя начинает тяготить это движение, это покачивание, этот шум, этот свет;
скопившаяся за долгие часы и километры усталость, которой до сих пор ты как-то
сопротивлялся, теперь наваливается на тебя, точно громадный стог сена, тебя
охватывает неодолимое желание вытянуться во весь рост, но это невозможно — нельзя
же беспокоить старуху итальянку, да и не хочется показывать, что ты не так
вынослив, как Пьер, на плече которого задремала его Аньес, а ведь ему эта дорога
наверняка не так привычна, как тебе, скорей всего, он впервые едет маршрутом Париж
— Рим, но с лица его не сходит улыбка, и он ласкает жену на глазах у итальянки, а
старуха смотрит на них уже менее настороженно, и во взгляде ее брезжит сочувствие,
словно оно, наконец, пробилось на поверхность сквозь толщу долгих лет упрямого
ожесточения.
Забившись в свой уголок, ты смотришь из-под полуприкрытых век, точно пьяный,
который, добравшись до постоялого двора, смотрит в щелку ставен, потому что в
кармане у него уже не осталось мелочи, а значит, нет и надежды положить на подушку
тяжелую от хмеля голову, и слева от себя видишь в тумане четыре лица, которые
колеблются в этом грохоте вместе с прямоугольником ночи, то и дело меняющим
глубину,— да, именно слева, внутри отражения, а с другой стороны — коридор, откуда
доносится металлическое пощелкиванье, возвещающее о приближении итальянского
контролера.
У тебя такое чувство, будто в шею тебе между двумя верхними позвонками, атлантом и
аксисом (названия их, подобно привкусу от слишком обильного обеда, восходят
186
к какому-то давнишнему курсу естественной истории), вонзается тонкая ржавая игла, а
человек в фуражке тут как тут, он отодвинул скользящую дверь и бормочет себе в усы:
«Biglietti per favore» хотя от боли в онемевшем затылке тебе трудно двигаться, ты
обшариваешь карманы пальто и пиджака, по только в брюках обнаруживаешь на-конец
узкий клочок бумаги и не можешь вспомнить, каким образом он там оказался, потому
что обычно ты кладешь билет в бумажник; должно быть, недавно, когда ты был в
вагоне-ресторане, контролер, этот же самый контролер, уже проверял билеты, только
там он не смотрел на тебя таким взглядом, как сейчас, думал, должно быть, что ты
едешь первым классом: может, он привык видеть тебя в первом классе; наверное, оп
очень удивлен, что на сей раз встретил тебя здесь; должно быть, думает, что ты
разорился; коснувшись щипцами козырька, он с шумом задвигает за собой дверь.
Другая булавка, длинная, со ржавой шляпкой, прокладывает себе путь между вторым и
третьим шейными позвонками, она ввинчивается все глубже и глубже, и вот уже вдоль
всего твоего позвоночника вонзаются острия, и ты начинаешь тереться спиной о спинку
сиденья, отчего они впиваются еще глубже, их уже не меньше дюжины, они стесняют
твои движения, проникают все дальше — не то какие-то когти, не то клыки,— а вот еще
другие, эти как челюсти, на которых сидят в ряд по полтора десятка зубов, и каждый
из них вгрызается в тебя, точно каждый действует сам по себе, и вдруг все они
сжимаются так, что ты вздрагиваешь и выпрямляешься.
Ты не смеешь оглянуться назад, боишься, что эта пасть дохнет на тебя, боишься
увидеть безжалостный стеклянный взгляд, колючую чешую змеи, обвившейся холодным
хвостом вокруг твоих ног, так что ты их уже не можешь разнять.
Старик напротив тебя встает, как бы желая подчеркнуть всем своим видом: «Погляди,
как свободно я двигаюсь», он словно по воздуху приближается к двери, она
распахивается, едва он успевает к ней прикоснуться, и громадная фигура старика
исчезает в коридоре.
Лампочка под стеклянным колпаком вибрирует, ее свет мерцает, точно вот-вот
погаснет. Аньес вздрагивает, открывает рот, точно вдруг увидела перед собой
пропасть, потом
1 Билеты, пожалуйста (ит.).
187
вспомипает, что она в поезде, проводит рукой по лбу, по выбившимся из-под платка
прядям, смотрит на Пьера, который, сжав пальцы жены, легонько целует ее в шею,
снова клонит голову на плечо мужа, смотрит на тебя, улыбается и тихо опускает
ресницы, вновь отдаваясь во власть ритмическому покачиванию вагона; а на снимке над
ее головой на шелковистых, золотых и темно-синих волнах под лучами жаркого римского
заката колышутся парусники.
Сосны мерно покачивались на солнце; поля быди безлюдны,— очевидно, крестьяне
отдыхали.
Ты сидел один в купе, держа в руках прочитанную книгу — послания Юлиана Отступника,
впереди уже виднелся город с куполом святого Петра, и предстоящая встреча с ним
наполняла тебя радостью.
Ты встал, спрятал книгу в чемодан, до отказа опустил оконное стекло и стал
любоваться проплывавшими мимо домами, женщинами у дверей их жилищ, машинами,
троллейбусами, Тибром, станцией Рим-Трастевере, снова Тибром, теперь уже с другого
берега, началом городской стены, станцией Рим-Остьенсе.
Как вольно тебе дышалось, как стремился ты увидеть Сесиль, как спешил поскорее
покончить с делами «Скабел-ли», как жаждал в один прекрасный день приехать сюда
только ради нее,— ты еще не зпал, когда это случится, не знал, что это будет в
следующий же раз, что ты примешь решение так скоро.
Поезд миновал станцию Тусколана, потом показались Порта-Маджоре и мавзолей пекаря
Еврисака, возле которого прикорнул какой-то пьяный старик — он приподнялся и
помахал поезду, точно поздравил тебя с приездом в Рим,— а рядом ремонтировали
шоссе.
Он снова пустился в путь. Но едва он ставил ногу на камни, они обваливались,
осыпались, стремительно катились с уступа на уступ, и звук их падения терялся в
гуле, который, все усиливаясь, доносился снизу. 4»
Вокруг расплывалось вширь плотное облако, и только1 вдали сквозь едкую мглу смутно
серебрился какой-то свег/' Вот он у берега реки, на воде играют редкие блики, он
долго прислушивается к говору волн.
И тут бурный и грязный поток выносит лодку без пару-
188
Са, а в ней стоит старик, на плече у него весло, точно занесенное для удара.
Торчащая борода старика отливает лиловым, вместо глаз у него две впадины, как две
горелки, из них вырывается шипящее пламя и слепит так, что на лице старика ничего
больше не видно.
Лодка сделана из металла — это громадный кусок ржавого железа, но края у нее
светлые, как рельсы, и острые, как лезвие косы.
Лодка причаливает к берегу, почти не качаясь на волнах, весло упирается в темный
песок; и тут странно ласковый голос произносит:
«Чего ты ждешь? Ты слышишь меня? Кто ты такой? Я явился сюда, чтобы переправить
тебя на другой берег. Я прекрасно вижу, что ты мертв, не бойся же опрокинуть лодку,
она не осядет под твоей тяжестью».
Нет, он не решается опереться на протянутую руку, но видит, как из-под каждого ее
ногтя на его собственную ладонь, освещенную резким пламенем горелок, сочится черное
едкое масло, оно пристает к его коже, липнет к ней, растекается и проникает в
рукав.
Он падает, грязные волны лижут его тело, перевозчик подхватывает его и, бросив на
дно лодки, вновь сталкивает ее на воду, а сам, словно через микрофон, вроде тех,
какими пользуются на вокзалах, рычит ему в ухо, опаляя его огненным дыханием своих
глаз:
«Мне все известно; я знаю тебя, ты хотел попасть в Рим, отступать уже поздно, я сам
отвезу тебя туда».
Потом поезд миновал Порта-Маджоре, и ты въехал в Рим.
С вашим составом поравнялись другие поезда, они двигались примерно с той же
скоростью, и из их открытых окон мужчины и женщины любовались красной ротондой —
храмом Минервы Целительницы, потом зданием вокзала и платформами с мраморными
скамьями.
Как много воды утекло с тех пор, а ведь прошло не больше недели; никогда прежде ты
не ездил в Рим с таким небольшим интервалом; должно быть, все истекшие,
накопившиеся за прежние годы отрезки времени как-то держались, не распадаясь,
словно огромный кусок полуразрушенной кирпичной стены, но едва ты сел в поезд, она
покачнулась, начала падать и будет падать до завтрашнего рассвета, и только к
рассвету все примет новый облик и хоть немного упрочится.
189
А тогда все еще было впереди, перед тобой еще открывалось будущее вдвоем с Сесиль,
открывалась возможность прожить с нею вторую, а по существу первую, настоящую
молодость, которой ты еще не знал. В здание вокзала Тер-мини с левой стороны
проникали лучи солнца. Ах, как хороши были эти несколько дней!
Над головой Аньес, убаюканной шумом нырнувшего в туннель поезда, качаются
парусники. В зеркале, чуть повыше уха Пьера, подрагивают башни Каркассона.
Сесиль возвратилась в купе третьего класса и села на то самое место, которое сейчас
занимаешь ты,— возле двери по ходу поезда. Интересно, какая картинка висела тогда
над головой сидевшего напротив нее пассажира, чей облик совершенно стерся в твоей
памяти?
Ты стоял в коридоре, облокотившись на медную перекладину, а мимо проплывала высокая
каменная стена с надписью: «В этом городе (ты только что проехал этот городок,
снова видел стену и надпись на ней, но название городка, хотя ты знаешь названия
самых маленьких станций по этой дороге, так и не запомнилось тебе) в таком-то году
(само собой, в начале девятнадцатого века, в тысяча восемьсот — а дальше?) Нисефор
Ньепс изобрел фотографию»; ты просунул голову в дверь, чтобы обратить на эту
надпись внимание Сесиль, вновь углубившейся в книгу,— ее заглавия ты так и не
узнал,— и тебе вспомнились виды Парижа, которые висят в ее комнате в Риме:
Триумфальная арка, Обелиск, башни собора Парижской богоматери и лестница Эйфелевой
башни — четыре снимка на двух стенах по обе стороны окна, вроде тех, что украшают
твое теперешнее купе, это временное пристанище, комнату на колесах, где сегодня
вечером тебе не удастся прилечь.
Над Юрой, как и сегодня, шел дождь, стекло покрывалось все более крупными каплями,
они медленно, толчка^ ми, словно им не хватало дыхания, стекали по извилистым
диагоналям, а в туннелях за отражением твоего лица на стекле, сквозным и
призрачным, мелькала мчавшаяся с бешеной скоростью скала.
Ты твердил себе: «Не надо вспоминать эту злосчастную поездку, забудь эти
злополучные дни; в Париже была вовсе не она, вы никогда и не вспомните об этом
эпизоде; я еду в Рим, в Риме я увижу Сесиль, я знаю, что она ждет
190
меня там, мы вовсе не ездили вместе в Париж, и то, что она сейчас здесь, за моей
спиной, и читает книгу, купленную перед отъездом на Лиойском вокзале, просто
случайное совпадение».
Над Альпами шел дождь, ты знал, что на невидимых вершинах он превращается в снег;
когда поезд остановился в Модане, все заволокла мглистая белизна.
Ты сидел напротив Сесиль — должно быть, кто-то сошел в Шамбери или на одной из
маленьких станций в долине,— она только изредка отрывалась от книги и, бросив
взгляд в окно, говорила: «Ну и погода!»
Снежные хлопья липли к окну. Полицейские чиновники спросили у вас паспорта. Она
захлопнула книгу,— ты не читал ее и даже не спросил, как она называется, а в ней,
наверное, говорилось о человеке, который хотел попасть в Рим и плыл в лодке под
моросящим дождем из смолы; капли мало-помалу становились белыми как снег и шуршали,
словно клочки разорванных страниц, а он плыл в металлической лодке, где не мог даже
прилечь, и виском прижимался к борту, прохладному и гладкому, точно стекло, и вдруг
на него повеяло дымом, и он снова заметил во тьме красный свет пламени, а качка
постепенно ослабевала, песок заскрежетал под металлическим корпусом лодки, на
мглистом берегу ее борта разошлись, как две ладони, и путник остался один, потому
что перевозчик растворился в ночи; должно быть, вернулся, чтобы встретить другую
тень.
Он по-прежнему сжимал в руках две лепешки, на которых отпечатались черные масляные
следы пальцев и виднелись капли крови,— пока они плыли, он порезался во сне о края
лодки.
Он глядел, как три-четыре крупные капли стекали вниз медленными зигзагами, точно
пытались воспроизвести трудный маршрут в гористой и пустынной местности.
А вокруг все рокотали черные волны и лизали лиловый песок; и вдруг там, откуда
брезжил свет, раздался громкий шелест крыльев, и по всему пространству закружилось
воронье,— иные птицы пролетали над самой его головой и уносились вдоль реки, если
это была река, а не озеро или даже болото, потому что запах тростника, тины и
водорослей все сильнее примешивался к запаху костра, как видно сложенного из торфа,
и ему пора было, наконец, двинуться в ту сторону — не лежать же так без конца
одному в этой разломанной лодке из тонкого металла, хрупкого и
191
опасного, она лопнула, точно стручок, и на нее набегают легкие пузырчатые волны,
они крутят песок и гальку и уже добираются до его ног и спины.
Вороны принимают его за мертвеца, но, может быть, это и не вороны, при таком
освещении любая птица кажется черной, а эти ни разу не каркнули; две птицы уселись
ему на плечи, а одна на голову, вцепившись в волосы.
Медленно-медленно отрывает он от земли сначала шею, потом верхнюю часть туловища,
потом, опершись на истерзанные руки, приподнимается и, пошатываясь, встает на
колени; и вот он выпрямляется, весь дрожа, а на нем застыли три ворона, они не
выпускают его, все глубже впиваясь в него когтями, а две другие птицы вырывают у
него из рук две маленькие, круглые, испачканные маслом и кровью лепешки.
А с неба все сыплются клочки бумаги, напоминающие не то лепестки, не то сухие
листья, они ложатся на воду, покрывают почти всю ее поверхность, придавая ей
сходство с холстом, на котором лупнтся краска, прилипают к лохмотьям его одежды, к
лицу и к глазам, которые постепенно начипают различать, что это не просто берег, а
порт, и справа виден мол, а чуть подальше набережная, ступени, причальные крльца, и
что свет, который он видит,— это свет маяка.
Он поднимается по ступеням, идет, подталкиваемый невидимой силой; шум волн
становится глуше; по временам до него долетает гул, похожий на мощный вздох; он
чувствует, что бредет вдоль кирпичной стены, что перед ним Порта-Маджоре, только
тут нет трамваев, железнодорожных путей, рабочих, толпы и в рассеянном свете не
видно никакого движения, а перед воротами в караульном кресле сидит кто-то,
превосходящий ростом обыкновенного человека, и не с одним, а с двумя лицами, и то,
которое обращено к несчастному страдальцу, скривившись в насмешливом хохоте, кричит
ему:
«Ты,никогда не вернешься!» —
а другое, обращенное к воротам, к городу, в ту сторону, куда глядит он сам, то
лицо, которое он не видит, оно тоже кричит — только протяжнее, глуше, оно не может
облечь свой стон в слова, и стон походит на завывание, и птицы вьются над двуликой
головой под дождем из обрывков разорванных страниц.
Потом все умолкает, и слышится только смутное, шумное и влажное дыхание стены.
'
192
Полицейские чиновники — их форменная одежда и волосы были залеплены снегом —
наскоро проверили ваши паспорта и ушли, задвинув за собою дверь.
В душном, битком набитом купе, среди пассажиров, чьи лица ты уже забыл, а вернее,
просто не запомнил,— французов и итальянцев, которые наверняка о чем-то
разговаривали, но ты не слышал (их разговоры были просто гулом, таким же, как гул
поезда, который вновь тронулся и нырнул в туннель),— ты видел только Сесиль,
сидевшую напротив, она вновь углубилась в книгу, не обращая на тебя внимания, и,
казалось, не сознавала, что ты ее потерял и медленно, с трудом стараешься вновь
обрести, приблизиться к ней, преодолеть пропасть, вырытую между вами пребыванием в
Париже, о котором лучше не думать.
Она и пыталась не думать о нем, вернее, не думать о тебе, каким ты предстал перед
ней в Париже, потому что, если бы ей удалось вынести тебя за скобки этих нескольких
минувших дней, сделать вид, будто тебя в Париже не было, если бы ей удалось не
вспоминать о том, как вы приехали туда, о ваших свиданиях, об ее визитах на площадь
Пантеона, номер пятнадцать, ей стало бы казаться, что поездка, о которой она так
мечтала, состоялась и ей было отрадно вновь увидеть свой родной город, хотя ты и
тут ничем не помог ей, как не мог помочь Анриетте в Риме, когда вы вдвоем приехали
туда во второй раз, после войны.
Глаза Сесиль рассеянно пробегали последние строки книги; ты чувствовал, что в ее
мозгу совершается сложная работа; ты ловил смену выражений на ее лице, а она не
обращала на тебя впимания и словно не замечала твоего присутствия: ведь для того,
чтобы по-своему перекроить воспоминания о двух минувших неделях, ей надо было
отделить тебя от них, надо было притвориться, будто она совершила эту поездку одна,
а стало быть, встретила тебя в поезде случайно и вовсе пе обедала с тобой недавно в
вагоне-ресторапе; улыбаясь самой себе, она воображала, будто тебя здесь пет, будто
она думает о тебе, мечтает о встрече с тобой в Риме и вдруг видит, что ты уже
здесь, и она удивлена и счастлива, потому что это словно бы сам Рим вышел ей
навстречу.
Вот что ты читал на ее лице, вот какой безмолвный монолог расшифровывал ты за
ширмой книги.
Сидя с закрытой книгой в руках на том самом месте, где сейчас сидишь ты, и повернув
голову к окну, она вооб-
7 М. Бютор и др.
193
ражала, будто тебя здесь нет и она любуется сумрачным пейзажем Пьемонта, которым
ты, бывалый путешественник, любовался столько раз, воображала, будто мечтает о том,
как ты сидишь напротив нее и смотришь в окно одновременно с ней, ибо ты сел в тот
же поезд, что и опа, хотя пи ты, ни она не подозреваете об этом,— воображала, как
прекрасно было бы неожиданно встретить тебя здесь, воображала, будто страстно
желает тебя увидеть, и вдруг ты и впрямь появляешься в проходе, замечаешь ее,
открываешь дверь и, устроившись напротив нее в той позе, в какой ты сидел на самом
деле, искоса глядишь на нее, и выражение лица у тебя озабоченное, разумеется, из-за
«Скабелли» и этой самой Анриетты, которую она никогда в жизни не видела.
Теперь она глядела на тебя радостно, так как воспоминание о Париже, где ты играл
такую жалкую роль, мало-помалу вытеснилось картиной, нарисованной всесильным
воображением, но она попимала, как это зыбко, понимала, что об этом нельзя
заговаривать, а чтобы за ужином пе было тягостного молчания, надо говорить о Риме,
куда вы оба едете, хотя каждому из вас было бы приятнее, чтобы другой его там ждал,
а еще лучше выехал бы вперед, добрался бы до самого Турипа, радушно встретил бы
приезжего и сообщил ему последние новости.
Как боялся каждый из вас, что другой совершит промах, что из-за какого-нибудь
неосторожного слова разойдутся края раны, которая еще только начала
зарубцовываться! Молча вернулись вы после ужина в купе третьего класса, в нем тем
временем освободились места, и ты смог сесть рядом с Сесиль, обвив рукой ее талию,
а она проговорила: «Я устала»,— но только в Генуе, наконец, погасили свет.
В синеватом свете ночника она уснула на твоем плече, а ты ласкал ее, легонько
касаясь губами ее черных волос, и они постепенно рассыпались, нарушая строгий
порядок, к которому их принуждали шпильки, и скользили по твоей щеке, щекоча твои
губы, ноздри и глаза.
В зеркале над плечом Пьера покачиваются черные башни. А в зеркале окна, прочерчивая
отражение купе, скользят огоньки деревень, фары машин, освещенная комната в доме
стрелочника, а в ней девочка, мелькнувшая на мгновение, как раз когда она снимала
свою школьную форму
194
перед зеркальным шкафом. И еще одно, самое зыбкое отражение — в очках старика
итальянца, который сидит напротив и который уже заснул, в этих стеклах, оправленных
в металл, отражается висящий над твоей головой снимок, а на нем — ты это помнишь —
Триумфальная арка и вокруг нее старомодные такси.
У тебя тогда еще не было ни служебного положения, ни денег, ни привычек, с которыми
ты хотел бы расстаться, отправившись в эту поездку; ты еще не жил в квартире на
площади Пантеона, номер пятнадцать, откуда ты хотел бы бежать, чтобы поселиться на
другой улице вместе с Сесиль, но откуда ты теперь не уйдешь, где ты обречен
оставаться до самой смерти, потому что Сесиль к тебе не приедет, потому что ты не
вызовешь ее в Париж, как ты твердо намеревался еще сегодня утром, уезжая с
Лионского вокзала, как ты твердо намеревался вплоть до... был уверен, что твердо
намереваешься вплоть до... ты не вызовешь ее в Париж, потому что ты слишком хорошо
понял: какие бы усилия ты ни прилагал, чтобы обмануть ее, обмануть себя, в конце
концов это приведет лишь к тому, что ты отдалишься от нее, медленно, но
неотвратимо, медленно, но самым тягостным и оскорбительным для вас обоих образом, и
если ты ее бросишь (а ты ее бросишь очень скоро, несмотря на твою искреннюю
любовь), место, которое ты подготовил для нее в Париже, окажется чистейшей фикцией,
она не сможет сохранить его без твоего покровительства, а ты ей покровительствовать
не станешь, потому что больше не захочешь с ней встречаться;
словом, ты еще не жил тогда в квартире, в которой обречен оставаться до конца твоих
дней, потому что второй Сесиль уже не будет, потому что уже поздно, потому что это
был твой последний шанс вернуть молодость, и ты — тут тебе нужно отдать
справедливость — сделал все, чтобы не упустить его, но он уплыл у тебя из рук, и ты
понял, что на самом деле он был иллюзорен и мог померещиться тебе лишь из-за твоей
забывчивости, из-за трусости твоего ума;
у тебя еще не было мебели, которой обставлена теперь твоя гостиная,— в ту пору она
еще стояла не то у твоих родителей, не то у родителей Анриетты, а может быть, ты ее
просто еще не купил;
У тебя еще не было детей — Мадлены, Анри, Тома и Жаклины, потому что ты только-
только женился, и это
7*
195
было ваше свадебное путешествие, и ты вообще впервые ехал в Рим, о котором мечтал
еще со школьной скамьи, с тех пор, как начал ходить в музеи;
стояли чудесные весенние дни, в пригородах Парижа цвели фруктовые деревья, и аромат
их вливался в открытое окно, рядом с тобой сидела Анриетта, счастливая, в новом
платье по моде того времени, она восхищалась каждым холмиком, а в руках у нее был
синий путеводитель по Италии в том старом издании, которое до сих пор хранится на
одной из полок твоей небольшой библиотеки у окна с видом на купол, освещенный по
субботам прожекторами, а ты зубрил фразы из итальянской грамматики;
и лес Фонтенбло был весь в молодых побегах (и пе она ли рассказала тебе тогда, как
в детстве гуляла в этом лесу с сестрами и как с наступлением сумерек они дрожали от
страха, что им встретится Великий Ловчий, который окликнет их и унесет с собой?);
и ливень опережал ваш поезд, поэтому за окном ослепительно сверкали крыши, тротуары
и сочные горные луга.
На границе, когда солнце уже садилось и над сумраком возносились лишь освещенные
вершины гор, полицейские чиновники спросили у вас паспорта.
А потом стало слышно только смутное, шумное и влажное дыхание стены. И тогда на
старческом лице чиновни-ка-итальянца появилась сострадательная улыбка, и он
прошептал:
«Где ты? Что ты делаешь? Чего ты хочешь?»
«Я пришел сюда, преодолев множество опасностей и заблуждений, потому лишь, что ищу
книгу, которую потерял, а я не знал даже, что владею этой книгой, не пытался даже
прочесть ее название, хотя это была единственная неподдельная ценность, которую я
захватил с собой, пустившись в это странствие. Мне сказали, что в вашем городе, у
дверей которого вы неумолимо стоите на страже, я могу найти эту книгу».
«А ты и в самом деле так хорошо знаешь итальянский, что сумеешь ее прочесть — ведь
если здесь и найдутся книги, сохранившиеся настолько, что их можно дать тебе в
руки, они будут на итальянском языке.
Ну что ж, входи, двери открыты, взгляд тех моих глаз, что смотрят в сторону города,
проследит за первыми твоими шагами; выбора у тебя нет: я могу только вновь закрыть
этот вход, заверить тебя, что оп закрыт, и предло-
196
жить тебе поводыря — волчицу, ее масть не отличишь от цвета земли и земных
испарений, и твои затуманенные глаза лишь изредка, когда она окажется в двух шагах
от тебя, будут видеть шерсть и когти волчицы, а все остальное время тебе придется
ловить ухом ее храп и скрежет ее когтей».
Луна поднималась из-за окрашенных в пурпур и золото гор, и на фоне этой огромной
пламенеющей декорации лица полицейских чиновников мало-помалу приобрели лиловый
оттенок, и черты их были так же вульгарны, как и у нынешних, но при этом они были
еще более высокомерны и жестоки.
Когда поезд снова тронулся с места и нырнул в туннель, свет еще не зажгли, не
зажгли даже ночника; несколько мгновений стояла полная тьма, а потом показалось
изумрудно-зеленое отверстие — прогалина вечернего неба над обширными, темными и
суровыми долинами Пьемонта.
То была полицейская Италия, отравленная мечтой об империи, все вокзалы были забиты
мундирами, но это зловещее, вооруженное до зубов тупоумие не помешало тебе
почувствовать аромат весны, ты вдохнул его впервые в жизни, прежде ты его не знал,
это был настоящий весенний аромат, о котором французская весна давала лишь смутное
представление, и ты сказал Анриетте, которая призналась, что ей не по себе, ты
сказал ей: «Их нет»,— и она попыталась в это поверить, хотя и безуспешно.
Ночью поезд шел берегом моря, в его спокойных водах блестела луна, а она сидела
рядом с тобой, как Аньес рядом с Пьером, ты обнимал ее за талию, она опустила
голову па твое плечо, положила руки тебе на колепи, иногда прядь волос, развеянных
порывом ветра, щекотала твои веки, и ты отстранял их, точно безобидную мошкару;
было жарко, ты снял пиджак и сквозь рубашку чувствовал трепет ее ноздрей и ее
дыхание.
Ты все глубже забиваешься в угол и все тяжелее опираешься уже не о спипку скамьи, а
о стеклянную перегородку, так что снимок Триумфальной арки среди старомодных такси
находится теперь прямо перед тобой. В стекле напротив, где вырисовывается профиль
старухи итальянки, отражение твоего купе вдруг смял, раздро-
197
бил, перерезал другой поезд,— почти все окна его освещены, но их невозможно
сосчитать, в них ничего не разглядишь из-за удвоенной скорости, он проносится мимо
с грохотом, тем более оглушительным, что состав вошел в туннель; но вот кончились и
встречный поезд, и тупнель, из-за ширмы гор выглянула луна и на несколько мгновений
повисла чуть пониже отражения плафона.
Огни множатся, вот и улицы со светящимися вывесками и оживленными кафе. Ты смотришь
на часы,— так и есть, вы подъезжаете к Генуе, еще один длинный туннель и — Главный
вокзал.
Проходит, покачиваясь, трамвай, почти пустой. Двое рабочих возвращаются за своими
рюкзаками. Сивилла пересаживается в угол к окну. Аньес смотрит па проплывающие за
окном шероховатые степы.
А вот и самый город, справа порт, пароходы, сверкающие всеми иллюминаторами,
знаменитый маяк, платформы, другие поезда, ожидающие пассажиры с багажом, вверху па
скале громоздятся многоэтажные дома; остановка, Апьес встает и опускает стекло.
Все вокруг застыло в неподвижности, а ты вертишь в руках книгу, которую не стал
читать, но которая властно навязывает твоему воображению другую книгу — хорошо,
если бы она стала для тебя тем синим путеводителем заблудших, на поиски которого
мчится, плывет, пробирается герой книги, очерченный пока еще эскизно на фоне
набросанного вчерне пейзажа, он не знает, что отвечать пограничнику Янусу, двойной
лик которого короной венчает воронье, черные перья птиц обведены кромкой пламени, и
пламя ширится, вот оно охватило их крылья и туловища, а потом — клювы и когти,
похожие на добела раскаленный металл, и в этом полыхающем огне чернеют только
холодные жемчужины глаз;
он слышит свист, пытается что-нибудь разглядеть, но вокруг расплывается вширь
плотное облако, и только вдали, сквозь большую, пока еще различимую арку смутно
серебрится свет, похожий па отблеск зари;
в густом тумане, который начинает рассеиваться, он видит хвост и лапы, а потом как
будто бы уши лисы или волка — нет, волчицы;
снова пускается в путь, проходит через Порта-Мад-жоре, за которой начинается не
улица, а расселина между скалами, углубляется в извилистую теснину, куда только
сверху просачивается неяркий свет, слышит в по-
198
темпах легкие шаги волчицы, в последний раз оглядывается назад и сквозь мглу,
которая сгустилась в ленивую металлическую изморось и образовала сплошную завесу,
видит глаза и губы пограничника, очерченные тонкими штрихами пламени;
потеряв след волчицы, ускоряет шаги; в серебристом свете, проникающем из круглого
отверстия сверху, ощупывает уже пе скалистые, а земляные склоны, из которых сочится
вода, и ее журчание мешает ему ''расслышать храп зверя-проводника, но вот —
развилка, голоса, шаги, мелькают факелы, люди в белых одеждах с песнопениями несут
тела усопших, а на все это сверху, из другого отверстия падает конус света, чуть
более тусклого, чем прежде (должно быть, день клонится к закату);
все явственней слышит храп, похожий на фырканье лошади, похожий на ржанье лошади;
бежит бегом по совершенно прямой, идущей вверх галерее, в дальнем конце которой —
отверстие, совершенно зеленое в вечернем свете, и в нем волчица с туловищем лошади,
а на ней всадник, на сжатых кулаках его сидят вороны, распростершие крылья и
похожие на соколов; они взмывают и кружат в орлином полете между высокими домами с
аркадами, и в окнах домов зажигаются огоньки;
выходит на небольшую площадь, где под деревьями стоят столы, а на них графины с
вином; к нему подходят двое, потом трое мужчин (это итальянцы, думает он, мои
знакомые итальянцы);
протирает глаза, так что с них окончательно спадает бумажная пелена, вслушивается в
слова, обращенные к нему, но не понимает их смысла,—
а вокруг все застыло в неподвижности, и ты вертишь в руках непрочитанную книгу.
Кто-то говорит тебе: «Scusi, signore»1; это вошла молодая женщина, очень высокая, с
очень яркими губами, в бежевом шерстяном пальто; она ищет, куда бы поставить
лиловый чемоданчик,— неужели она тоже вынет из него книгу?
Свою книгу ты кладешь на сиденье и, недоумевая, почему поезд так долго пе
отправляется, встаешь и идешь посмотреть, который час показывают часы на платформе.
1 Извините, синьор (ит.).
199
VIII
И вот ты снова в купе и снова полон смятения, оно все накапливается, все нарастает
с тех пор, как поезд отошел от перрона парижского вокзала, а тело сводит судорога
усталости,— боль в теле становится все мучительнее, все грубее вторгается в течение
твоих мыслей, затуманивает твой взгляд, когда ты пытаешься сосредоточить его па
каком-нибудь предмете или лице, и внезапно направляет твое внимание к тому пласту
воспоминаний или замыслов, который ты как раз не хотел бы ворошить, там все кипит,
все клокочет, все ходит ходуном — это в тебе, помимо твоей воли, неотвратимо
назревает и совершается переоценка собственного «я» и всей твоей жизни, но ты
понимаешь, что видишь лишь ничтожную долю в этой смутной метаморфозе, ее истинный
смысл по сути дела остается для тебя загадкой, а тебе было бы так важно пролить на
него свет, ты готов предаться самым мучительным раздумьям, проявить самое
настойчивое терпение, лишь бы хоть отчасти рассеять мрак, хоть отчасти подчинить
своей воле ту неотвратимую предопределенность, которая нынче ночью вовлекла тебя в
свой водоворот, ту напряженную внутреннюю работу, которая происходит в тебе и мало-
помалу разрушает твою личность, меняет освещение и перспективу, заставляет
пересмотреть многие события и их значение; она вызвана твоей усталостью и новизной
обстановки, вызвана решением, которое ты считал сознательным и добровольным, ролью,
которая отведена тебе в системе человеческих поступков, и проявляется она в чувстве
все той же усталости (усталость и есть отзвук этой работы, ее одышка), и тебя
бросает в жар, а пота почти нет, хотя белье прилипает к телу, и голова кружится, и
нервы напряжены, а в желудке спазмы, и тебе дурно, тобой овладевает внезапная
слабость, и колени подгибаются, вот почему ты ухватился за дверной косяк, веки и
голова налиты свинцовой тяжестью, вот почему ты пе сел, а в буквальном смысле слова
рухнул на сиденье (ты даже не позаботился о том, чтобы убрать книгу, и теперь с
трудом извлекаешь ее из-под своих ягодиц), привалился к стене, вытянув ноги между
ногами сидящего напротив старика итальянца, единственного, пожалуй, кто не спит
(впрочем, за круглыми стеклами его очков, поблескивающих в синеватом сумраке,
ничего не увидишь), уперся в воротничок подбородком
200
и поглаживаешь его, ощупывая щетину, отросшую с утра;
и тебя томит жажда, и ты мечтаешь о глотке светлого вина,— во мраке ночи, прошитом
гирляндами электрических лампочек, оно искрится в графинах с девичьей талией на
железных столиках, выкрашенных красной краской, а вокруг вьется рой мошкары и
сгрудилась толпа, которая становится все многолюдней, и собравшиеся что-то говорят
тебе, и ты, возможно, понял бы их, если бы прекратился этот общий гомон и хоть кто-
то отделился бы от толпы и произнес что-то внятное;
и ты говоришь вслух: «Я хочу пить», но никто не слышит; тогда ты повторяешь те же
слова громче, и сразу воцаряется молчание, оно волнами растекается до самых границ
площади, до окон высоких домов, откуда па тебя уставилось множество глаз, а ты
повторяешь свою фразу снова и снова, но люди на площади тебя не понимают, они о
чем-то толкуют, о чем-то спрашивают друг друга с нарастающим беспокойством и
недоверием;
и ты указываешь пальцем на один из графинов с таким видом, что наконец кто-то из
толпы, под пристальным взглядом окружающих, неуверенной рукой наполняет стакан до
половины, расплескивая вино на свои пальцы и на рукава рубашки в синюю и лиловую
клетку, потом подносит стакан к лампочке, чтобы ты рассмотрел его на свет, и,
повертев во все стороны, протягивает его тебе;
и ты, преодолевая мучительную дрожь, с трудом подносишь стакан к губам и, наконец,
отпиваешь глоток, по край стакана вдруг обламывается у тебя во рту, и ты с ужасом
выплевываешь острые осколки и жгучее вино, которое опалило тебе глотку и горло
такой мучительной болью, что ты со стопом швыряешь стакан об стену, разбивая при
этом окопное стекло, и по кирпичам и по штукатурке расползается, разъедая их,
огромное пятно;
а ты трешь рукой свой шершавый, потный и грязный подбородок и, открыв глаза,
рассматриваешь свои пальцы в синеватом свете ночника.
Кто потушил свет? Кто попросил потушить свет, пока ты бегал по коридорам в поисках
вагона-ресторана, хотя ты должен был бы знать, что его отцепили в Генуе, и в
поисках сигарет, которые помогли бы тебе прогнать сон и защититься от бессмысленных
видений,— они только усугубляют твое смятение и растерянность, а тебе необ-
201
ходимо взглянуть в глаза правде, спокойно и непредвзято, как бы со стороны;
ведь если ты понял, что па самом деле любишь Сесиль лишь постольку, поскольку опа
воплощает для тебя образ Рима, его голос, его зов, что ты не любишь ее без Рима и
вне Рима, что ты любишь ее только благодаря Риму, потому что она, как никто другой,
была и осталась твоим проводником в этом городе, вратами Рима — так в католических
литаниях деву Марию называют вратами неба,— значит, тебе падо разобраться, почему
Рим полон для тебя такого обаяния, а также почему это обаяние столь неустойчиво,
что Сесиль не может сознательно и намеренно стать полномочной посланницей Рима в
Париже, и как это вышло, что Анриетта несмотря на все, что для нее, католички,
естественно олицетворяет собой этот Город городов, видит в твоей приверженности к
нему как бы сгусток того, в чем она тебя упрекает;
по если твоя любовь к Сесиль предстала перед тобой в новом свете, в новом виде, в
повом обличье, значит, тебе падо хладнокровно и не торопясь уяснить, каков
подлинный вес и истинный смысл мифа, каким является для тебя Рим, что сопряжено с
тем обличьем, в каком предстает перед тобой эта громада, падо обозреть ее со всех
сторон, в историческом ракурсе, чтобы лучше попять, что ее связывает с твоими
собственными поступками и решениями, а также с поступками и решениями тех, кто тебя
окружает и чьи взгляды, повадки, слова и недомолвки определяют твое поведение и
чувства,— только бы тебе удалось побороть дремоту и кошмары, которые осаждают тебя
в синеватом свете ночника, отдающем тебя во власть усталости и порожденного ею
бреда.
Кто попросил потушить свет? Кому понадобился этот ночник? Прежний свет был слепящий
и резкий, но по крайней мере он освещал предметы так, что они казались прочными,
тебе мнилось, что на них можно опереться, за них можно ухватиться, и ты пытался
воздвигнуть из них преграду против коррозии, против разъедающего унизительного
сомнения, которое, точно зараза, расползается все шире, против самокопания, которое
все сильнее расшатывает части того каркаса, той металлической брони, хрупкость и
непрочность которой явилась для тебя неожиданностью;
а этот синеватый свет как бы взвешен в воздухе и создает ощущение, будто надо
пробиться сквозь него, чтобы
202
что-нибудь увидеть, этот синеватый свет да еще непрерывное покачивание и грохот, за
которыми угадывается чужое дыхание, ввергают мир в первозданную зыбкость, когда
восприятие теряет свою четкость, предметы узнаются по отдельным признакам и
кажется, будто не только ты их рассматриваешь, но и они тебя рассматривают;
а тебя самого ввергают в то бесстрастное отчаяние, толкают к тем изначальным
чувствованиям, когда ложные представления рушатся и над их развалинами мощно и
властно утверждается влечение к тому, что истинно в своем существовании.
Ты разглядываешь назойливую синеватую лампочку, похожую на крупную жемчужину,— ее,
пожалуй, не назовешь яркой, но ее густой, бормочущий цвет рождает мягкие отголоски
на руках и на лицах спящих,— и под куполом плафона, где она скрыта, видишь два
хрупких прозрачных шара, а внутри них угадываешь остывшие волоски, еще недавно
ослепительно лучистые, как в лампах коридора, за окнами которого время от времени —
правда, все реже и реже — мелькают улицы какого-нибудь приморского поселка, где еще
не совсем замерла вечерняя жизнь.
В понедельник вечером Сесиль, выйдя из дворца Фар-пезе, поищет тебя глазами и
увидит возле одного из продолговатых фонтанов, где ты будешь ждать ее со страхом,
потому что вот тут, за ужином в ресторане «Тре Скалини», тебе и придется сказать ей
правду, начать мучительное выяснение отношений, ибо ты понимаешь сам: больше
молчать нельзя — нельзя допустить, чтобы она по-прежнему думала, будто тебе еще
предстоит принять решение, воображала, что ты все еще ищешь и вот-вот найдешь для
нее работу в Париже, а на самом деле ты больше искать не станешь, на самом деле ты
уже нашел.
Нельзя не сказать ей именно в эту минуту — в ту самую минуту, когда ты вот-вот
расстанешься с ней после безраздельно посвященного ей пребывания в Риме, после
нескольких дней, когда она так упивалась неожиданной радостью, которую ты ей
доставил, которую доставишь ей через несколько часов, когда она уже поверила, что
наконец одержала верх,— нельзя не сказать ей, что вначале ты собирался порадовать
ее еще одной новостью:
203
ты наконец нашел для нее подходящую работу, она скоро переселится в Париж, она
может взять расчет в посольстве, начать готовиться к отъезду и прощаться с Римом,
перебирая в памяти все то, что вы оба успели о нем узнать;
нельзя не сказать ей, что ты предпринял шаги, чтобы найти вам квартиру, что у тебя
на примете было несколько вариантов, что все было подготовлено, улажено и ты от
всего отказался;
нельзя не сделать попытки объяснить ей, по каким причинам произошло это изменение,
чтобы она поняла, что ее надежды тщетны,—'
нельзя промолчать, потому что в твоей поездке, предпринятой ради нее одной, она
непременно увидит некое обещание и торжественную клятву, и в силу этого твое
молчание станет чудовищной ложью, и эта ложь отравит отношения, которые ты хотел бы
сохранить с нею, и твои отношения с Римом, замутит и осквернит твою духовную связь
с этим городом, которую ты стремишься облагородить.
А стало быть, придется в этот последний вечер — ведь ты хочешь тяпуть до последнего
вечера, чтобы хоть несколько дней вы могли насладиться вдвоем видимостью счастья,
которое от вас ускользает, прожить хотя бы частицу той жизни, которая, ей казалось,
была уже не за горами, но теперь все больше отдаляется от тебя, обнаруживая свою
несбыточность и иллюзорность,—
в ресторане «Тре Скалини», перед фонтаном Четырех Рек,— Сесиль будет взволнована
твоим предстоящим отъездом, но все-таки бесконечно счастлива тем, что и в этот
вечер ты все еще безраздельно принадлежишь ей; «Это залог,— будет все еще думать
она,— более прочного обладания в других краях», придется пайти в себе мужество.
и нанести ей удар, причинить горе, объявить ей, попытаться ей объяснить, что все
было подготовлено и все рухнуло,
по ты пе в силах объявить, растолковать ей это; даже если бы ты заранее заготовил
все слова, выражение ее лица — ее удивление, непонимание — отняло бы у тебя силы.
Все обстоятельства, все твои поступки в предшествующие дни будут опровергать в ее
глазах твои слова; она не поверит тебе; опа увидит в этом проявление душев-
204
пого благородства, жертву, принесенную ради Анриетты, и она будет ревновать к ней и
ненавидеть ее, она увидит в этом последнюю предсмертную вспышку старой
привязанности, вообразит, что надо просто еще немного подождать (ведь ты сам ей
только что сказал: «Все наконец подготовлено»),— и последние цепи, сковывающие твою
решимость, будут разорваны.
Твое признание вселит в нее надежду и доверие к тебе, которых она до сих пор не
питала, и таким образом пе твое молчание, а как раз наоборот — твоя искренность
обернется ложью, потому что Сесиль тебя не поймет, потому что все, что ты сделал,
помешает ей тебя понять.
Они оглянутся назад и уставятся на пятно, на обломки штукатурки и кирпича, дождем
посыпавшиеся на пих,— а в некоторых попадут еще осколки стекла,— с удивлением и
гневом отпрянут в сторону, их тарабарщина зазвучит еще более возбужденно и злобно,
и в эту минуту из круга выступят полицейские, схватят тебя, по не грубо, а скорее
даже с жалостью, и, видя, что ты еле жив, еле волочишь ноги, а шероховатый, жгучий
песок сквозь дыры в стертых подметках обдирает тебе кожу, поддержат тебя под мышки
и приподнимут твою голову, которая, однако, снова будет никнуть, и даже попытаются
ободрить тебя невнятными сочувственными словами;
и поведут тебя по улицам Трастевере, а те, что, попивая «Фраскати», сидят за
столиками перед очагом, рдеющим в глубине почти совсем темных сводчатых пиццерий,
окинут тебя подозрительным взглядом, и камни мостовых будут дышать зноем римской
ночи.
Через двери какого-то храма, между колоннами, ты увидишь лоснящегося идола,
дымящийся факел и клубы фимиама, его облачко долетит и до тебя, а семья Да Понте в
полном составе будет смотреть из окон дома па площади, не узнавая тебя.
Тебя приведут во двор, заставленный ружьями, крестами и шпагами, ты поднимешься по
узкой витой лестнице под самую крышу Дворца правосудия на берегу Тибра и из круглых
окошек увидишь освещенный купол собора святого Петра, освещенный памятник Виктору-
Эммануилу, площадь Терм с вокзалом, услышишь гул, поднимающийся от Колизея,
отстроенного заново,— и очутишься у маленькой черной двери.
Твое поведение в этот последний вечер тоже помешает Сесиль понять все, что ты ей
скажешь,— ведь тебе не к че-
205
МУ будет возвращаться в отель «Квиринале» за своим чемоданом и торопиться после
ужина; ты вернешься вместе с нею на улицу Монте-делла-Фарина, номер пятьдесят
шесть, и проведешь конец вечера в ее доме, ставшем на три дня и твоим домом; и
каждый твой шаг на обратном пути — а твои шаги будут нетвердыми от душевного
смятения, от желания ее разубедить, оттого, что ты уже потратил для достижения этой
цели столько тщетных усилий за ужином и еще потратишь по дороге домой, оттого, что
ты заранее почувствуешь усталость, которая ждет тебя в поезде,— каждый твой шаг и
каждая твоя ласка, каждый звук твоего взволнованного, влюбленного голоса будет
опровергать для нее твои слова.
И она еще будет подбадривать, поддерживать тебя, и, к своему стыду и отчаянию, во
тьме римской ночи ты увидишь на ее лице улыбку торжества — увы, совершенно
иллюзорного, которую она попытается утаить от тебя, полагая, что подыгрывает тебе и
тем самым помогает.
Лежа вдвоем в ее постели, над которой висят снимки Парижа, вы будете разговаривать
и ласкать друг друга; но нет, если ты хочешь, чтобы она поверила, что, найдя для
нее в Париже работу и жилье, где вы могли поселиться вдвоем, пусть даже временно,
ты потом от всего отказался, слишком ясно поняв, насколько хрупка твоя любовь и как
неразрывно связана с Римом,— надо объясниться гораздо раньше.
Она будет слушать тебя, но не поймет и подумает: «Я и не подозревала, что он
способен на такую верпость, на такую честность; как я благодарна ему, что он
признался мне во всем! Я знаю его лучше, чем он сам себя знает, верю в него теперь
больше, чем он сам в себя верит; мне осталось потерпеть всего несколько недель; я
помогла ему стряхнуть с себя робость, которая его сковывала; я — его сила и его
молодость».
Нет, чтобы понять значение твоих слов, ей нужно время, а стало быть, ты должен
заговорить с ней накануне или даже за два дня до последнего вечера, то есть уже
завтра, и тогда ночью, охраняя твой сон, и в понедельник, вдали от тебя, за работой
во дворце Фарнезе она сможет вновь обдумать то, что ты сказал, она сможет
расспросить тебя снова и снова убедиться, что твои слова надо понимать в самом
прямом смысле и истолковать их как-то иначе нельзя.
А стало быть, придется испортить те два или три дня,
206
когда ты все-таки надеялся воспользоваться свободой — той самой свободой, на
завоевание которой ты пустился.
Так неужели же все твое пребывание в Риме на этот раз, увы, будет отравлено
недоверием, попытками Сесиль разорвать то, что ей будет казаться последним звеном
сковывающей тебя цепи, и ее ласковыми насмешками, против которых тебе будет так
трудно, почти невозможно устоять?
Впрочем, даже если уже завтра ты скажешь ей всю правду (но как ее сказать?), в
понедельник вечером она проводит тебя до платформы, до вагона третьего класса, на
котором по-итальянски написано: «Пиза — Генуя — Турин — Модан — Париж», и, по-
прежнему ничего не понимая, будет думать, что ты хочешь, чтобы она оказала на тебя
давление, что ты неискренен в своем отречении, и будет цепляться за то, что
покажется ей таким неоспоримым: за твою поездку в Рим по секрету от фирмы
«Скабелли», за найденную для нее работу,— ты рассказал о ней во всех подробностях,
потому что она выпытывала у тебя точнейшие сведения, вначале опасаясь, что ты
обманываешь ее совсем в ипом смысле,— и когда ты займешь книгой место в купе
(хорошо бы такое, на каком ты сидишь теперь) и выйдешь из вагона, чтобы побыть с
нею и поцеловать ее, она, без сомнения, и на этот раз спросит, как обычно:
— Так когда же ты вернешься? —
в надежде, что волнение и вокзальная суета заставят тебя, наконец, сбросить эту
новую маску,— ведь она будет думать, что ты надел эту маску просто для того, чтобы
испытать ее, Сесиль, а главное, разыгрываешь комедию перед самим собой, чтобы хоть
как-то разрядить внутреннее напряжение,—
в надежде, что в следующий раз ты вернешься окончательно, еще тщательнее продумав
свой прекрасный план, и только будет сожалеть, что эти несколько дней ей пришлось
так мучительно бороться и что они еще не стали частйцей той счастливой жизни,
которая уже не за горами,—
так неужели ты и впрямь решишься, неужели найдешь слова, а если найдешь, неужели у
тебя и впрямь хватит мужества за несколько минут до отъезда, когда предстоит такой
трудный, такой долгий, такой одинокий путь, неужели у тебя хватит сил открыть ей
глаза?
Нет, это тебе не под силу, а стало быть, если ты не хочешь, чтобы она обманулась и
увидела в твоем приезде в Рим и вообще в тех замыслах и поступках, которые
207
привели тебя в Рим,— а тебе придется подробно ей о них рассказать — решающий сдвиг,
да еще в направлении, прямо противоположном тому, какое тЛерь выявилось на самом ;
деле, тебе остается одно: сделать так, чтобы она узнала о твоей поездке позже,
гораздо позже, может быть, через третьих лиц, может быть, из намеков, тогда, когда
ее вера в тебя, которая теперь была бы просто обманута, понемногу угаснет или
преобразится.
Стало быть, на этот раз ты должен отказаться от свидания с Сесиль; ты ей не сообщил
о своем приезде, и она тебя не ждет.
Стало быть, Сесиль не должна знать, что ты приезжал, что ты нашел для нее работу,
нашел место, потому что для нее это все равно, как если бы ты ничего не нашел, как
если бы ты и не искал,— для нее, но не для тебя,— потому что отныне ты его искать
не будешь, отныне ты знаешь, что ничего не найдешь.
Да, тебе остается одно — перед тобой блеснул наконец свет, точно ты выбрался из
туннеля: не увидеться с ней, ничего ей не сказать, встретиться с ней только в
следующий раз, когда ты поедешь в Рим по делам за счет фирмы «Скабелли», как и было
условлено; хранить тайну, запекшуюся на языке, и при этом, конечно, продолжать с
нею встречаться, по-прежнему ее любить, хотя между вами возникнет и с каждым разом
будет все мучительней углубляться трещина, она не сможет зарасти именно из-за этой
твоей поездки, которая идет сейчас своим чередом,— хранить тайну, пока не настанет
день, когда Сесиль уже достаточно отдалится от тебя, когда ее иллюзии развеются
настолько, что ты сможешь рассказать ей все, пе боясь, что она ложно истолкует твои
слова;
тебе остается одно: не увидеть из окна купе или коридора, когда ты опустишь стекло,
как она бежит и делает тебе знаки, выбиваясь из сил;
не увидеть в последний раз вдалеке на ее лице, уменьшенном расстоянием,— ты
угадываешь, что она запыхалась, раскраснелась от бега и волнения и, возможно, даже
плачет,— ту новую улыбку, выражение упрямого, непоколебимого доверия, гнетущей
благодарности, которые уже не в твоей власти поколебать, пока не произойдет
множество постепенных, жалких, глупых и неизбежных душевных крушений, и которые не
позволят тебе отступиться от рискованной затеи, приведшей тебя сегодня утром па
Лионский вокзал и уже заведомо обреченной.
208
Стало быть, тебе придется в одиночестве приехать на вокзал Термини, думая о Сесиль
тем более неотступно, что и минувшие дни ты делал все от тебя зависящее, чтобы не
встретиться с нею,
и глядеть на убегающую вдаль многолюдную ночпую платформу, где ты не увидишь ни
одного знакомого лица.
Перед твоими глазами промелькнут пригородные стап-ции: Рим-Тусколана, Рим-Остьенсе,
Рим-Трастевере. Потом кто-нибудь попросит, чтобы погасили свет.
Ты приподнимаешь голову, вертишь ею, чтобы шейные позвонки встали на место,
открываешь глаза и, скользпув взглядом вверх, по лицу старика итальянца, по его
разинутому рту, торчащим усам, ноздрям, по ободку его выпуклых очков, смотришь на
прямоугольник стекла, под которым должен быть горный пейзаж, но он сейчас не виден
из-за желтых бликов, падающих из коридора; сбоку, в зеркале, то появляется, то
исчезает плывущая где-то за окном — на нем забыли опустить штору — полная луна.
За окном над крышами и газгольдерами пригорода плыл молодой месяц.
Ты вышел в коридор вагона первого класса, набив карманы сигаретами, а за твоей
спиной проходили те, кто ужинал в первую смену.
В купе кроме тебя был только один пассажир, толстяк твоих лет, куривший маленькие,
сухие, почти черные сигары, а над ним в багажной сетке лежали два огромных красных
чемодана.
Почти вся листва уже опала, и за окном сквозь ветви деревьев было видно, как
покачивается молодой месяц, похожий на вертикально стоящую лодочку.
Опустив левую руку на широкий подлокотник, откинувшись затылком на белый, новенький
ажурный чехол, ты приложил другую руку к стеклу, пытаясь разглядеть в темноте
вокзал Лом-Алезиа и депо старых паровозов, а по коридору возвращались те, кто уже
закончил свой ужин.
Над тобой в багажной сетке лежал не только твой зеленый чемодан, который лежит в
ней и сейчас, но еще и светлый кожаный портфель, доверху набитый бумагами и
документами; в руках ты держал оранжевую папку с материалами реймского отделения.
За окном мягко поблескивали воды Соны. Толстяк попросил у тебя разрешения потушить
свет, потом опустил
209
штору, а ты вышел в коридор и стал курить одну сигарету за другой, разглядывая
почти безлюдные платформы Макона и секундную стрелку, прыгающую по циферблату.
Свет только что зажгли — вы приехали в Модан; та-можеппый чиновник деликатно
постучал ключом в стекло.
Маленькая черпая дверь отворилась, и тебя ввели в темную комнату со сводчатым
потолком, едва различимым в темноте над рядами полок, уставленных шкатулками и
книгами.
За длинным столом сидит человек с пухлыми руками, он что-то говорит тебе, но ты пе
понимаешь его слов и озираешься вокруг, на стражников, которые покачивают головой,
бросая на тебя сострадательные взгляды, на мужчин и закутанных в белые и черные
покрывала женщин.
И тут, собрав все свое мужество, ты закрываешь глаза, поднимаешь обе руки, прося
слова, и, почувствовав, что все окружающие затаили дыхание, чтобы лучше слышать,
начинаешь объяснять, выбирая самые безупречпые итальянские обороты:
«С моей стороны тут не было злого умысла, я готов принести публичные извинения, я
занимаюсь продажей пишущих машинок, я способствую экономическому процветанию вашей
страны, я — один из тех, кто скромно служит ей, меня знают в городе как порядочного
человека, вы можете справиться у Скабелли»;
но ты сам чувствуешь, что продолжать бесполезно, они не могут понять тебя; слова,
которые ты так тщательно выговариваешь, застревают у тебя в горле, и изо рта
вырывается только свист, все более резкий, все более пронзительный, так что наконец
все присутствующие медленно встают, хотя вначале они были готовы выслушать твою
защитительную речь, и, сжав кулаки, наступают на тебя, чтобы оборвать этот
мучительный и бессмысленный звук.
Таможенный чиновник потушил свет, поезд тронулся и углубился в туннель, а ты
положил ноги на скамыо напротив и проснулся только в Турине, где на вокзале царило
оживление, несмотря на предрассветный час, и где в вагон вошли два священника в
мягких шляпах, они зажгли свет и стали обсуждать — отдельные слова их разговора
вдруг долетали до тебя, на секунду пробуждая любопытство,— скучнейшие происшествия
из жизни какого-то генуэзского коллежа.
Пока ты брился, матовые стекла постепенно стали светлыми, а пока ты пил в вагоне-
ресторане пенистый кофе с
?Ю
молоком и ел пирожные с вареньем, которые в Италии па* зывают рогаликами,
окончательно рассвело; небо было совершенно чистым, если не считать двух-трех
аккуратно очерченных облачков, которые меняли свою окраску, проплывая над городом;
на улицах гасли фонари, с грохотом катились молочные фургоны, в темноте показались
первые велосипедисты. И вдруг из расщелины, мелькнувшей на горизонте, впезапно
брызнуло восходящее солнце, его горизонтальные лучи обшарили стол, за которым ты
сидел, выпукло обрисовав на нем каждый предмет и подчеркнув длинными тенями даже
крошки.
Складки черных сутан в твоем купе наполнились золотистой пылью, и разговор на
мгновение умолк. Туннели оборвали это великолепное зрелище. В Генуе при выходе из
скалы ты залюбовался на стоявшие в порту корабли с их белыми шлюпками, на блики в
стеклах, едва ли пе более яркие, чем блики в ласковых волнах, и на высокий маяк, в
тени которого на мгновение гасли чайки.
Все трое твоих попутчиков сошли на Главном вокзале; священники, перекинув через
руку плащи и легко покачивая большими черными чемоданами, как видно, почти пустыми,
продолжали беседу и па платформе, толстяк, полусонный, небритый, высунувшись из
окна в коридоре, подзывал «факкино», а ты, стоя рядом с ним, вдыхал свежий воздух,
курил первую утреннюю сигарету, забавляясь растерянностью толстяка, видом его
помятого лица с брюзгливо искривленным ртом, и, помогая ему снять чемоданы и
передать их носильщику, думал: «Он, пожалуй, всего на несколько лет старше меня,
вот каким я стану, если не приму меры».
Теперь ты видишь отражение луны, искаженное, похожее на след какой-то ночной твари,
уже не в зеркале, а над головой Аньес, волосы которой отливают в лунном свете
ртутью, в стекле снимка — сейчас он невидим, но ты знаешь, что на нем изображены
парусные лодки у набережной. Поезд проезжает Виареджо.
Выходит, ты спал дольше, чем тебе казалось.
Ах, если уж не удается побороть сон и эти навязчивые, тяжелые сновидения, так хоть
бы уж уснуть надолго, чтобы дремота не прерывалась каждую минуту, оставляя у тебя в
голове и в желудке след своих тлетворных испарений, свой ядовитый привкус!
211
Хоть бы уж не просыпаться то и дело и, если не удается стряхнуть с себя кошмары,
предоставить им однажды полную волю и — конец, и ты отмоешься, избавишься от них,
как от висящей в воздухе гари, которая липнет к твоему лицу, как от щетины, которая
за ,время пути отросла у тебя па подбородке;
хоть бы устроиться на сиденье так, чтобы по-настоящему заснуть до рассвета, как
заснули все остальные пассажиры и даже молодая женщина, вошедшая в Генуе, которая
так низко склоняется в твою сторону, что, кажется, ее голова вот-вот коснется
твоего плеча; женщина оседает все ниже, потом, пе открывая глаз, со вздохом
выпрямляется, и снова голова ее никнет, плечо никнет, ладонью вытянутой руки опа
опирается на сиденье (при каждом более сильном толчке рука ее сгибается в локте,
потом напруживается снова), и в прорези ее полуоткрытого рта между лиловыми губами
поблескивают зубы.
Но вот пальцы женщины мягко скользнули к самому краю сиденья, скользнули вдоль
него; рука переломилась, тело клонится в твою сторону; плечи отделились от спинки
сиденья; левая рука тыльной стороной задела платье па бедрах и повисла так низко,
что касается ногтями отопительного мата. Кожа на затылке женщины между ворот-пиком
и волосами образует чуть более светлый полукруг.
Если ты и в самом деле уже проехал Виареджо (сейчас вы, наверное, проезжаете
сосновую рощу и удаляетесь от моря), значит, скоро будет Пиза,— ты пе помнишь
точно, в котором часу, это указано в расписании, оно лежит в чемодане наверху, но
тебе не хочется вставать лишний раз. Ты смотришь на часы; почти четверть второго;
ты не помнишь, на сколько они спешат; не помнишь, когда ты их завел и поставил.
Сейчас уже не имеет смысла стараться заснуть, потому что поезд тряхнет па
остановке, зажжется свет, а может быть, войдут новые пассажиры.
Не Арно ли это поблескивает за окном?
Вот стали видны городские стены, лампы на проводах — опи еле-еле освещают безлюдные
улицы,— зеленые и красные огоньки, другой поезд, товарный, с автомобилями на
платформах; медленно скользит вокзал; какой-то человек катит по пустынной платформе
тележку, груженную тюками с почтой, другой стремительно выбегает из конторы, бросив
на стол телефонную трубку; поезд встряхивает даже сильнее, чем ты ожидал.
212
Твоя соседка, приподнявшись на локте, выпрямляется, садится, разглаживает пальцами
брови, откидывается на спинку, снова закрывает глаза, и ее нахмуренное лицо
постепенно проясняется.
Аньес встрепенулась. Пьер снимает с плеча жены руку, несколько раз сгибает и
разгибает ее в локте, наклоняется к окну, вытягивает шею, чтобы получше рассмотреть
вокзал, говорит: «Это Пиза!» — смотрит на часы: «Еще четыре с половиной часа, и мы
в Риме»,— берет руки Аньес в свои, кладет ее голову к себе на плечо, обпимая и
лаская жену, словно они одни в купе.
За твоей спиной распахнулась дверь; ты оборачиваешься и видишь одного из
стражников; прикрывая лицо локтем, оп вводит человека, черты которого тебе не
удается рассмотреть,— одет человек в такую же одежду, как твоя, только совсем
новую, держит в руке чемодан такого же фасона, как твой, но с виду пришелец немного
старше тебя.
Комиссар произносит несколько слов, которых ты по-прежнему не понимаешь, и пе
успевает он кончить, как пришелец произносит неожиданно понятные фразы:
«Кто ты такой? Куда ты идешь? Что ты ищешь? Кого ты любишь? Чего ты хочешь? Чего ты
ждешь? Что ты чувствуешь? Ты меня видишь? Ты слышишь меня?»
И все погружается в густой синеватый сумрак с лиловым провалом круглого окна.
Стражники вдоль стен все как один запрокинули головы и закрыли глаза.
Поезд трогается, и все вздрагивают от толчка.
Сидящий напротив тебя старик итальянец не проснулся на остановке, а теперь он
закашлялся, вынул платок, снял очки, протер стекла и почесал веки и горбинку носа.
Молодая женщина рядом с тобой шевелит губами, словно упрямо повторяет себе что-то,
словно во что бы то ни стало хочет себя в чем-то убедить, и кивает головой, потом
ее кивающая голова понемногу поворачивается вправо, и вот она уже трется виском о
спинку сиденья, плечо начинает потихоньку опускаться, клониться вниз, локоть
сгибается, ноги, стоявшие совершенно прямо и параллельно одна другой, сближаются, и
платье образует подрагивающую впадинку между коленями.
Старуха итальянка смотрит на нее, сцепив пальцы рук, потом поворачивает лицо к
окну, расцепляет пальцы, поднимает руки как для молитвы, чуть заметно поводит
плечами, снова сжимает руки и, уронив их на свою черную юбку, опять бросает взгляд
па обмякшую молодую жспщи-
213
ну,— ее плечи бурно вздымаются во спе, и тебе кажется, что женщина сейчас свалится
на тебя, а ты хотел бы поцеловать ее волосы и тоже рухнуть рядом с нею.
Лупа светит прямо в лицо Аньес, ее глаза открыты, роговица отливает фарфоровым
блеском, а в черном зрачке мерцает точка, похожая па влажное острие копья.
Лицо Пьера обращено к тебе профилем, и кажется, будто он страстно нашептывает что-
то своей возлюбленной, но он спит; во всем купе сейчас спит только он один; тебе
тоже надо заснуть, надо устроиться поудобпее и заснуть.
Пиза уже далеко позади; вы снова приближаетесь к морю; скоро будет Ливорно; ты не
помнишь, есть ли там остановка.
Аньес тихонько отстраняет руку Пьера; рука падает; запястья Пьера касаются края
сиденья, пальцы слегка согнуты, а ладони обращены кверху.
Ухватившись за обод багажной сетки у тебя над головой и другой рукой приподняв
юбку, Аньес выходит.
Тебе хочется уснуть; ты опускаешь штору па стекле у твоего виска, сидящий напротив
старик итальянец следует твоему примеру и тоже опускает штору — штору на двери.
Теперь в купе виден только синеватый свет ночника и полоска лунного света на пустом
месте, где сидела Аньес. За окном в темноте автомобильные фары освещают вдруг ряды
сосен.
В пустом купе, с посланиями императора Юлиана в руках — пригороды Генуи остались
позади, солнце поднималось над крышами и над горами, его лучи становились ярче и
струились по твоему лицу, палящие и ослепительные,—
ты пересел на другое место, у самого окна,— колокольни еще отбрасывали длинные
тени, на дорогах стало оживленно, женщины уже стирали белье в реке, по другую
сторону дороги, среди высоких мысов и вилл, иногда появлялся вдруг треугольник моря
с ослепительным парусом, и в садах еще отцветали последние цветы;
(в заливе Ла Специа по зеленой воде вереницей тянулись серые суда);
лампы не горели, не горел даже ночник, и чередование туннелей подчиняло освещение
своему ритму;
ты видел, как промелькнул вокзал Виареджо, и поезд, покинув страну лигурийцев,
покатил по земле этрусков;
214
(сосны покачивались на ветру, поезд удалялся от моря);
потом над корою крыш из итальянской череппцы, на фоне низких холмов ты увидел
ослепительные, точно парусники или чайки в морском порту на восходе солнца,
собор, часовню, падающую башню,— ты мечтал рассмотреть ее поближе каждый раз, когда
прэезжал этот город в этот час, при этом освещении,— а на пего здесь почти всегда
можно рассчитывать,—
но ты ни разу не сошел в Пизе, тебе всегда было некогда.
Ты всегда торопился в Рим, не задерживаясь на промежуточных станциях,— тебя ждали
дела, тебя ждала Сесиль.
Но сегодня Сесиль не знает, что нынче ночью ты едешь к иен; Скабелли не знает, что
ты едешь в Рим.
По прямым, залитым солнцем улицам Ливорно — ты вскоре по ним проедешь, но их не
увидишь — тянулась погребальная процессия. На платформе что-то выкрикивал разносчик
газет (сейчас там не будет никого, кроме железнодорожных служащих), от допотопного
паровоза валил густой дым. Снаружи веяло теплым, свежим воздухом, пропитанным
запахом соли, канатов и угля; луч солнца ласкал твой чисто выбритый подбородок.
В темной комнате все замерло, и ты почувствовал, как твоя голова тоже
запрокидывается назад.
В лиловый провал круглого окна порывами врывался ветер, приносивший песок, пыль и
запах тления.
Все погрузилось в синеватый сумрак, он сгустился настолько, что ты уже не различал
лиц стражников, сидевших па стульях вдоль стен друг против друга, и казалось, они
мало-помалу уходят в глубь этих стен; но при этом ты слышал их равномерное дыхапие,
все более громкое, все более жесткое, все заметнее окрашенное призвуком металла.
Ты чувствовал, что ноги тебя больше не держат, что они уже больше не стоят на
земле, а постепенно отрываются от нее и твое распростертое тело начинает вращаться
в пространстве перед закрытыми глазами сидящих людей.
Теперь ты не видел уже ничего, кроме свода, под которым ты поплыл, словно внутри
туннеля, а стражники с той же скоростью начали перемещаться вдоль стен, не двигая
при этом ни руками, ни ногами.
215
Теперь ты знал, где находишься: следы краски, остатки гипсовой лепнины, подтеки,
красноватые светильники, вокруг которых стены изъедены огромными вязкими зелеными
пятнами,— это подземелья Золотого дома Нерона.
По временам в круглые отверстия видно ночное небо. Вдруг туннель расширяется, и
все, что было в движении, замирает.
Поезд стоял у платформы (остановка, наверное, уже была, и Ливорно уже позади), это
все еще был Ливорно (света в Ливорно не зажгли), сквозь клубы дыма над ливорнским
вокзалом сверкало солнце (в купе появился новый пассажир, и Аньес вернулась на свое
место, а ты даже не проснулся), ты был в купе один; перевесившись через открытое
окно, ты купил газеты у разносчика, а когда поезд отошел от ливорнского вокзала,
стал глядеть на залитые утренним солнцем — в Тоскане в начале ноября оно еще палит
вовсю — деревни, холмы, пустынные пляжи с рядами синих и белых купальных кабин, на
тот самый пейзаж, который ты сейчас проезжаешь ночью, погрузившись в тяжелый,
прерывистый и мучительный соп.
В окнах прохода за морем показался мыс Пьомбипо, остров Эльба.
Когда поезд проезжал Маремму, ты завтракал в первую смену в вагоне-ресторане,
напротив тебя сидела красавица римлянка, ты глядел на нее и вспоминал Сесиль.
И снова над головой Аньес, в стекле невидимого снимка, где изображены парусники у
набережной в маленьком порту, искаженное отражение луны напоминает след какой-то
ночной твари, и не просто отпечаток лапы, а самые когти, которые то прячутся, то
показываются снова, словно им не терпится кого-то схватить; отражение перемещается
к краю зеркала, к окну, но вот за стеклом выплывает сам круглый диск лупы,
вздрагивая, утверждается посредине стекла и вдруг заливает купе таким ярким светом,
что между твоими ботинками оживают, начинают поблескивать ромбовидные чешуйки
металлического отопительного мата.
Приближаясь к Пизе, при синеватом свете ночника ты смотрел, как она спит, точно это
была незнакомка, встреченная тобой в поезде, вроде женщины, дремлющей рядом
216
с тобой,— ее великолепные плечи бурно поднимаются и опускаются, а волосы щекочут
тебе пальцы, все еще сжимающие книгу, которую ты так и не открыл,— и во сне она не
поникла на сиденье, а осмелилась прижаться к тебе, а ты воспользовался ее сном и
осмелился привлечь ее к себе, хотя она не обмолвилась с тобой ни словом, хотя ты не
слышал звука ее голоса;
и убеждал себя: я не знаю ее имени, не зпаю, кто она, не знаю ни- того, итальянка
она или француженка, ни того, когда она села в поезд, я, наверное, спал, а
проснувшись, увидел, что к моей шее прильнуло прекрасное лицо, моя рука лежит на ее
бедре, ее колено ласково касается моего, а закрытые глаза почти у самых моих губ.
Штора была опущена только на окне, но не на перегородке, к которой ты прижимался
виском, и по усеянному каплями стеклу с той стороны прохода можно было догадаться,
что хлещет осенний дождь.
Ты устал от пребывания в Париже, устал от дороги, от попыток подтасовать парижские
воспоминания, перекроить их в тайниках души; тебя изредка пробирал озноб, и на
трепет твоего тела отзывалось трепетом тело Сесиль, но она тут же успокаивалась
вновь, вновь начинала свободно дышать, и казалось, на твои разбитые члены, па твои
шрамы, врачуя мучительную изжогу, ломоту в суставах и нервный зуд, проливается
целительный бальзам — мягкий, теплый, затаенный свет, хмельной и ласковый,
излучаемый римским воздухом, римскими стенами, шагами, речами и названиями, к
которым ты приближался.
Поезд шел без остановок от самого Ливорно; проехали Маремму; ты пытался задремать;
в Чивита-Веккии Сесиль проснулась.
Все, что было в движении, замерло; наверху прямо перед собой ты увидел изображение
Потопа; и вдруг все твои спутники, мужчины и женщины, стали расти у тебя на глазах,
подниматься вдоль стен и под самым потолком изогнулись, повторяя линию свода.
Ты был распростерт в воздухе, а по обе стороны от тебя двигалась процессия в
кардинальских шапках и мантиях, и каждый кардинал, поравнявшись с тобой, шептал
тебе на ухо: «С чего ты взял, что непавидишь нас? Разве мы не римляне?»
Потом, па sedia gestatoria несомый четырьмя гиган-
1 Паиские носилки (ит.).
217
тами из черного мрамора с янтарными глазами, покачиваясь в такт их шагам, среди
огромных опахал из перьев, под балдахином белого и золотистого шелка, в перчатках,
унизанных кольцами, и в тиаре появился папа; у него было усталое лицо, глаза
прятались за толстыми стеклами круглых очков, и в то мгновение, когда его поги
почти коснулись твоих, он голосом, идущим словно из глубины могил и глухо
повторенным живыми степами, очень медленно, очень печально возвестил:
«О ты, что недвижимо застыл в воздухе у моих ног и пе в силах пошевелить губами или
хотя бы смежить веки, чтобы не видеть меня,
ты, который хотел бы уснуть, прильнув к земле, но ныне отторгнут от нее,
ты, преследуемый сонмом образов, с которыми не можешь совладать и которым не можешь
дать имя,—
с чего ты взял, что ты любишь Рим? Не есмь ли я тень императоров, из века в век
посещающих столицу своего рухнувшего и оплакиваемого мира?»
Но вот голова папы становится серой, потом его облачение окрашивается в синеватые
тона, и он тает в воздухе, и посредине зала остается только сгусток более яркого
света.
Кто-то из пассажиров, собираясь сходить, зажег свет, чтобы снять чемодан с багажной
сетки. Разбуженная Сесиль не понимала, где находится, и пока поезд стоял, все
смотрела на тебя, не узнавая, с таким видом, точно ей приснился дурной сон и она
пытается его прогнать, хотя с виду она спала спокойно.
Когда ты брился, на тебя из зеркала смотрело усталое, бледное лицо.
Ты остался стоять в проходе — она сидела в купе, неподвижно, с открытыми глазами,
на том месте, с которого ты встал,— и глядел в окно сквозь потоки дождя на
пригородные станции, мимо которых вы проезжали: Рим-Тра-стевере, потом река и мост,
по которому, подпрыгивая, катился молочный фургон, отражаясь фарами в черной бурной
воде, Рим-Остьенсе, потом темные крепостные стены, а над ними угадывался свет
медленно пробуждающегося города, площадь Зама, Виа Аппиа Нуова, Рим-Тусколана.
Она встала и, держа шпильку в зубах, пыталась привести в порядок прическу.
Пассажиры волокли по проходу свои чемоданы. Потом проехали Порта-Маджоре и храм
Минервы Целительницы. Поезд прибыл в Рим.
218
Луна скрылась за краем оконной рамы, но ты видишь ее заметно потускневший отсвет в
зеркале между головой Пьера и нового пассажира — его лица ты рассмотреть пе можешь,
— отсвет луны, отраженной уже от стекла фотографии с видом зубчатых стен и башен.
Поезд проезжает Гроссето.
С какой силой впиваются в твою плоть невидимые когти, как сжимают твою грудь
невидимые оковы и какими тугими кольцами обвились вокруг твоих ног невидимые змеи.
Ты медленно вертишь головой и вытягиваешь вперед сжатые кулаки, но ты ведь держал в
руках книгу, где же она? Наверное, упала на пол; согнувшись в три погибели, ты
шаришь по отопительному мату между чужими ботинками и вздрагивающими лодыжками,—
книги нигде нет.
Книга лежит на сиденье под пальцами твоей соседки,— тебе хочется легонько укусить
эту женщину в шею, чтобы она, не просыпаясь, повернула голову, протянула тебе губы
е ты обнял бы ее, лаская рукой ее грудь,—
потом книга выскальзывает из-под ее пальцев, при каждом толчке съезжает все дальше
к краю сиденья, и ты подхватываешь ее в последнюю секунду.
Тот, чье лицо тебе так и не удалось разглядеть, выходит, закрыв за собой дверь;
полоса оранжевого света ложится на его твидовый пиджак, на кисть твоей руки, па
твое колено; и снова — синеватый сумрак.
А когда сгусток рассеялся, в глубине зала показался Верховный Судия с воздетой
кверху рукой, и все огромные фигуры под сводом запрокинули головы и закрыли глаза.
«При первых же звуках моего голоса твое тело начнет извиваться в конвульсиях, точно
его уже гложут черви. Это не я выношу тебе приговор, это те, кто сопровождает меня,
и их пращуры, это те, кто сопровождает тебя, и их потомки».
Стену, на которой он явился, прорезали зигзаги молний, и от нее начали отваливаться
громадные куски.
В густом синеватом свете из-под полуопущенных век ты глядишь на запрокинутые
головы, покачивающиеся в такт движепию поезда, на закрытые глаза, а прямоугольник
ночи за окном между старухой итальянкой и хорошенькой посеребренной Аньес стал тем
временем, пожалуй, чуть-чуть более серым, а под самым потолком тянется
219
сетка — в ней лежат пожитки этих мужчин и женщин, которых ты никогда прежде не
видел и, наверное, никогда больше не увидишь;
но вот просыпается тот, кого ты назвал Пьером; оторвав плечи от спинки и упершись в
колени локтями, он разглядывает убегающий клочок сумеречного пейзажа, а та, которой
ты дал имя Аньес, тоже очнулась от сна и, взяв мужа за запястье, пытается при свете
луны разглядеть стрелки на его часах
(— ...до приезда в Рим.
— Да, примерно, ты еще успеешь вздремнуть.
— Мне хочется выйти в коридор поразмяться);
и оба встают, стараясь не потревожить тебя; он берется за ручку двери, пробует
открыть ее как можно бесшумнее, и полоса света ложится на его и на твои руки, на
разметавшиеся волосы твоей соседки; а ты пытаешься сесть поудобнее, прижавшись лбом
к шторе, но нет, так заснуть пе удается, и ты снова запрокидываешь голову.
Теперь твои глаза устремлены на синеватую жемчужину, скрытую в плафоне, ты шаркаешь
ногами по отопительному мату, пытаешься поставить их поудобнее между ногами старика
итальянца и чувствуешь, как повисшая рука молодой женщины легонько ощупывает и
поглаживает твою лодыжку, точно силится опознать какой-то предмет.
Дождь барабанил мощными струями по прозрачной крыше вокзала Термини, громыхая, как
поезд на ходу, пока вы стояли вдвоем в баре, торопливо глотая caffelatte, а
вокзальная площадь была вся в лужах, и колеса такси взметали фонтаны брызг; порывы
шквального ветра врывались под громадный павес, где вы ждали вдвоем в кромешной
тьме неподвижно, молча, подняв и потуже стянув воротники пальто, и только первые
троллейбусы говорили
о том, что скоро рассветет.
Ты донес чемоданы Сесиль до ее площадки на улице Монте-делла-Фарина и торопливо
простился с нею, не поцеловав ее, и только шепнул, как бы для очистки совести:
«Значит, до вечера»; потом ты слышал, как опа повернула ключ в замке и хлопнула
дверью.
В отеле «Квиринале», на верхнем этаже, в маленькой комнатке с балконом ты поставил
на стол чемодан, извлек из него первый том «Энеиды» в серии, издаваемой Бюдэ;
220
открыл жалюзи; сквозь ленточки воды начал просачиваться дневной свет, потом в груде
облаков над крышами улицы Национале очистилась светлая прогалина.
Прохладным вечером — воздух был все еще чуть влажен, а на небе еще упрямо догорал
уходящий день,— после утомительного и скучного совещания у Скабелли — оно
затянулось гораздо дольше, чем предполагалось, и час свидания, назначенного на
площади Фарнезе, уже давно миновал — ты медленно брел, останавливаясь перед
витринами, то и дело переходя с одного тротуара на другой, и нарочно сделал крюк
через площадь Пантеона,
словно всячески старался не дойти до площади Фарнезе (но ноги сами несли тебя туда,
и в тебе поднималась даже какая-то злость на эту дурацкую неизбежность), надеясь,
что там ты ее уже не застанешь, что ее терпение лопнуло, особенно после минувшей
ночи в поезде и первого дня на службе,
и твердил себе: «Она наверняка не дождалась меня, скоро семь часов, должно быть,
она вернулась домой, поужинает сандвичем и ляжет пораньше»,
но нет, она сидела на своем обычном месте, перелистывая модный журнал, и даже не
выказала признаков досады.
Ты едва удержался, чтобы не спросить ее, как она съездила в Париж, точно ты и
впрямь сказал правду, представляя ее Анриетте, точно она и в самом деле твоя добрая
знакомая, с которой ты встречаешься в Риме и которой ты многим обязан.
Она сказала:
— Я умираю от голода, сегодня утром на Ларго Арджентина я заметила новый
ресторан, что если мы сходим в пего для пробы, а потом я пойду спать.
На этот раз ты даже не проводил ее до дверей квартиры, не назначил ей встречи на
завтра. Она, зевнув, сделала прощальпый знак рукой, а ты пешком, поеживаясь от
холода, вернулся в «Квирииале» и почти до полуночи читал стихи Вергилия.
От стены в глубине стали отваливаться громадные куски, а центральная фигура
окрасилась в синеватые тона и стала таять, и там, где она была, остался только
сгусток более яркого света, а за ним мало-помалу открылась панорама ночного города.
Огромные фигуры, склонившиеся над тобой, что-то шептали, листая страницы своих
огромных книг.
221
Ты думал о Сесиль и твердил себе: «Это было просто небольшое приключепие, я
встречусь с ней спустя некоторое время, и мы останемся добрыми друзьями»; но на
другой день вечером — небо слегка хмурилось — ты не выдержал; выйдя от Скабелли, ты
чуть ли не бегом помчался к дворцу Фарнезе.
Вначале ты старался не попасться ей на глаза; ты следовал за ней под покровом
римских сумерек, а она торопливой, нервной походкой шла не на улицу Монте-делла-
Фарина, а куда-то в сторону, и ты стал нагонять ее, думая: «Неужели она идет к
другому?» Потом ты поравнялся с пей, некоторое время шел рядом, не в силах оторвать
от нее глаз; наконец она тебя заметила, остановилась, вскрикнула, выронила сумку и,
даже не подобрав ее, бросилась в твои объятья.
Ты поцеловал ее в губы; ты сказал ей:
— Я не могу без тебя.
— Если бы я знала, что мы увидимся, я приготовила бы обед дома.
Казалось, и воспоминание о поездке в Париж, и горький осадок от нее — все растаяло,
улетучилось. Ты снова был молод, Сесиль снова была с тобой, ты вернулся в Рим.
После ужина в маленьком ресторанчике, выходящем па остров Тиберино, вы пошли пешком
до круглого храма Весты, миновали арку Януса, поднялись на Палатин, прошли вдоль
парка на Целии, прижимаясь друг к другу, то и дело целуясь и не говоря ни слова, до
самых развалин Золотого дома Нерона (площадь Колизея в этот час еще кишмя кишела
машинами и мотороллерами),—надпись на нем гласила, что он открыт для посетителей
только по четвергам.
— Вот почему я в нем никогда не была.
— Завтра я осмотрю его за нас обоих.
Теперь луна освещает в упор голову старухи итальянки и висящий над нею маленький
блестящий прямоугольник стекла — снимок Каркассона. Ручка двери, на которой лежат
твои пальцы, зашевелилась: дверь открывается; какой-то человек просунул голову в
купе, потом снова задвинул дверь.
222
Две пижние петли шторы отстегнулись, и от толчков она мало-помалу поднялась вверх,
образовав щель, которая становилась все светлее, все шире и через которую ты видел
полоску римской Кампаньи; заря окрасила ее сначала в серый, потом в зеленый, а
потом в желтый цвет; потом над полями и виноградниками в расщелинах среди холмов
проглянули треугольники светлого неба.
Один из пассажиров поднял штору доверху, и па повороте дороги солнце окунуло в
стекло свою медную кисть и покрыло узкими пластинками раскаленного светящегося
металла щеки и лбы спящих.
Над крышей какой-то фермы взметнулась целая стая ворон, а за окнами прохода
солнечная кисть выписала в море каждую волну.
— Приехали,— сказала Анриетта, открывая глаза.
— Сейчас будет Чивита-Веккиа.
Город не был разрушен. Это было до войны. По перрону шли дети в черных рубашках.
Ты предложил ей пойти причесаться и немного освежить лицо одеколоном, но она
продолжала сидеть рядом с тобой, опершись рукой на твое плечо, и щурила глаза, не
отрывая их от восходящего солнца, которое рассеивало причудливые облака позади
сосен и вилл.
Перед старинным зданием вокзала Термини, построенным в тяжеловесном стиле прошлого
века, не было ни мотороллеров, ни троллейбусов, а только извозчики, вы позавтракали
в старомодном, унылом и темпом буфете и сели в фиакр.
В ту пору ты еще не говорил, а только читал по-итальянски, ты еще не служил у
Скабелли. Тебя восхищало все,— твоего восторга не могли отравить даже мундиры, даже
выкрики «Viva il duce!» l.
Ты спросил ее, не хочет ли она отдохнуть в вашем номере в отеле «Кроче-ди-Мальта»
на улице Боргоньоне, неподалеку от площади Испании, но нет, она желала только
одного — ходить, смотреть, и вы вдвоем отправились по улицам, которые постепенно
оживали, осматривать знаменитые холмы.
Гигантские пророки и сивиллы захлопывают свои книги; их падающие складками
покрывала, плащи и тупики колышутся, вытягивают##, теперь они похожи на громадные
черные перья и становятся все тоньше; и вот над
1 Да здравствует дуче! (ит.)
223
твоей головой уже нет ничего, кроме множества мелькающих черных крыльев, сквозь них
все явственней проглядывает ночное, туманное небо, и его купол отступает все
дальше.
Ты чувствуешь, что опускаешься вниз; ты коснулся травы. Озираясь направо и палево,
ты видишь торчащие обломки серых колонн, аккуратно посаженные кусты, а и глубине
огромную полуразрушенную кирпичную пишу.
И вот по воздуху почти над самой твоей головой к тебе приближаются маленькие
бронзовые фигурки с железными украшениями.
«Я — Ватикан, бог первого крика ребенка».
«Я — Кунина, богиня его колыбели».
«Сейя — брошенных в землю семян».
«Первых всходов».
«Завязи».
«Распускающихся листочков».
«Молодого колоса».
«Его усиков».
«Его еще зеленых цветов».
«Их белизны».
«Созревшего колоса».
Дотошные маленькие идолы древней Италии, боги расчлененного времени и действия,
пепел, из которого проросло римское право.
«Югатин, соединяющий руки мужчины и женщины».
«Домидук, сопровождающий новобрачную к ее новому жилыо».
«Домиций, опекающий ее в этом доме».
«Маптурна, блюдущая ее для супруга».
«Виргиненс, развязывающая ей пояс».
«Партунда».
«Приап».
«Венера»,—
тело ее все растет, а сама она удаляется и, выросши до колоссальных размеров, вся
светлая и золотистая, она оборачивается к тебе в просторной нише, поднимая на
ладони всех своих спутников.
Над ее головой появляются три огромные статуи: одна бронзовая, другая железная,
третья, гораздо более темная, из черной глины — Юпитер, Марс и Квирип.
И тут со всех сторон начинают стекаться люди в тогах, в доспехах или в пурпурных
плащах, на них все больше золотых украшений, короны, драгоценные камни, а па
224
плащах богатая вышивка. Ты узнаешь их одного за другим — это вся череда
императоров.
Вы вдвоем бродили по улицам и осматривали знаменитые холмы, не выпуская из рук
синий путеводитель, в ту пору еще совсем новый.
После полудня вы побывали в Форуме и па Палатине; вечером, когда уже запирали
ворота, поднялись в храм Венеры и Ромы.
— Вон там пониже в глубине,— объяснял ей ты,— по ту сторону Колизея — развалины
Золотого дома Нерона, внизу справа — триумфальная арка Константина, дальше за
деревьями виднеется цоколь храма Клавдия, ведь императоров почитали как богов.
Вокруг Амфитеатра уличное движение было довольно оживленным, но по сравнению с
прошлым годом или с нынешним машины двигались очень медленно. В ту пору только что
закончили и открыли улицу Фори Империали, разбив сад среди развалин храма.
В этот пьянящий вечер, сидя рядом с тобой на скамье, она вдруг спросила:
— Но почему Венеры и Ромы? Что между ними общего?
Ты так сильно запрокинул голову назад, что видишь, как над тобой поблескивает
прямоугольником стекла снимок. Триумфальной арки. Замелькали лампы какого-то
вокзала; должно быть, это Тарквиния.
Ты говоришь себе: главное, не шевелись, по крайней мере хоть не шевелись, избегай
лишних движений; хватит и того, что от движения поезда разболтались и со скрежетом
трутся друг о друга — словно детали заржавленного механизма — все твои былые
внутренние скрепы.
Но сопротивляться бесполезно, мускулы руки сами собой расслабляются. Точно ты
натягивал лук и вдруг отпустил тетиву — твоя кисть скользнула в сторону, пальцы
разжались; тыльной стороной они коснулись щеки твоей соседки и тотчас отдернулись,
будто обжегшись, а женщина села теперь совершенно прямо, и ты рассматриваешь ее
лицо и открытые глаза.
Правую кисть ты опять положил на дверную ручку, а та снова пришла в движение;
показалась полоска оранжевого света, в щель просовывается ботинок, потом колено,—
па сей раз это Пьер, он уходил не затем, чтобы побриться,
8 М. Бютор и др.
225
потому что руки у него пустые, он протискивается в купе, половина его подбородка
освещена, она грязная, точно Пьер плавает в чернилах,— он шарит руками, склонившись
вперед, поворачивается направо, налево, медленно и высоко поднимает то одну, то
другую ногу и наконец, сделав поворот кругом, опускается на сиденье.
Теперь ты видишь половину платья Аньес, потом ее поднятую ногу, нога неуверенно
описывает дугу, ее носок трепещет, точно стрелка гальванометра, над коленями твоих
скрещенных ног; и перед самыми твоими глазами, точно огромное крыло фазана,
раскрывается кусок юбки в складку, освещенный лучом из коридора. Аньес опирается
рукой па твое плечо, потом на спинку сиденья рядом с тобой. Она делает пол-оборота,
повернувшись на каблучке, который ей удалось поставить на пол, подол ее юбки
раскинулся на твоих брюках, твои колени стиснуты ее коленями; и на ее лице, теперь
почти полностью погруженном в синеватую тьму, появляется гримаска; потом второе
крыло фазана складывается, она делает еще пол-оборота, опирается обеими руками на
плечи Пьера, перекатывается на свое место и теперь сидит совершенно прямо, слегка
вытянув шею и глядя на черный с синевой пейзаж и редкие пятна огней на стенах.
Она даже не сделала попытки закрыть за собой дверь; старик итальянец дотянулся до
ручки, подержался за нее, потом снова убрал руку; на твоих коленях и на коленях
твоей соседки лежит оранжевый свет.
«Боги и императоры Рима, разве я не пытался вас постигнуть? Разве мне не удавалось
иной раз вызвать вас к жизни на поворотах улиц и среди руин?»
Множество лиц, огромных и полных ненависти, нависает над тобой, ты лежишь навзничь,
точно жалкая козявка, а вспышки молпий освещают эти лица, с которых клочьями
слезает кожа.
Твое тело вдавлено в мокрую землю. В небе над тобой вспыхивают молнии, сверху
сыплются огромные комья грязи и покрывают тебя с ног до головы.
На твоем запястье оранжевый свет. Проведя рукой по бедру, ты высвобождаешь из-под
манжеты часы: ровно пять. Улицы; в окнах кое-где уже виден свет; это, наверное,
Чивита-Веккиа. Ты поднимаешь штору справа от себя, и тогда на темном фоне выступает
светлым пятном лицо твоей соседки-римлянки и ее черные волосы.
Больше тебе не уснуть. Надо подняться, снять чемо-
226
дан, положить его на сиденье, открыть, вынуть туалетные принадлежности и снова
захлопнуть крышку.
Попытаться до конца раскрыть дверь, хотя ты еле держишься па ногах.
Надо выйти.
IX
Ты стоишь в купе, в духоте, в спертом воздухе, среди враждебных запахов, держишь в
руке влажный и прохладный нейлоновый мешочек в белую и красную полоску, в котором
лежат кисточка, бритва, мыло, лезвия, флакон одеколона, зубная щетка в футляре,
наполовину выдавленный тюбик зубной пасты, гребенка — все те предметы, которые ты
только что раскладывал на полочке возле маленького умывальника (его кран не
закрывается и выбрасывает воду толчками),— проводишь указательным пальцем по
подбородку, почти совсем гладкому, и по шершавой, с царапинами шее, смотришь на
капельку крови, которая сохнет у тебя на кончике пальца, потом поднимаешь крышку
чемодана, прячешь в него туалетные принадлежности и, заперев два замка из тонкой
латуни, раздумываешь, стоит ли класть его наверх в багажную сетку и не лучше ли
выйти заранее в коридор, чтобы быть наготове, когда поезд подойдет к Риму; пожалуй,
нет, осталось еще почти полчаса — ты смотришь на часы,— ровно двадцать пять минут.
Решено — ты кладешь чемодан наверх. Завалившись в щель между спинкой и сиденьем,
лежит книга, которую ты купил перед отъездом; ты ее не прочел, но всю дорогу хранил
как свой опознавательный знак, ты забыл о ней, когда только что выходил из купе, а
во спе выпустил ее из рук, и она оказалась под тобой на сиденье.
Ты берешь ее в руки и думаешь: «Я должен написать книгу; только так я смогу
заполнить возникшую пустоту, свободы выбора у меня нет, поезд мчит меня к конечной
остаповке, я связан по рукам и ногам, обречен катиться по этим рельсам.
А значит, я по-прежнему буду бессмысленно тянуть лямку у Скабелли ради детей, ради
Анриетты, ради себя самого, буду по-прежнему жить на площади Пантеона, номер
пятнадцать наивно было думать, что мне удастся оттуда вырваться; а главное — и я
это знаю,— приехав сюда снова, я не смогу отказаться от встреч с Сесиль.
8*
227
Вначале я ей ничего не скажу, ни словом не обмолвлюсь об этой поездке. Она будет
удивляться, почему я целую ее с такой печалью. Но исподволь она начнет понимать то,
что, впрочем, понимала всегда: тропинка нашей любви не ведет никуда, и по мере
того, как мы оба будем стареть, она обречена затеряться в зыбучих песках времени».
Поезд минует станцию Мальяна. За окнами прохода уже видны предместья Рима.
Еще несколько минут — и вы подъедете к прозрачному вокзалу, он так хорош на восходе
солнца — и как раз на восходе к нему подъезжает этот поезд в другое время года.
Будет еще совсем темно, и сквозь огромные стекла ты увидишь огни фонарей и голубые
вспышки трамваев.
Ты не пойдешь в отель «Квиринале», а отправишься прямо в бар и там, читая купленпую
свежую газету, закажешь caffelatte, а тем временем мало-помалу начнет заниматься,
разгораться, шириться, крепнуть утренняя заря.
С чемоданом в руке ты выйдешь на рассвете из здания вокзала (небо совершенно
очистилось, луна исчезла, все обещает на завтра прекрасный осенний день), перед
тобой, во всем великолепии своего темно-красного цвета, откроется город, и так как
тебе нельзя идти ни на улицу Монте-делла-Фарипа, ни в отель «Квиринале», ты
остановишь такси и попросишь подвезти тебя в отель «Кроче-дп-Мальта», на улицу
Боргоньоне неподалеку от площади Испании.
Ты не пойдешь к окнам Сесиль поджидать, когда откроются ставни; ты не увидишь, как
она выходит из дому; и она тебя не увидит.
Ты яе будешь ждать ее у дверей дворца Фарнезе; ты пообедаешь в одиночестве; все эти
дни ты будешь завтракать, обедать и ужинать в одиночестве.
Стараясь держаться подальше от ее квартала, ты будешь совершать одинокие прогулки,
вечером одиноко возвращаться в гостиницу и в одиночестве засыпать.
И вот в одиночестве своего номера ты начнешь писать книгу, чтобы заполнить пустоту
этих дней, проведенных в Риме без Сесиль, от которой ты себя отлучил.
А в понедельник вечером, в заранее намеченный час, ты поедешь на вокзал к заранее
намеченному поезду,
так и не увидевшись с ней.
228
За окнами прохода проплывает огромный нефтеперегонный завод, с его факелом и
лампочками, расцвечивающими алюминиевые вышки, точно рождественскую елку.
С книгой в руке ты все еще стоишь лицом к своему месту, к снимку парижской
Триумфальной арки, но вдруг кто-то дотрагивается до твоего плеча, это новобрачный,
которого ты окрестил Пьером, и ты садишься, чтобы дать ему выйти, но он имел в виду
другое — он протягивает руку и зажигает свет.
Все твои соседи по купе таращат глаза, на всех лицах появляется озабоченное
выражение.
Пьер берет один из чемоданов, лежащих над головой его жены, ставит на сиденье,
открывает и ищет в нем туалетные принадлежности.
А ты думаешь: «Не будь этих людей, не будь этих предметов и образов, давших моим
мыслям толчок, под действием которого во время этой необычной, нарушившей
размеренное течение моей жизни поездки у меня в мозгу заработал какой-то механизм и
сдвинулись, наплывая друг па друга и разрывая мепя на части, разные пласты моего
существования;
не будь этого стечения обстоятельств, этой раскладки карт, быть может, в эту ночь
мою душу еще не рассекла бы зияющая трещина и мои иллюзии продержались бы еще
какое-то время;
по раз уж трещина обнаружилась, нет никакой надежды, что она затянется или что я
забуду о ней — ведь она доходит до тех пустот, которые уже давно образовались во
мне и вызвали эту трещину и которые мне уже не заполнить, потому что они связаны с
гигантской исторической трещиной.
У меня нет никакой надежды спастись в одиночку. Я растрачу всю свою кровь, все
песчинки своих дней в тщетных усилиях найти опору в себе самом.
Но если я — скажем, с помощью книги — подготовлю почву, попытаюсь расчистить путь
грядущей, недосягаемой для нас свободе, внесу хоть самую скромную лепту в закладку
ее основ,—
я использую единственную возможность насладиться хотя бы отблеском этой свободы,
прекрасным и пронизывающим,
и не буду пытаться при этом разгадать загадку, какой предстает Рим и нашему
сознанию, и сфере бессознатель-
229
пого, или понять хотя бы в общих чертах, что являет собой это средоточие чудес и
тайн».
Поезд проезжает станцию Рим-Трастевере. За окном по улицам навстречу друг другу
тянутся первые освещенные трамваи.
Было уже совсем темно, и фары машин отражались в асфальте площади Пантеона. Сидя у
окна, ты снял с книжной полки послания Юлиана Отступника, и в эту минуту вошла
Анриетта, чтобы узнать, будешь ли ты ужинать.
— Ты же знаешь, я предпочитаю вагон-ресторан.
— Все твои вещи в чемодане на кровати. А мне надо готовить ужин.
— До свиданья. До понедельника.
— Мы будем ждать тебя к обеду. Я поставлю для тебя прибор. До свиданья.
Тебе хотелось поскорей вырваться из дома; дождь перестал, в облаках над бульваром
Сен-Мишель показалась луна, а по бульвару двигался разноплеменный поток окончивших
занятия студентов; ты остановил такси, и оно свернуло за угол разрушенного дворца,
создание которого приписывают парижскому императору Юлиану.
На Лионском вокзале ты купил сигареты, запасся еще па перроне талончиком на ужин во
второй смене, вошел в вагон первого класса, занял место в купе, где уже сидел
толстяк твоих лет, куривший маленькие сигары, и положил на багажную сетку чемодан и
светлый кожаный портфель, набитый бумагами и документами, предварительно вынув
оттуда оранжевую папку с материалами реймского отделения.
Так начиналась твоя обычпая служебная поездка, и, однако, ты уже успел мимоходом
навести в Париже справки о работе для Сесиль; ничто еще не разорвало основы твоей
размеренной жизни, и, однако, твои отношения с этими двумя женщинами уже близились
к кризису, и его итог — эта выходящая из ряда вон поездка, которая вот-вот
завершится.
Когда поезд тронулся, ты вышел в коридор и стал смотреть в окно на молодой месяц
над крышами и на пригородные газгольдеры.
За окном диск луны уже больше не виден, зато у стены Аврелиана все чаще мелькают
мотороллеры, и лампы одна за другой зажигаются на всех этажах домов-повостроек.
230
Тот, кого ты зовешь Пьером, возвращается в купе, свежевыбритый, взгляд у него
прояснился, оп улыбается; теперь, захватив с собой большую сумку, выходит та, кого
ты зовешь Аньес; твоя соседка с лицом римлянки встает, оправляет на себе пальто и,
небрежно приведя в порядок прическу, снимает с багажной сетки свой чемоданчик.
Ты думаешь: «Что же такое случилось с того вечера в среду, со времени той последней
обычной поездки в Рим? Как это вышло, что все изменилось, как я дошел до этого?»
В тебе уже давно назревал взрыв, он произошел,— и ты решился на эту поездку, но
взрывная волна пошла вглубь, и на пути к осуществлению твоей заветной мечты ты
понял, что твоя любовь существует под знаком гигантской звезды — Рима и ты хочешь
поселить Сесиль в Париже именно для того, чтобы при ее посредничестве каждый день
ощущать Рим рядом с собой; но оказалось, что, приехав туда, где протекает твоя
будничная жизнь, Сесиль утрачивает свою власть посредницы и становится женщиной как
все, еще одной Анриеттой, и в совместной жизни с ней — ты представлял себе эту
жизнь как некий суррогат супружества — возникли бы те же трудности, только еще
более мучительные, так как ты постоянно вспоминал бы о том, что город, который она
должна была приблизить к тебе,— далеко.
Впрочем, Сесиль не виновата в том, что лучи Рима, которые она отражает и собирает в
фокусе, гаснут с той минуты, как она оказывается в Париже; виноват тут самый миф
Рима — при малейшей попытке, пусть даже самой робкой, облечь его плотью он выявляет
свою двойственность и выносит тебе приговор. Неудовлетворенный парижским бытием, ты
втайне уповал на возвращение к Рах Romana, имперской системе мира, организованного
вокруг некой столицы, это мог бы быть даже не Рим, а, скажем, Париж. Все свои
слабости ты оправдывал надеждой, что две эти жизненные линии могут слиться воедино.
Другая женщина — не Сесиль — в этих условиях также утратила бы всю свою власть;
другой город — не Париж также привел бы ее к утрате этой власти.
Так в твоем сознании исчерпывается один из величайших периодов истории, эпоха,
когда мир имел центр и не только земля была центром сфер Птоломея, но и у земли'
был свой центр — Рим; потом он переместился, после па+ дения Рима пытался
утвердиться в Византии, а значительно позднее — в императорском Париже, и черная
звезда
231
железных дорог Франции стала как бы тенью звезды римских императорских дорог.
Но воспоминание об империи, столько веков владычествовавшее над воображением
европейцев, отныне уже не в силах влиять на судьбы грядущего мира — границы мира
раздвинулись для каждого из пас, и он поделен теперь совсем по-новому.
Вот почему, когда ты сделал попытку приблизить к себе мир империи, его обраЗ
распался; вот почему, когда Сесиль приезжает в Париж, небо, сияющее над ней в Риме,
тускнеет и она становится похожей па других женщин.
Ты думаешь: «Хорошо бы показать в этой книге, какую роль может играть Рим в жизни
человека, живущего в Париже; эти два города можно представить себе как бы
наложенными один на другой — один как бы в подполье другого, а между ними потайные
лестницы, знают их лишь немногие, и пи один человек не знает их все, а стало быть,
при переходе из одного места в другое могут неожиданно обнаружиться кратчайшие и
окольные пути, стало быть, расстояние от одной точки до другой, путь от одной точки
до другой может оказаться различным, смотря по тому, насколько ты осведомлен,
насколько ты освоился в другом городе, а стало быть, всякое измерение будет
двояким, и пространство Рима будет для каждого в большей или меньшей степени
видоизменять пространство Парижа, то приближая далекое, то заводя в тупик».
Старик итальянец напротив тебя встает, с усилием снимает с багажной сетки большой
черный чемодан и выходит из купе, делая жене знак следовать за ним.
Пассажиры уже тянутся по проходу с багажом в руках и толпятся у выхода.
Поезд минует станцию Рим-Остьенсе с белым острием пирамиды Цестия, чуть выступающим
из темноты, а внизу виднеются первые пригородные поезда, прибывающие на станцию
Рим-Лидо. Отопительный мат — его ромбы напоминают идеальный график железнодорожного
грузооборота *— как бы инкрустирован пылинками и мелким мусором, накопившимся за
минувший день и минувшую ночь.
На другое утро, в четверг, ты пошел осматривать Золотой дом Нерона, как обещал
Сесиль,— накануне в полночь ты проводил ее на улицу Монте-делла-Фарина, номер
пятьдесят шесть, и она, поглядев на тебя и прочитав в тво-
232
ем взгляде желание, сказала, что в этот час тебе к ней зайти нельзя: семейство Да
Понте еще не спит; а в четверг вечером ты ужинал с пей в ее комнате среди четырех
видов Парижа и старался на них не глядеть, потому что они мешали тебе рассказывать.
Ты смог описать ей свое посещение дома Нерона только тогда, когда вы погасили лампу
и легли в постель, а в открытое окно проникал свет лупы, легкий ветерок, отсвет
ламп из соседних домов, да еще мотороллеры, шумно разворачиваясь на углу,
отбрасывали на потолок оранжевый
отблеск своих фар.
Ты ушел от нее, как всегда, после полуночи и вернулся в отель «Квиринале»; рана
начала затягиваться, но рубец был еще совсем свежий; от малейшей неосторожности она
могла раскрыться; вот почему ты ни словом не обмолвился о вашей совместной поездке
в Париж, вот почему на другой день в пятницу, вопреки твоим опасениям, она не
заикнулась о ней ни во время обеда в ресторане на площади Терм Диоклетиана, ни
прощаясь с тобой на платформе, когда опа неотрывно глядела на тебя и махала тебе
рукой, а поезд отходил от перрона.
Ты завоевал ее вновь; казалось, все забыто. Вы оба никогда не возвращались к этой
теме, но из-за этого-то молчания болезнь неизлечима, из-за этого обманчивого,
преждевременного заживления в глубокой ране развилась гангрена, и она так страшно
нагноилась теперь, когда ее разбередили толчки, встряски и ухабы этой дороги.
— Прощай! — крикнул ты, и она бежала за поездом, улыбаясь и тяжело дыша, и была
так прекрасна в короне черного пламени своих волос. И у тебя мелькнула мысль: «Я
боялся, что потерял ее, но я обрел ее вновь; я дошел до края пропасти, об этом
никогда нельзя заговаривать; но отныне я сумею ее удержать — она моя».
На отопительном мате ты видишь собственные ботип-ки, испещренные серыми бороздками.
В твоем мозгу отдается: «Прощай, Сесиль», слезы разочарования подступают к твоим
глазам, и ты говоришь себе: «Как сделать так, чтобы опа поняла и простила мне то,
что наша любовь оказалась обманом,— пожалуй, тут может помочь только книга; пусть
Сесиль предстанет в пей во всей своей красоте, в ореоле римского величия, которое
опа так полно воплощает.
233
Но, пожалуй, самое разумное — не пытаться сократить расстояние, разделяющее эти два
города, и сохранить в неприкосновенности все станции и пейзажи, которые лежат между
ними. Каждый желающий сможет отправиться из одного города в другой, но помимо
обычных путей сообщения между ними будут существовать еще непосредственные переходы
и точки соприкосновения, и они будут обнаруживаться в определенные минуты под
действием законов, познать которые можно лишь постепенно.
И тогда герой книги, прогуливаясь в один прекрасный день неподалеку от парижского
Пантеона и свернув за угол хорошо знакомого дома, сможет очутиться совсем не на той
улице, на какой предполагал, она будет освещена совсем по-другому, и все надписи
будут на другом языке, и он увидит, что это итальянский;
и вспомнит улицу, по которой он когда-то уже бродил, и поймет, что это одна из улиц
неподалеку от римского Пантеона, и встретит там женщину, и будет знать, что для
того, чтобы увидеть ее снова, достаточно поехать в Рим, как туда может поехать кто
угодно и когда угодно, были бы время и деньги,— поехать хотя бы, например, поездом,
потратив па это известное время и миновав все промежуточные станции;
и точно так же эта римлянка время от времени будет являться в Париж; совершив
длительное путешествие, чтобы увидеть ее вновь, он узнает, что она — случайно,
конечно,— была в том самом месте, какое он только что покинул,— он узнает об этом,
пу хотя бы из письма друга, в котором друг опишет эту женщину;
а стало быть, все эпизоды их любви будут обусловлены не только законами связи между
Римом и Парижем — эти законы для них могут в чем-то не совпадать,— но и степенью
познания ими этих законов».
Молодая женщина, которую ты назвал Аньес,— ты пе знаешь о ней ничего, даже ее
имени, знаешь только, как она выглядит и что она едет в Сиракузы,— возвращается в
купе, садится рядом с мужем и глядит на мотороллеры, летящие навстречу друг другу
на фоне темной стены Аврелиана, которая исчезает вдали за насыпью и домами площади
Зама.
Поезд углубляется в город под мостом Виа Аппиа Нуова.
Проплывает станция Рим-Тусколана. Какой-то человек заглядывает в купе и озирается
по сторонам, точно прове-
234
ряя, пе забыл ли он чего, может, это и есть тот самый пассажир, который ночью
несколько часов просидел на свободном месте напротив тебя, но ты не мог разглядеть
даже его лица, поскольку было темно, да к тому же ты погрузился в мучительную
дремоту, в череду мучительных сновидений, и в твоей душе медленно и неумолимо
зарождались и созревали вопросы, терзающие тебя сегодня с самого утра, погрузился в
смятение и ужас, охватившие тебя перед разверзшейся пустотой, перед пропастью,
которая будет становиться все шире и глубже, как только через несколько мгновений
ты прибудешь в Рим (эта пропасть мало-помалу поглотила все воздвигнутые тобою
замки, а сама оказалась единственным надежным прибежищем и тихой пристанью).
Все было для вас внове в ту весеннюю римскую ночь, когда вы возвращались к отелю
«Кроче-ди-Мальта».
В ту пору не было еще ни метро, ни троллейбусов, ни мопедов, а только трамваи,
такси с вертикальными полосками и редкие фиакры.
Анриетта, как ты, смеялась над священниками, молодыми и старыми, которые
прогуливались стайками, подпоясанные разноцветными поясами.
Не выпуская из рук сщдего путеводителя, в ту пору совсем нового,— он становился с
годами все менее точным, по ты брал его с собой в каждую поездку, пока не начал
постоянно встречаться с Сесиль и пользоваться ее экземпляром (а свой ты и сейчас
оставил на площади Пантеона, номер пятнадцать, на полке, где стоит небольшая
посвященная Риму библиотека) —
оба совершенно неутомимые (наутро в своем номере, пока ты брился, а она
причесывалась, вы перебрасывались фразами из итальянского разговорника),—
на другой день вы отправились в Ватикан, бродили вокруг его стен, потешаясь над
грошовыми реликвиями, которыми торгуют местные лавчонки, потом наскоро пробежали по
галереям, забитым плохими античными статуями и преподношениями современных
властителей,
и с нежностью оглядывали людей, улицы, памятники, оба убежденные в том, что это
лишь первое ваше с ними знакомство.
А потом, после нескольких дней, промелькнувших слишком быстро и заполненных
упоительной беготней, в
235
полном единодушии шепотом проклиная бесчисленных молодчиков в форме, которые
попадались вам на каждом шагу,— вы сели в поезд на стареньком, невзрачном и грязном
вокзале Термини, совершенно недостойном Рима, и когда поезд тронулся, оба
прошептали вслед городу: «Мы вернемся снова — как только сможем».
Еще какой-то человек просовывает голову в дверь и озирается по сторонам (может
быть, это именно он сидел несколько часов на сиденье рядом с новобрачным).
Ты говоришь себе: «Обещаю тебе, Анриетта, мы вернемся в Рим вместе, как только
сможем, как только улягутся волны от этой встряски, как только ты меня простишь; мы
с тобой еще не так стары».
Поезд остановился; ты в Риме на новом, современном вокзале Термини. Еще совсем
темно.
В купе остались только ты и молодая чета — они едут дальше, до самых Сиракуз.
Ты слышишь выкрики носильщиков, свистки, прерывистое пыхтенье и скрежет других
поездов.
Ты встаешь, надеваешь пальто, снимаешь чемодан, берешь книгу.
Бесспорно, самое лучшее — сохранять между этими двумя городами их реальное
географическое расстояние и попытаться оживить для читателя решающий эпизод твоей
жизни — сдвиг, который совершился в твоем сознании, пока твое тело перемещалось от
одного вокзала до другого, мимо мелькавших за окном пейзажей,
по пути к той будущей, неизбежной книге, каркас которой ты держишь сейчас в руках.
Коридор пуст. Ты оглядываешь толпу па платформе. Выходишь из купе.
В /УЧБИРИНТЕ
РОМАН
ПЕРЕВОД
Жм,&А-#ьМ
DANS LE LABYRINTHE
Ален Роб-Грийе родился в 1922 г. в г. Бресте (Франция). Учился в Национальном
сельскохозяйственном институте. Работал в Институте статистики, потом
сельскохозяйственным инженером в Марокко, Гвинее, на Гваделупе и Мартинике. С 1955
года — литературный консультант издательства «Минюи». К концу 50-х годов, после
выхода романов «Резинки» (1953), «Соглядатай» (1955), «Ревность» (1957), «В
лабиринте» (1959) и статей (отчасти собранных затем в книге «За новый роман»,
1963), Роб-Грийе становится самой значительной фигурой школы «нового романа».
Принципы Роб-Грийе как ведущего представителя «школы взгляда» и «шозизма»
(«вещизма») были развиты его деятельностью в качестве сценариста (фильм «В прошлом
году в Мариенбаде», 1961, режиссер Ален Рене; сценарии «Бессмертная», 1963; аДом
свиданий», 1965; «Прогрессирующие скольжения наслаждений», 1974) и постановщика
фильмов («Трансъевропейский экспресс», 1966, и др.). Фильмы, снятые Роб-Грийе и по
его сценариям, наглядно продемонстрировали основные приемы «школы взгляда»:
субъективный монтаж, разрушающий объективные пространственные и временные
отношения. Работа Роб-Грийе в области кино была связана с постепенным измельчанием
его искусства, она способствовала утрате той содержательности, которая лежала в
основе созданных писателем «лабиринтов», символа абсурдной, обезличивающей человека
действительности. Известная декларация Роб-Грийе — «Мне нечего сказать» —
первоначально, на этапе, ознаменованном созданием его лучшего романа «В лабиринте»,
звучала как косвенная, но достаточно определенная характеристика реального мира,
который перестал быть источником вдохновения, потерял смысл и значительность.
Дальнейшее творчество писателя лишилось смысла и повторяет пройденное (романы
«Проект революции в Нью-Йорке», 1970; «Топология призрачного города», 1976; «Джин»,
1981),
К читателю
Этот рассказ — вымысел, а не свидетельство очевидца. В нем изображается отнюдь не
та действительность, что знакома читателю по личному опыту: например, не носят
французские пехотинцы на вороте шинели номер воинской части, так же как не знает
недавняя история Западной Европы крупного сражения под Рейхенфельсом или в его
окрестностях. И все же здесь описана действительность неукоснительно реальная, т.
е. не претендующая ни на какую аллегорическую значимость. Автор приглашает читателя
увидеть лишь те предметы, поступки, слова, события, о которых он сообщает, не
пытаясь придать им ни больше ни меньше того значения, какое они имеют применительно
к его собственной жизни или его собственной смерти.
А. Р.-Г.
здесь сейчас один, в надежном укрытии. За стеной дождь, за стеной кто-то шагает под
дождем, пригнув голову, заслонив ладонью глаза и все же глядя прямо перед собой,
глядя на мокрый асфальт,— несколько метров мокрого асфальта; за стеною — стужа, в
черных оголенных ветвях свищет ветер; ветер свищет в листве, колышет тяжелые ветви,
колышет и колышет, отбрасывая тени на белую известку стен... За стеною — солнце,
нет ни тенистого дерева, ни куста, люди шагают, палимые солнцем, заслонив ладонью
глаза и все же глядя прямо перед собой,— глядя на пыльный асфальт,— несколько
метров пыльного асфальта, на котором ветер чертит параллели, развилины, спирали.
Сюда не проникает ни солнце, ни ветер, ни дождь, ни пыль. Легкая пыль, замутившая
сиянье горизонтальных поверхностей — полированного стола, натертого пола,
мраморного камина и комода,— потрескавшийся мрамор комода,— эта пыль образуется в
самой же комнате, быть может, от щелей в полу, или от кровати, от штор, от золы в
камине.
На полированном дереве стола пылью обозначены места, где какое-то время — несколько
часов, дней, минут, недель — находились куда-то потом переставленные вещи; их
контуры еще сколько-то времени отчетливо рисуются на поверхности стола — круг,
квадрат, прямоугольник или иные, более сложные фигуры, порой сливающиеся ДРУГ с
другом, частично уже потускневшие или полустертые, словно по ним прошлись тряпкой.
Если контуры достаточно отчетливы и позволяют точно определить очертания предмета,
его легко обнару-
л
241
жить где-иибудь поблизости. Так, круглый след оставлен, очевидно, стеклянной
пепельницей, стоящей неподалеку. Точно так же квадрат в дальнем, слева, углу стола,
чуть в стороне от пепельницы, соответствует очертаниям медного стояка от лампы,
теперь переставленной в правый угол: квадратный цоколь, в два сантиметра толщиной,
на нем такой же толщины диск, в центре которого — рифленая колонна.
Абажур отбрасывает на потолок кружок света. Но круг щербатый: один край у него
обрублен на грани потолка вертикальной стеной, расположенной позади стола. Вместо
обоев, которыми оклеены остальные три степы, эта — сверху донизу и почти сплошь по
всей ширине — укрыта плотными красными шторами из тяжелой бархатистой ткани.
За стеной идет снег. Ветер гонит на темный асфальт тротуара мелкие сухие
кристаллики, и с каждым порывом они оседают белыми полосами — параллельными,
раскосыми, спиральными,— подхваченные крутящейся поземкой, они тут же
перестраиваются, замирают, снова образуют какие-то завитки, волнообразные развилки,
арабески и тут же перестраиваются заново. Кто-то шагает, еще ниже пригнув голову,
усерднее заслоняя ладоныо глаза и потому видя лишь несколько сантиметров асфальта
перед собой, несколько сантиметров серого полотна, на котором одна за другой,
чередуясь, появляются чьи-то ступни и одна за другой, чередуясь, исчезают.
Но дробный перестук подбитых железом каблуков, которые размеренно звучат, все
приближаясь вдоль совершенно пустынной улицы и все явственней слышится в тиши
оцепеневшей от стужи ночи, этот мерный перестук каблуков сюда не доносится, как и
любой другой звук, раздающийся за стенами комнаты. Слишком длинна улица, слишком
плотны шторы, слишком высок дом. Никакой шум, хотя бы и заглушенный, никакое
дуновение, никакое веянье воздуха никогда не проникает сюда, и в тишине медленно и
мерно оседают мельчайшие частицы пыли, едва различимые в тусклом свете лампы с
абажуром, оседают беззвучно, вертикально, и тонкая серая пыль ложится ровным слоем
на пол, на покрывало кровати, па мебель.
По натертому полу тянутся проложенные суконными тапочками лоснящиеся дорожки — от
кровати к комоду, от комода — к камину, от камина — к столу. Вещи на сто-
242
ле, очевидно, были переставлены, и это нарушило целостность серой пелены, его
покрывающей: более или менее пухлая, в зависимости от давности образования, местами
она совсем повреждена: так, левый, дальний конец стола, не в самом углу, но
сантиметров на десять отступя от края и параллельно ему, занимает четкий, словно
начерченный рейсфедером, квадрат полированного дерева. Сторона квадрата равна
сантиметрам пятнадцати. Коричневато-красное дерево блестит, почти не тронутое серым
налетом.
Справа, хотя более тускло, по все же просвечивают, покрытые многодневной пылью,
какие-то совсем несложные контуры; под известным углом зрения они становятся
довольно четкими, и можно с достаточной уверенностью определить их очертания. Это
что-то вроде креста: продолговатый предмет, размером со столовый нож, но шире его,
заостренный с одного конца и слегка утолщенный с другого, перерезанный много более
короткой поперечиной; поперечина эта состоит из двух придатков, похожих на языки
пламени и расположенных симметрично по одну и другую сторону основной оси, как раз
там, где начинается утолщение,— иначе говоря, на расстоянии, равном примерно одной
трети общей длины предмета. Предмет этот напоминает цветок: утолщение на конце
образует как бы продолговатый закрытый венчик на верхушке стебля с двумя листочками
по бокам, чуть пониже венчика. А может быть, он смутно походит на человеческую
фигурку: овальная голова, две коротеньких руки и тело, заостренное книзу. Это может
быть и кинжал, рукоять которого отделена гардой от мощного, но тупого клинка с
двумя лезвиями.
Еще правее, там, куда указывает кончик цветочного стебля или острие кинжала, едва
потускневший круг слегка обрезан по краю другим кругом такой же величины, в
противоположность своей проекции на столе сохраняющим постоянные размеры: это —
стеклянная пепельница. Далее идут смутные, перекрестные следы, несомненно
оставленные какими-то бумагами, которые перекладывали с места на место, путая
очертания рисунка на столе, то очень явственного, то, наоборот, затушеванного серым
налетом, то полустертого, словно его смахнули тряпкой.
Над всем этим в правом углу стола возвышается лампа: квадратный цоколь, длина его
сторон пятнадцать сантиметров,— диск такого же диаметра, рифленая колонна
243
с темным, слегка коническим абажуром. По внешней стороне абажура медленно,
безостановочно ползет муха. Она отбрасывает на потолок искаженную тень, в которой
нельзя узнать ни малейших признаков самого насекомого: ни крыльев, ни туловища, ни
лапок: все это превратилось в какую-то нитевидную, ломаную, незамкнутую линию,
напоминающую шестигранник, лишенный одной из-сторон: отображение нити накаливания в
электрической лампочке. Этот маленький незамкнутый многоугольник одним из углов
касается внутренней стороны большого светлого круга, отбрасываемого лампой.
Многоугольник медленно, но безостановочно перемещается по окружности светлого
пятна. Достигнув стены, он исчезает в тяжелых складках красного занавеса.
За стеной идет снег. За стеной шел снег, шел и шел снег, за стеной идет снег.
Густые хлопья опускаются медленно, мерно, непрестанно; перед высокими серыми
фасадами снег падает отвесно — ибо нет ни малейшего ветерка,— снег мешает различить
расположение домов, высоту крыш, местонахождение окон и дверей. Это, надо думать,
совершенно одинаковые, однообразные ряды окон, повторяющиеся на каждом этаже — с
одного и до другого конца абсолютно прямой улицы.
У перекрестка справа открывается точно такая же улица: та же пустынная мостовая, те
же высокие серые фасады, те же запертые окна, те же безлюдные тротуары. И хотя еще
совсем светло, на углу горит газовый фонарь. День такой тусклый, что все вокруг
кажется бесцветным и плоским. И вместо глубокой перспективы, которую должны были бы
создать эти вереницы зданий, видится лишь бессмысленное скрещение прямых, а снег,
продолжая падать, лишает эту видимость малейшей рельефности, словно это хаотическое
зрелище всего лишь плохая мазня, намалеванная на голой стене декорация.
Мушиная тень — увеличенный снимок нити накаливания в электрической лампочке —
возникает снова на грани стены и потолка и, возникнув, продолжает ползти по
окружности, по краю белого круга, отброшенного резким светом лампы. Движется она с
неизменной скоростью — медленно и непрестанно. Слева, на затемненной плоскости
штолка, выделяется светящаяся точка; она соответствует небольшому круглому
отверстию в темном пергаменте абажура; это, собственно говоря, не точка, но
тоненькая незамкнутая ломаная линия, правильный
244
шестигранник, одна сторона у которого отсутствует: опять-таки увеличенный снимок —
на этот раз неподвижный — того же источника света, той же нити накаливания.
И все та же нить в такой же или чуть большей лампе напрасно сияет на перекрестке,
заключенная в стеклянную клетку, подвешенную вверху чугунного столба,— бывшего
газового светильника со старомодными украшениями, ныне превращенного в
электрический фонарь.
Коническое основание его чугунной опоры с раструбом книзу окружают несколько более
или менее выпуклых колец и обвивают тощие плети металлического плюща; изогнутые
стебли, лапчатые листья с пятью заостренными лопастями и пятью весьма отчетливыми
прожилками; там, где черная краска облупилась, проглядывает ржавый металл, а чуть
повыше конической опоры к фонарному столбу прислонилось чье-то бедро, чья-то рука,
плечо. Человек одет в старую военную шинель неопределенного цвета — то ли
зеленоватого, то ли хаки. На его сером, осунувшемся лице следы крайней усталости,
но, возможно, этому впечатлению способствует уже несколько дней не бритая щетина. А
быть может, длительное ожидание, длительное стояние на холоде причина того, что его
щеки, губы, лоб так обескровлены.
Опущенные веки серы, как серо и все его лицо. Он наклонил голову. Взгляд устремил
на землю, точнее на обочину заснеженного тротуара, к подножью фонаря, где виднеются
два грубых походных башмака, тупоносых и толстокожих, исцарапанных и разбитых, но
относительно хорошо начищенных черной ваксой. Снег не очень глубок, он едва оседает
под ногами, и подошвы ботинок остаются на уровне — или почти на уровне — белой
пелены, простирающейся вокруг. На обочине нет никаких следов, и спежный покров
хранит девственную белизну, тусклую, но ровную и нетронутую, в мелких точечках
первозданной зернистости. Немного снега скопилось на верхнем выпуклом кольце,
обвивающем раструб у основания фонаря и образующем белый круг поверх протянувшегося
вровень с землей черного круга. Снежные хлопья налипли и на другие выпуклости
конуса, расположенные выше, выделяя белой чертой одно за другим чугунные кольца,
рельефы листьев, горизонтальные или чуть наклонные отрезки стеблей и прожилки
плюща.
Но эти небольшие скопления снега частично сметены подолом шинели, а белая пелена
вокруг местами порыже-
245
ла; до того истоптана она башмаками, которые, переминаясь на месте, оставили на ней
отпечатки расположенных в шахматном порядке гвоздей. Суконные тапочки очертили в
пыли, перед комодом обширный блистающий круг, и другой такой же круг они обрисовали
перед столом, в том месте, где, должно быть, стояло кресло, или стул, или табурет,
или еще что-нибудь, предназначенное для сидения. От комода к столу пролегла узкая
полоска лоснящегося паркета; вторая такая дорожка ведет от стола к кровати.
Параллельно фасадам домов, немного ближе к ним, чем к сточной канаве, на
заснеженном тротуаре пролегла такая же прямая дорожка — желтовато-серая,
протоптанная какими-то уже исчезнувшими пешеходами; она тянется от зажженного
фонаря до дверей последнего здания, затем сворачивает под прямым углом и уходит в
ноперечную улицу, но все время держится у подножия фасадов, по всей длине тротуара,
занимая примерно треть его ширины.
Другая дорожка ведет от кровати к комоду. Отсюда узкая полоска блестящего паркета
протянулась от комода к столу, соединила два больших незапыленных круга и, слегка
отклонившись, приблизилась к камину, где подставка для дров отсутствует и через
открытую заслонку впдна только груда пепла. Черный мрамор камина покрыт серой
пылью, как, впрочем, и все остальные предметы. Пыль лежит на нем ровным слоем, но
не таким пухлым, как на столе или па полу; на каминной доске пусто, и лишь один-
единственный предмет оставил на ней отчетливый черный след, как раз на середине
прямоугольника. Это все тот же четырехконечный крест: одно ответвление
продолговатое и заостренное, другое, его продолжение, укороченное, с овалом на
конце, и два ответвления перпендикулярных, по обе стороны, совсем небольших,
похожих на языки пламени.
Аналогичный мотив украшает и обои на стенах, бледно-серые, с чуть более темными
вертикальными полосами; между ними, посреди каждой светлой полоски, тянется цепочка
совершенно одинаковых, темно-серых мелких изображений: розетка — нечто вроде
гвоздика или крохотного факела, рукоять которого только что представлялась лезвием
кинжала, а рукоять кинжала изображает теперь Я8ык пламени, тогда как два боковых
отростка, в виде языков пламени, казавшиеся прежде гардой, охраняющей
246
лезвие кинжала, образуют теперь небольшую чашу, препятствующую горючему стекать
вдоль рукояти.
Но скорее всего это факел электрический, ибо окончание предмета, которому,
предположительно, надлежит излучать свет, пе заострено подобно языку пламени, но
явно закругляется подобно продолговатой ампуле электрической лампочки. Рисунок,
тысячекратно повторяющийся на стенах комнаты, попросту одноцветный силуэт размером
с крупное насекомое: что он изображает, распознать трудно,— он совершенно плоский и
даже не напоминает нить накаливания внутри электрической лампочки. Впрочем,
лампочка упрятана под абажуром. На потолке видно лишь отображение нити: на темном
фоне светящейся чертой выделяется лишенный одной из сторон небольшой шестигранник,
а подальше, вправо, на круглом световом блике, отброшенном лампой, вырисовывается
китайской тенью такой же, но движущийся шестиугольник, который медленно, размеренно
ползет, описывая кривую внутри круга, пока, достигнув перпендикулярной стены, не
исчезает.
У солдата под мышкой слева сверток. Правым плечом и предплечьем он опирается о
фонарный столб. Он обернулся в сторону улицы так, что видна небритая щека и помер
воинской части на вороте шинели: пять-шесть черных цифр на фоне красного ромба.
Дверь углового дома, расположенная у него за спиной, прикрыта неплотно, она и пе
распахнута, но ее подвижная створка прислонена к более узкой, неподвижной так, что
между ними остается промежуток — продольная темная щель в несколько сантиметров.
Справа протянулась вереница окон нижнего этажа, с ними чередуются двери зданий;
одинаковые окна, одинаковые двери, с виду и по размерам похожие на окна. На улице —
из конца в конец — не видно ни единой лавки.
Слева от двери с неплотно прикрытыми створками расположены всего два окна, за ними
— угол дома, затем, перпендикулярно к ним, снова вереница одинаковых окон и дверей,
похожих на отражение первых, словно видимых в зеркале, поставленном под тупым углом
к фасадам (прямой угол — плюс еще половина прямого угла); и снова повторяется то
же: два окна, дверь, четыре окна, дверь и т. д. Первая дверь приоткрыта в темный
коридор, между ее неравными створками остается^черная щель, доста-
247
точно широкая, чтобы в нее мог проникнуть человек, по крайней мере — ребенок.
На улице еще светло, но перед дверью, на краю тротуара, горит фонарь. В неверном,
тусклом, рассеянном свете заснеженного ландшафта привлекает внимание этот
электрический фонарь: его свет несколько ярче, желтее, гуще дневного. К фонарному
столбу прислонился солдат: он нагнул обнаженную голову, руки спрятал в карманы
шинели. Под мышкой, справа, он держит завернутый в коричневую бумагу сверток, нечто
похожее на коробку от обуви, перевязанную крест-накрест белым шнуром; но видна
только часть шнура, которым коробка обвязана продольно, другая его часть, если она
и существует, скрыта рукавом шинели. На рукаве, у сгиба в локте, виднеются темные
полосы — возможно, свежая грязь, или же краска, или ружейное масло.
Коробка, обернутая коричневой бумагой, лежит теперь на комоде. Белого шнура уже
нет, и упаковочная бумага, старательно сложенная по ширине параллелепипеда, слегка
разевает четко обрисовавшийся клюв, косо нацеленный вниз. На мраморе комода в этом
месте образовалась длинная, чуть волнистая трещина, которая тянется наискосок,
проходит под углом коробки и на середине комода упирается в стену. Как раз над этим
концом трещины и висит картина.
Картина в лакированной раме, полосатые обои на степах, камин с кучей золы, бюро с
лампой под матовым абажуром и стеклянной пепельницей, тяжелые красные шторы,
большой диван-кровать, покрытый такою же красной бархатистой тканью, наконец, комод
с тремя ящиками и потрескавшейся мраморной доской, лежащий на ней коричневый
сверток, картина над ней и тянущиеся вертикально до потолка вереницы крохотных
серых насекомых.
Небо за окном все такое же белесое и тусклое. Еще светло* Улица пустынна: ни машин
на мостовой, ни пешеходов на тротуарах. Шел снег, и он еще не растаял. Он лежит
довольно тонким — в несколько сантиметров — совершенно ровным слоем, окрасившим все
горизонтальные поверхности тусклой, неброской белизной. Видны только оставленные
прохожими следы — прямые дорожки, идущие вдоль вереницы зданий и канав, еще легко
различимых (видимых даже лучше, потому что их вертикальные стенки остались
черными), дорожки, разделяющие тротуар по всей его длине на две неровные полосы.
Кружок ис-
248
тонтанного снега вокруг фонарного столба, на перекрестке, пожелтел, так же как
узкие дорожки вдоль домов. Двери вакрыты. В окнах — никого, никто не прильнул к
стеклу, никто, хотя бы смутно, не виднеется в глубине комнат. Все вокруг
представляется какой-то плоской декорацией, и кажется, ничего нет ни за этими
стеклами, ни за этими дверьми, ни за этими фасадами. Сцена остается пустой: ни
мужчины, ни женщины, ни даже ребенка.
Картина в деревянной лакированной раме изображает кабачок/Это черно-белая гравюра
прошлого века либо хорошая репродукция. На сцене толпится множество людей: одни
сидят, другие стоят, а слева чуть возвышается над своей стойкой хозяин.
Это лысый толстяк в переднике. Он нагнулся, опираясь обеими руками о стойку,
уставленную до половины наполненными стаканами, и склонился тучным плечом к
небольшой группе прилично одетых людей, в длинных пиджаках или сюртуках, о чем-то
оживленно спорящих; спорщики стоят в различных позах, энергично жестикулируя не
только руками, но как бы и всем телом.
Справа от них, то есть в центре картины, посетители сидят кучками вокруг
беспорядочно расставленных столов, нагроможденных в избытке на небольшом
пространстве, чересчур тесном для такого скопления людей. У сидящих тоже
размашистые движения и резкая смена выражения на лицах, словно схваченных
художником в момент наивысшей экспрессии, хотя содержание спора остается все же
неясным, тем более что толстая стеклянная перегородка как бы поглощает вылетающие
из их уст слова. Кое-кто из собутыльников привстал на стуле или скамье и, через
головы других, тянется к собеседнику. Спорщики машут руками, губы у них шевелятся,
туловища и шеи резко повернуты, они стучат кулаком по столу или потрясают им в
воздухе.
В самом дальнем углу, справа, теснится другая кучка — судя по одежде, почти все в
ней, как и сидящие за столами, рабочие: они стоят спиной к тем, кто сидит за
столом, и разглядывают вывешенное на стене объявление или картинку. Немного ближе к
переднему плану, позади них, в промежутке между ними и сидящими к ним спиной
собутыльниками, прямо на полу, среди мятых брюк и грубых башмаков, путаясь у всех
под ногами, которые топчутся на
249
месте, пытаясь продвинуться влево, сидит мальчуган; с другого бока его защищает
скамья. Ребенок изображен лицом к зрителю. Он сидит подогнув ноги, обеими руками
обхватив большую коробку, похожую на коробку для обуви. Никто не обращает на него
внимания. Возможно, его опрокинули на пол во время какой-то стычки. Кроме
мальчугана, неподалеку, на переднем плане, валяется опрокинутый стул.
В стороне, как бы отгороженные от окружающей их толпы свободным пространством —
правда, незначительным, но все же достаточным, чтобы их обособленность была
ощутимой, достаточным, во всяком случае, чтобы выделить их из толпы, хотя они и
расположились на заднем плане, за маленьким столиком, предпоследним справа,— сидят
в углу три солдата, своей неподвижностью и оцепенением резко отличаясь от
толпящихся в зале штатских. Солдаты держатся прямо, их руки лежат на чем-то,
похожем на клетчатую клеенку; стаканов перед ними нет. Не в пример прочим
посетителям, которые сидят с непокрытой головой, на них полицейские колпаки с
кургузыми углами. Фигуры сидящих за последними столиками, в глубине зала,
изображены более смутно и почти сливаются с фигурами стоящих, создавая сумбурную
неразбериху. Под эстампом, на белом поле, каллиграфически четкая надпись по-
английски «Поражение под Рейхенфельсом».
Если приглядеться получше, видно, что впечатление обособленности троих солдат
создается не столько их отдаленностью от остальной массы посетителей, сколько тем,
что взоры всех прочих устремлены в одном направлении. Люди, смутно различимые в
глубине помещения, с трудом проходят, вернее, пытаются пройти, влево,— туда, где
должна быть расположена дверь (по этот предполагаемый выход на гравюре не виден,
так как его заслоняет ряд вешалок с нагроможденными на пих шляпами и плащами); все
смотрят вперед (т. е. на вешалки), кроме какого-то одиночки, обернувшегося к
соседу, чтобы что-то ему сказать. Кучка людей, сгрудившихся справа, перед висящим
объявлением, глядит только на стенку справа. Сидящие за столиками естественно
повернулись каждый к центру своего кружка либо к ближайшему собеседнику.
Посетители, стоящие подле трактирной стойки, тоже заняты своими разговорами, а
хозяин склонился к ним, не обращая внимания на остальных. Между отдельными кучками
бродят одиночки, еще никуда не пристроившиеся, но с явным намерени-
250
ем вскоре занять одну из позиций, предоставленных им на выбор: разглядывать
объявление, присесть за столик либо устремиться к вешалке; достаточно взглянуть на
них мельком, чтобы убедиться, что каждый из них этот выбор уже сделал: на их лицах,
как и на лицах сидящих, так же как и в их повадках, нельзя прочесть ни малейшего
колебания, растерянности, внутренней борьбы или ухода в себя. Трое солдат,
наоборот, выглядят отчужденно. Друг с другом они не беседуют; их ничто не
привлекает: ни объявление, ни вино, ни соседи. Им нечем себя занять. Никто на них
пе смотрит, да и им также смотреть ни на что неохота. По их лицам — один изображен
анфас, другой вполоборота, третий повернулся спиной — незаметно, чтобы хоть что-
нибудь привлекало их внимание. У первого — единственного, чьи черты можно хорошо
разглядеть,— неподвижные, пустые, ничего не выражающие глаза.
Контраст между тремя солдатами и массой посетителей подчеркивается гораздо большей
точностью, четкостью, тщательностью их изображения, чем всех прочих, представленных
на гравюре в том же ряду. Художник с таким старанием выписал подробности, такую
резкость придал штриху, как если бы три солдата находились на авансцене. Но
композиция настолько перегружена, что эти ухищрения на первый взгляд неприметны.
Так, лицо солдата, обращенное к зрителю, выписано необычайно тщательно, по подобная
тщательность не вяжется с отсутствием выражения па этом лице. В нем нельзя угадать
ни проблеска мысли. Это попросту усталая, довольно худощавая физиономия, худоба
которой подчеркивается уже много дней не бритой щетиной. И худоба, и тени,
усиливающие резкость черт, не выявляют сколько-нибудь значительных особенностей
физиономии, по придают блеск широко раскрытым глазам.
Военная шинель застегнута до самого ворота, на котором значится номер части. Прямо
посаженная пилотка совершенно закрывает волосы, остриженные, по вискам, очень
коротко. Человек сидит неподвижно, положив вытянутые руки на стол, покрытый
клеенкой в красно-белую клетку.
Он уже давно покончил со своим стаканом. Судя по его ВИДУ, он и не думает уходить.
Однако кафе опустело, последние посетители покинули его. Свет почти погашен. Хозяин
перед уходом погасил большинство ламп.
Солдат сидит, по-прежнему уставясь широко раскрытыми глазами в полумрак зала, туда,
где в нескольких мет-
251
pax от него стоит, опустив руки и тоже оцепенело застыв, мальчуган. Но солдат
словно не видит ребенка, не видит ничего вокруг. Кажется, от усталости он так и
заснул, сидя за столом с широко открытыми глазами.
Первым заговаривает мальчик. Он спрашивает: «Ты спишь?» Он произносит это очень
тихо, словно опасаясь разбудить спящего. Тот не шелохпется. Выждав с минуту,
мальчуган повторяет, чуть громче:
— Ты спишь? — И добавляет тем же тусклым, тягучим голосом: — Тут ведь спать
нельзя.
Солдат не шелохнулся. Мальчику могло почудиться, что он в зале один и беседует
«понарошку» с чем-то неодушевленным — с куклой, с безответным манекеном. В таком
случае повышать голос действительно бесполезно; мальчуган говорит так, словно
беседует сам с собой.
Но вот он смолк, как будто не в силах одолеть молчание солдата; и наступила тишина.
Возможно, мальчик тоже уснул.
— Нет... Да... Зпаю...— произносит солдат.
Ни тот ни другой не шевельнулся. Мальчуган все так же стоит в полумраке, опустив
руки вдоль туловища. Он не заметил даже, чтобы человек, сидящий за столом под
единственной непогашенной лампой, хотя бы пошевелил губами; тот даже не кивнул
головой, не моргнул глазом, оп все так же не раскрывает рта.
— Твой отец...— начинает солдат и умолкает. Но губы его па этот раз слегка
дрогнули.
— Он мне не отец,— возражает малыш.
И отворачивается к черному прямоугольнику застекленной двери.
За окном идет снег. Мелкие хлопья густо сыплются на уже побелевшую мостовую.
Поднявшийся ветер гонит эти хлопья по горизонтали, приходится шагать пригнув
голову, пригнув голову еще ниже и к тому же защитив глаза прижатой ко лбу ладонью,
так что остаются видны лишь несколько квадратных сантиметров хрусткого снега,
лежащего не очень толстым слоем, но утоптанпого и потому плотного. Дойдя до
перекрестка, солдат нерешительно ищет глазами табличку с названием поперечной
улицы. Но тщетно: голубые эмалевые таблички отсутствуют вовсе или повешены слишком
высоко, а ночь слишком темна; и мелкие, густые хлопья слепят глаза, когда упрямо
пытаешься взглянуть вверх. Впрочем, название улицы в этом незнакомом городе все
равно солдату ничего бы не объяснило.
252
С минуту он еще колеблется, снова глядит вперед, потом озирается на пройденный
путь, усеянный электрическими фонарями, которые все ближе и ближе теснятся друг к
другу, все тускнея и тускнея по мере удаления, и, нако-пец, вовсе исчезают в ночной
мгле. Солдат сворачивает вправо, в поперечную улнцу, такую же пустынную,
обрамленную такими же в точности домами, с вереницей таких же точно фонарей,
довольно далеко, но с равными промежутками отстоящих друг от друга и проливающих
жидкий свет на косо летящие хлопья снега.
Белые, стремительные, густо падающие крупинки впе-запно меняют направление,
несколько мгновений они чертят вертикали и вдруг снова устремляются почти
горизонтально; внезапно они замирают, потом, подхваченные резким порывом ветра,
косо, с таким же слабым наклоном летят в обратную сторону, а спустя две-три
секунды, без всякого перехода, снова начинают чертить почти горизонтальные
параллели, пересекающие освещенное пространство слева направо, и несутся в сторону
темных четырехугольников окон.
Снег скапливается в оконных нишах неровным слоем, очень тонким у края подоконника,
потолще — в глубине, и целой грудой — до самого стекла — забивается в правый угол.
На всех окнах нижнего этажа — на всей веренице окон — точно такая же куча снега,
точно так же скопившаяся в правом углу.
У следующего перекрестка, под фонарем, занимающим угол тротуара, стоит ребенок. Он
почти скрылся позади фонарного столба, нижняя часть его туловища еле видна за
утолщением чугунной опоры. Он глядит на приближающегося солдата. Его, по-видимому,
не смущает ни вьюга, ни спегопад, побеливший его обледенелую одежду — берет и
накидку. Мальчугану лет двенадцать, на лице у него — внимание. По мере приближения
солдата мальчик поворачивает шею, пока тот не оказывается рядом с фонарем, и
провожает его взглядом, когда тот проходит дальше. Солдат шагает медленно, и
мальчуган успевает разглядеть его с головы до ног: небритые щеки, заметная
усталость, грязная, потрепанная шинель, рукава без нашивок, слева, под мышкой,
сверток в промокшей бумаге, руки эасунуты в карманы, обмотки на ногах навернуты
небрежно, наскоро, задник правого башмака — от голенища и до каблука — с широкой
зарубкой длиною по крайней мере сантиметров в десять и такой глубины, что она,
казалось бы, должна
253
продырявить кожу насквозь; башмаки, однако, целы, а пострадавшее место попросту
замазано черной ваксой и кажется теперь таким же темно-серым, как и неповрежденная
кожа по соседству с ним.
Человек остановился. Не поворачивая туловища, он обернулся и оглядывается на
заштрихованного белыми хлопьями мальчика, который остался позади, теперь уже на
расстоянии трех шагов, и на него смотрит.
Спустя минуту солдат медленно, но круто поворачивает и делает движение в сторону
фонаря. Мальчуган отступает еще немного и прижимается к подножию столба; при этом
он запахивает свисающие полы накидки, придерживая их изнутри, так что рук не видно.
Человек остановился. Ветер уже не швыряет ему в лицо охапки снега, он может без
особых опасений приподнять голову.
— Не бойся,— говорит он.
Он делает шаг в сторону ребенка и повторяет погромче: «Не бойся».
Мальчуган не отвечает. Словно не замечая густых снежных хлопьев, он лишь слегка
щурит веки и все так же смотрит прямо в лицо солдату. Тот пробует спросить:
— Не знаешь, где находится...
И тут же обрывает. Неудачный вопрос. Порыв ветра снова швыряет ему в лицо охапку
снега. Он вытаскивает правую руку из кармана шинели и как шоры приставляет ладонь к
виску. Перчаток у него нет, выпачканные ружейной смазкой пальцы покраснели. Порыв
ветра улегся, и солдат снова сунул руку в карман.
— Куда ведет эта улица? — спрашивает он.
Мальчик по-прежнему молчит. Он переводит взгляд с
солдата на дальний конец улицы, куда кивает тот; он не видит там ничего, кроме
уходящей во тьму вереницы огней, все ближе и ближе теснящихся друг к другу, все
более и более тусклых.
— Ты что, боишься, что я тебя съем?
— Нет, пе боюсь,— говорит ребенок.
— Так скажи, куда я тут попаду?
— Не знаю,— говорит ребенок.
И он переводит взгляд на этого небритого, плохо одетого солдата, который сам не
знает, куда идет. Потом, ни слова не говоря, мальчик круто поворачивает, проворно
огибает фонарный столб и со всех ног бросается бежать вдоль вереницы домов, в
направлении, обратном тому, по како-
254
му пошел было солдат. В мгновение ока мальчуган исчезает.
На какой-то миг он снова появляется в электрическом свете следующего фонаря, он
бежит все так же поспешно, полы его накидки летят за ним. Так он еще и еще раз
возникает у каждого фонаря, и потом — конец..
Солдат делает пол-оборота и продолжает свой путь. Снег опять хлещет прямо ему в
лицо.
Солдат перекладывает сверток под мышку справа и пытается защитить лицо левой
ладоныо — с той стороны, где ветер дует с наибольшим постоянством. Но он скоро
отказывается от своего намерения и снова засовывает окоченевшую руку в карман
шинели. Спасаясь от снега, который набивается в глазницы, он только пригибает
голову и отворачивается в сторону неосвещенных окон, где в правом углу подоконника
белая груда все растет и растет.
Тем временем все тот же неулыбчивый мальчуган довел его до кафе, которое держал
человек, не признаваемый мальчиком за отца. И снова такая же сцена, тот же фонарь и
такой же, в точности, перекресток. Только снегопад, может быть, самую малость
слабее.
Тяжелые хлопья сыпались все медленнее, все гуще. А мальчуган отвечал с такими же
недомолвками, прижимая к себе полы черной накидки. И лицо у него, заштрихованное
белыми хлопьями, было такое же настороженное, непроницаемое. Он так же в
нерешительности медлил перед ответом на любой вопрос — и его ответ точно так же
ничего не прояснял собеседнику.
— Куда ведет эта улица? — Долгий, безмолвный взгляд, устремленный,
предположительно, в самый конец улицы, и безразличный голос:
— На бульвар.
— А эта?
Мальчуган медленно переводит взгляд в другом направлении, куда кивком головы
показывает солдат. Его лицо не выдает ни малейшего колебания, никакой
нерешительности, когда он тем же безразличным тоном повторяет:
— На бульвар.
— Тот же?
Снова молчание, снег падает все медленней, хлопья — все тяжелее.
~~ Да,— говорит мальчуган. Затем, после короткого молчания: — Нет...— И наконец с
внезапной горячностью: — Ну да, на бульвар!
255
— А далеко это? — снова спрашивает солдат.
Мальчуган все так же глядит на вереницу огней, все
ближе и ближе теснящихся друг к другу, все менее и менее ярких и, наконец, вовсе
уходящих во мглу ночи.
— Да,— говорит он, и голос его спова становится ровным, далеким, как бы
отсутствующим.
Солдат выжидает еще с минуту, не последует ли за этим новое «нет». Но мальчуган уже
пустился бегом вдоль фасадов, по снежной тропе, по которой несколькими минутами
ранее, но в обратную сторону, шел солдат. Когда беглец пересекает освещенное
фонарем пространство, на какие-то мгновения возникает развевающаяся темная накидка
— возникает раз, другой, третий,— с каждым разом все менее отчетливо, пока вдали не
начинает мерещиться уже что-то вроде летящего снежного вихря.
Между тем все тот же мальчуган опережает солдата, когда тот входит в кафе. Прежде
чем переступить порог, малыш встряхивает свою черную накидку, снимает берет и
дважды хлопает им о косяк застекленной двери, сбрасывая льдинки, застрявшие в
складках материи. Должно быть, он уже не раз встречался солдату, пока тот кружил по
шахматной доске совершенно одинаковых улиц. Ему так и не удалось обнаружить
никакого бульвара, ни хотя бы какую-нибудь более широкую, обсаженную деревьями
улицу, хоть чем-то непохожую на все предыдущие. Мальчуган перечислил в конце концов
несколько названий, несколько названий улиц, которые сам знал, но перечислил явно
без всякой пользы для солдата.
Сейчас он решительно хлопает беретом о деревянный косяк застекленной двери, перед
которой остановились они оба. Помещение внутри ярко освещено. Белая сборчатая
занавеска из прозрачной ткани загораживает нижнюю часть стекла. Но взрослому
человеку — с высоты его роста — легко обозреть всю залу: трактирную стойку слева,
столики — посредине, стену, увешанную разнокалиберными объявлениями, справа.
Посетителей в этот поздний час уже мало: за одним из столиков двое рабочих, а перед
тусклой металлической стойкой, над которой склонился хозяин, стоит ктс-то, одетый
более изысканно. Хозяин — тучный мужчина, и это особенно заметно, так как он слегка
возвышается над своей стойкой. Оба — и хозяин, и клиент — обернулись к эастекленной
двери, о косяк которой только что хлопнул беретом мальчуган.
256
Но поверх занавески виднеется только лицо солдата. Л мальчуган, одной рукой держась
за ручку двери, дру-гой — вторично хлопает беретом о ее створку, которая уже
отходит от косяка. Хозяин отводит взор от мертвенно-бледной физиономии солдата,
которая вырисовывается во мраке ночи, обрубленная у подбородка занавеской, и
опускает глаза все ниже и ниже по мере того, как, давая наконец пройти малышу,
ширится промежуток между створкой и дверным косяком.
Едва ступив в залу, мальчуган оборачивается и делает знак солдату следовать за ним.
На этот раз все взгляды устремлены на вновь прибывшего: и хозяина за стойкой, и
прилично одетого клиента перед нею, и обоих рабочих за столиком. Один пз них, тот,
что сидит спиной к двери, круто поворачивается на стуле, не выпуская из рук
стакана, до половины наполненного красным вином, который стоит перед ним на
испещренной квадратиками клеенке. Чья-то широкая ладонь держит другой стакан, рядом
с этим. И хотя нельзя увидеть, можно предположить его содержимое. Красноватый
кружок, оставленный слева какою-то жидкостью, обозначил место, где прежде стоял
один из этих двух стаканов или, возможно, какой-то третий.
А затем солдат и сам очутился за столом, и перед пим такой же стакан, до половины
наполненный таким же темным вином. На красно-белых квадратиках клеенки, похожей на
шахматную доску, множество округлых следов, но почти все они имеют форму то
полукружий, то более или менее замкнутой дуги, и все эти полукружия и дуги порой
набегают одна на другую, хотя местами следы почти высохли, местами еще сверкают
остатками жидкости, образовавшей прозрачную пленку поверх более темного, уже
засохшего следа, а на других участках клетчатой клеенки, где стаканы часто
передвигали с места на место, следы эти довольно смутны либо почти стерты
скользнувшим по клееп-ке донышком, а может быть, и торопливым взмахом тряпки.
Солдат все еще ждет, застыв под фонарем,— руки в карманах шинели, тот же сверток
под мышкой слева. Снова наступил день, такой же белесый и тусклый. Но фонарь погас.
Те же дома, те же пустынные улицы, те же цвета — белый и серый, та же стужа.
Снег больше не идет. Он лежит на земле почти таким же тонким слоем, может быть
только лишь чуть уплотнившись,
9 М. Бютор и др.
257
и так же тянутся вдоль тротуаров желтоватые тропки, проложенные торопливыми
пешеходами. Вокруг этих узких полосок — белая, девственная пелена, лишь кое-где
небольшие прогалины, как, например, вытоптанный грубыми солдатскими башмаками круг
под фонарем.
На этот раз мальчуган идет навстречу. Вначале это смутный силуэт, расплывчатое
черное пятно, которое довольно быстро приближается, придерживаясь обочины тротуара.
Всякий раз, достигнув фонаря, пятно делает скачок в его сторону и затем снова
продолжает двигаться вперед в том же направлении. Вскоре можно уже легко различить
узкие черные штаны, облегающие быстрые ноги, откинутый назад и порхающий за спиной
черный капюшон, надвинутый на глаза суконный берет. Достигнув фонаря, мальчуган
всякий раз выбрасывает руку в шерстяной перчатке и хватается за чугунный столб, а
тело его с рассчитанной скоростью проделывает тур вокруг металлической опоры,
причем ноги почти не касаются земли, а сам мальчик сразу же оказывается в прежнем
положении — на краю тротуара — и продолжает свой путь в сторону солдата.
Возможно, малыш не сразу его заметил, возможно, фигура солдата частично сливается с
фонарным столбом, о который он опирается бедром и правой рукой. Но, желая получше
разглядеть мальчугана, который приближается рывками, петляя вокруг столба, так что
при каждом обороте взвихривается накидка, солдат слегка отступает от своей опоры, и
малыш, на пути между двумя последними фонарями, внезапно останавливается, сдвинув
ноги, рукой натягивая на коченеющие плечи соскользнувшую накидку и с любопытством
глядя на солдата.
— Здравствуй,— говорит тот.
Мальчуган смотрит на него без удивления, но и без малейших признаков
доброжелательности, словно находя естественной, но в то же время и досадной эту
новую встречу.
— Ты где спал? — говорит он наконец.
Солдат, не потрудившись вынуть руку из кармана, неопределенно кивает:
— Там.
— В казарме?
— Да, пожалуй, в казарме.
Мальчуган дотошно изучает с головы до ног его одежду. Зеленоватая шинель помята пе
больше и не меньше чем прежде, обмотки навернуты так же небрежно, на башмаках
258
почти так же налипла грязь. Только щетина на щеках, пожалуй, еще потемнела.
— А где она, твоя казарма?
— Там,— говорит солдат.
И оп снова неопределенно кивает, то ли показывая назад, то ли куда-то через правое
плечо.
— Ты не умеешь пакручивать обмотки,— говорит
мальчуган. „
Солдат, поглядев вниз, нагибается к своей ооувке.
— Знаешь, теперь это уже не важно.
Выпрямившись, оп замечает, что мальчуган стоит много ближе, чем он предполагал:
всего в трех-четырех метрах от пего. Солдат не подозревал, что малыш остановился
почти рядом, и не мог также припомнить, чтобы тот приблизился к нему позже. Не
может ведь быть, однако, чтобы мальчуган переместился незаметно для него, пока он
стоял нагнувшись: за такой короткий промежуток времени малыш едва ли успел бы
продвинуться хоть па один шаг. К тому же он стоит в той же позе, что и в начале
беседы: он замер, устремив глаза кверху, и невидимыми руками вплотную прижимает к
телу наглухо закрытую черную накидку.
— Двенадцать тысяч триста сорок пять,— произносит мальчик, разбирая цифры
номерного знака.
— Да, но это не мой полк,— говорит солдат.
— Как! Это у тебя напнсаио.
— Да теперь, знаешь ли...
— Даже два раза написано.
Мальчуган выпрастывает из-под накидки руку и, протянув ее горизонтально, тычет
указательным пальцем туда, где виднеются дв$ красных ромба. На руке у него
шерстяная вязаная перчатка, такая же, как его темно-синий свитер.
— Ладно, пусть так,— говорит солдат.
Мальчик снова засовывает руку под накидку, которую он тщательно запахивает,
придерживая изнутри,
— А что у тебя в свертке?
— Я тебе уже сказал.
Мальчуган внезапно оборачивается к входной двери. Полагая, что он увидел нечто
странное, солдат оборачивается тоже, но не замечает ничего, кроме все той же
вертикальной темной щели шириной в ладонь, которая отделяет подвижную приоткрытую
створку от неподвижной. Мальчуган продолжает напряженно глядеть все в ту же сторо-
9*
259
ну, но солдат тщетно пытается хоть что-нибудь различить во мраке.
Наконец он спрашивает:
— Ты иа что смотришь?
— А что у тебя в свертке? — повторяет малыш, не отвечая и не отводя глаз от
приотворенной двери.
— Я уже сказал: вещи.
— Какие вещи?
— Мои.
Мальчуган переводит взгляд на собеседника.
— Для вещей у тебя есть ранец. У каждого солдата есть рапец.
Во время этого диалога мальчик держится с каждой минутой все увереннее. Его голос
доносится уже не так глухо, как прежде, он звучит неколебимо, почти резко. Солдат,
напротив, говорит все тише:
— Война уже кончилась, слышишь, кончилась война...
Он снова ощущает огромную усталость. И что за бесцельный допрос — ему уже неохота
отвечать. Он почти готов отдать сверток мальчугану. Он поглядывает на коробку в
корнчиевой обертке, которую держит под мышкой; стаявший снег оставил на пей темные
округлые разводы с крохотными фестонами, шнурок ослабел и соскальзывает к самому
краю, на угол коробки.
Через голову застывшего в той же позе мальчугана солдат оглядывает пустынную из
конца в конец улицу. Обернувшись назад, он лишний раз обнаруживает ту же плоскую
перспективу.
— Не знаешь, который час? — все так же прислонясь к фонарному столбу,
спрашивает он.
Мальчуган раз за разом мотает головой, слева направо и справа налево.
— Он прислуживает за столиками, твой отец?
— Оп мне не отец,— говорит малыш.
И не давая солдату времени повторить вопрос, оп круто поворачивается па каблуках и
деревянным шагом направляется к приоткрытой двери. Он подымается на ступеньку,
слегка толкает дверь, проскальзывает в нее и без стука закрывает за собой, но при
этом явственно слышно, как щелкает язычок замка.
Перед глазами солдата только заспеженный тротуар с пожелтевшей дорожкой справа и
девственно белой пеленой слева, а на ней единственный и ровный след двух маленьких
башмаков, печатающих широкий шаг вдоль ка-
260
навы; затем, метра за четыре до последнего столба, следы башмаков сливаются в один,
более приметный, и сворачивают под прямым углом вправо, где шаги мельчают и выводят
па пожелтевшую дорожку, а оттуда па более узкую тропку, которая ведет к двери.
Солдат подымает глаза и видит серый фасад, без балконов, с вереницами одинаковых
окон, подчеркнутых внизу каждой рамы белой чертой, и ждет, надеясь, что где-нибудь
за оконным стеклом появится мальчик. Но он отлично знает — раз уже малыш в черной
накидке проводил его до самого дома, значит, он здесь не живет. Впрочем, судя по
окнам, дом вообще необитаем.
Тяжелые красные занавеси ниспадают с потолка во всю ширину стены. Напротив
расположился комод, а над ним картина. Мальчуган, тот, что в раме,— сидит, поджав
поги, все на том же месте, прямо на полу; кажется, он собирается вовсе соскользнуть
иод скамейку. Он все так же пристально глядит куда-то перед собой, о чем
свидетельствуют только его широко раскрытые глаза.
Это свидетельство, правда, не слишком падежное: если художник полагал, что сцена
смотрит в ничто, если ему ничего не пришло на ум относительно четвертой стены этой
прямоугольной залы, три стороны которой изображены на гравюре, следовательно, глаза
мальчугана устремлены в пустоту. Однако художник поступил нелогично, если, желая
подчеркнуть отсутствие выражения в лице малыша, избрал для этого четвертую стену,
единственную, где, вероятно, расположен выход. Три стены, изображенные на гравюре,
не обнаруживают никаких видимых признаков двери. Если даже таковая находится в
глубине слева, позади вешалок, это, конечно же, не главный вход в кафе, что было бы
слишком необычно для такого помещения. Застекленная, как это принято, входная дверь
с выведенной на стекле белой эмалевой краской надписью «Кафе» и фамилией владельца:
две изогнутые строчки, обращенные одна к другой своими вогнутыми сторонами,—
сборчатая занавеска из легкой, просвечивающей ткани (наличие этой занавески
заставляет того, кто хочет заглянуть в зал, подойти вплотную к двери) — эта входная
дверь может находиться только с той стороны, где на гравюре отсутствует стена,
причем остальная часть этой невидимой стены должна быть занята большим окном, до
половины укрытым длинной шторой и посредине украшенным барельефом в виде трех
шаров,— красного вверху и двух белых под
261
ним,— в том случае, по крайней мере, если выход, расположенный за вешалками, ведет
в бильярдную.
Мальчуган, сидящий с коробкой в руках, глядит, очевидно, в сторону входной двери.
Но взгляд его находится почти на уровне пола, и он, конечно, не может поверх
занавески увидеть улицу. Он не поднимает глаз, и это не позволяет ему разглядеть
чье-то мертвенно-бледное лицо, прильнувшее к стеклу и по шею обрубленное
занавеской. Взгляд малыша устремлен почти горизонтально. Отворится ли дверь, чтобы
впустить нового пришельца, солдата, который поразит мальчугана своим необычным
видом? Такое решение представляется сомнительным, потому что более принято помещать
входную дверь с той стороны, где находится трактирная стойка, а значит, в данном
случае, с левого края, возле трактирщика, там, где перед прилично одетыми
обывателями осталось свободное пространство. Мальчуган находится, наоборот, с
правой стороны, а тут — нагромождение скамеек и столов вовсе не оставляет местш для
прохода в залу.
Впрочем, солдат давно уже вошел в помещение: он сидит за столом, в глубине зала, за
спиной у малыша, который теперь, видимо, уже не проявляет интереса к его одежде.
Солдат также глядит на авансцену, но взгляд его устремлен чуть повыше, чем взгляд
мальчугана, так как сй^ит он намного дальше от застекленной двери, ему достаточно
лишь слегка приподнять глаза, чтобы через стекло над занавеской увидеть снег,
падающий густыми хлопьями и^вновь заметающий отпечатки редких шагов и
перекрещивающиеся желтоватые тропки вдоль высоких фасадов.
Как раз на углу, у последнего в квартале дома, прислонившись к его ребру, на полосе
белого снега, изогнутой в виде латинской буквы «L» и зажатой между фасадом и
желтоватой дорожкой, виднеется чей-то силуэт, вертикально перерезанный каменным
ребром, стены, позади которого исчезли ноги, бедра, плечи и пола черной накидки,—
это, не отрывая взора от чугунного фонаря, караулит мальчуган. Выбрался ли он из
дому через другую дверь, выходящую на поперечную улицу? Или выскользнул череГз окно
нижнего этажа? Во всяком случае, солдат притворяется, что не заметил его
возвращения на сцену. Прислонившись к фонарю, он старательно вглядывается в
пустынную мостовую, в ее самый дальний конец.
262
«Ты чего ждешь?» Потом, спустя несколько секунд, тем же тоном, словно эхо: «Ты чего
тут ждешь?»
Это, конечно же, голос мальчугана — раздумчивый, спокойный, неприветливый, пожалуй,
слишком низкий для десяти-двенадцатилетнего мальчика. Впечатление, что оц звучит
очень близко — едва ли на расстоянии двухтрех метров, тогда как до угла дома по
меньшей мере мет-ров восемь. Солдату хочется обернуться и проверить — убедиться,
что мальчуган не приблизился снова. Или, не глядя, ответить, что взбредет на ум:
«Трамвай», либо «Суп» — пусть поймет, в конце концов, что надоел. Солдат по-
прежнему пристально вглядывается в пустоту.
Когда он переводит, наконец, взгляд в сторону мальчугана, оказывается, что тот
исчез. Солдат с минуту выжидает, полагая, что малыш попросту скрылся за углом
здания и вскоре выглянет из своего укрытия. Но ничего подобного!
Солдат опускает глаза на девственный снег, где свежив следы сворачивают направо, за
угол. Вдоль обочины тротуара идут редкие, исказившиеся при ходьбе отпечатки —
движением башмака снег кучкой сбивался назад, и только оттиски нескольких шагов,
ведущие к дорожке, точно запечатлели рисунок рифленой, елочкой, подошвы: множество
полос во всю ширину стопы, а под каблуком, посредине выпуклого круга, вдавленный
оттиск креста,— значит, на самом башмаке изображен выпуклый крест посредине
вдавленного круга (есть еще второй кружок — посредине креста, много мельче первого
и гораздо меньше в диаметре,— на нем выпуклыми цифрами обозначен размер: тридцать
второй, возможно, тридцать третий или тридцать четвертый).
Солдат, слегка нагнувшийся было, чтобы разглядеть детали отпечатка, возвращается на
дорожку. По пути он пробует толкнуть двери дома, но они не поддаются: они на самом
деле заперты. Это деревянные двери с резными филенками, с подвижной створкой
посередине и двумя неподвижными, очень узкими — по бокам. Солдат проходит дальше и
сворачивает за угол дома, в поперечную улицу, такую же пустынную, как и предыдущая.
Новая улица, как и предыдущая, снова приводит его к перекрестку, где в десяти
метрах от угла, занимая небольшой сегмент тротуара, стоит последний фонарь, а
кругом тянутся такие же, как прежде, фасады. Вокруг основания опоры — в виде
опрокинутого конуса — вьется такой же
263
точно литой металлический плющ, с таким же изгибом плетей, с такими же листьями, с
такими же ответвлениями, с такими же причудами растительности и такими же пороками
металла, как у прежних фонарей. Выпуклости рисунка подчеркивает такая же каемка
снега. Возможно, это тот самый перекресток, где должна была произойти встреча.
Солдат поднимает глаза в поисках эмалированной таблички с названием улицы. По одну
сторону углового фасада, на каменной стене, пет никакого обозначения. По другую —
почти на трехметровой высоте прибита обычного образца голубая эмалевая табличка,
расколовшаяся так, словно мальчишки выбрали ее мишенью и яростно закидали
увесистыми булыжниками; на ней можно было прочитать лишь слово «Улица...» и далее
две буквы: «...на...», после чего надпись обрывалась концентрическими зазубринами
следующей дыры. Впрочем, название, значившееся на табличке, первоначально было, по
всей вероятности, очень кратким. Повреждения, видимо, давнишние, потому что
обнажившийся металл уже сильно проржавел.
Все так же ступая по узкой желтоватой тропке, солдат только собирается перейти
мостовую и посмотреть, нет ли на другой стороне лучше сохранившихся табличек, когда
совсем близко слышит голос, произносящий три-четыре слога, смысл которых он не
успевает уловить. Он резко оборачивается; но вокруг ни души. Наверно, в такой
тишине у снега особая звукопроводимость.
Голос низкий и все же непохожий на мужской... Порой встречаются молодые женщины с
очень низким голосом; но в этом случае впечатление было слишком мимолетно: память
сохранила лишь бесплотный, бледный отзвук тембра, такой тембр может быть у кого
угодно — сомнительно даже, человеческий ли это голос вообще. Однако тут солдат
замечает, что дверь в угловое здание не закрыта. Он машинально делает несколько
шагов в ее сторону. Впут-ри так темно, что в образовавшуюся щель ничего нельзя
разглядеть. Справа, слева, вверху — повсюду запертые окна с черными, грязными,
незанавешенными стеклами, с темными, неосвещенными комнатами без всяких признаков
жизпи, словно люди покинули дом.
Деревянная дверь с резными филенками выкрашена в темно-коричневый цвет. По бокам
приоткрытой створки — две немного более узкие, неподвижные. Солдат толкает
264
дверь. Широко ее распахнув, он подымается на заснеженную приступку, носящую
отпечатки множества ног, и шагает через порог.
Он оказывается в темном коридоре, куда выходит множество дверей. В другом конце
коридора угадывается лестница, которая тянется вверх и вскоре топет во тьме. В
глубине этого тесного и длинного прохода, у самой лестницы, ио обе стороны,
расположился — перпендикулярно к этому коридору — другой, где мрак еще гуще. Кругом
все пусто, предметы домашнего обиходе, которые обычно служат приметами жилого дома,
отсутствуют: ни циновок перед дверьми, ни коляски под лестницей, ни ведра и метлы в
углу. Только голые стены и полы — стены выкрашены в унылый темный цвет; сразу же
налево от входа белеет небольшой листок — объявление противопожарной обороны — с
указанием срочных мер, какие надлежит принимать в случае пожара. Обыкновенный
деревянный пол, так же как и нижние, еле различимые во мраке, ступеньки лестницы,
почернел от грязи и неряшливой мойки. Пять, шесть ступеней вверх — и лестница,
должно быть, сворачивает вправо. В глубине коридора солдат начинает различать
поперечную стену. У стены стоит женщина в широкой юбке, длинном, перепоясанном в
талии переднике и, стараясь, по возможности, забиться в угол, бессильно опустив
руки, глядит на открытую входную дверь — па возникший в ней против света силуэт.
Человек не успевает еще сказать ни слова, как одна из боковых дверей, слева по
коридору, открывается и другая женщина в переднике, более полная, чем первая,
возможно и более пожилая, делает шаг вперед. Взглянув на вошедшего, женщина
останавливается как вкопанная, потом, постепенпо отступая к своей двери и
неимоверно широко разинув рот, она испускает продолжительный вопль, который,
становясь все пронзительней, обрывается громким стуком захлопнувшейся двери. В ту
же минуту раздаются поспешные шаги по деревянным ступеням; это убегает вверх по
лестнице другая женщина, исчезающая в мгновение ока, между тем как стремительное
цоканье ее босоножек еще раздается все выше и выше, но постепенно — с этажа па этаж
— все глуше, по мере того как молодая женщина поднимается, возможно придерживая
одпой рукой свою широко развевающуюся юбку, видимо даже ни разу не остановившись на
площадке, чтобы перевести дух, и позволяя угадывать этапы своего пути лишь по
различ-
265
ному звучанию шагов в начале и в конце каждого пролета: один этаж, два, три, четыре
этажа, а возможно, и больше.
Снова тишина. На этот раз справа по коридору приоткрывается другая дверь. Или она
уже была открыта раньше? Вероятнее всего, внезапный гам привлек новое лицо, к тому
же весьма похожее на два предыдущих, по крайней мере на первое: это молодая с виду
женщина в длинном темно-сером переднике, перепоясанном в талии и со сборками по
бокам. Встретившись взглядом с пришельцем, она спрашивает:
— Что это?
У нее низкий, густой, но как бы нарочито тусклый голос, словно она хочет, по
возможности, остаться безликой.
Не лишено вероятия — это тот самый голос, что минуту назад он услышал на улице.
— Они испугались,— говорит солдат.
— Да, это от неожиданности,— говорит женщина.— И потом свет сзади... Не
различишь... Они приняли вас за...
Женщина обрывает фразу. Она по-прежнему стоит, разглядывая солдата. Она и не думает
распахнуть пошире дверь, несомненно чувствуя себя так в большей безопасности, и
держится одной рукой за створку, другой — за косяк двери, готовая в любую минуту ее
захлопнуть.
Она спрашивает:
— Вам чего?
— Я ищу улицу...— говорит солдат.— Должен был пойти...
— Какую улицу?
— Вот название-то я как раз и позабыл. Что-то вроде Галабье или Матадье. Но я
не уверен. Может быть, вовсе — Монторе?
Женщина задумывается.
— Город, знаете ли, большой,— говорит она наконец.
— Но это где-то здесь, так мне объяснили.
Молодая женщина оборачивается и, повысив голос, спрашивает кого-то в глубине
помещения: «Ты улицу Монторе знаешь? Тут неподалеку. Или что-нибудь похожее?»
Она выжидает; через приоткрытую дверь можно разглядеть правильные черты ее лица.
Позади нее темнота, должно быть, в передней нет окна. Толстая женщина тоже
выступила из полного мрака. Спустя минуту какой-то далекий голос произносит в ответ
несколько неразборчивых слов, и молодая женщина снова поворачивается к солдату:
— Погодите минутку, я взгляну.
266
Она хочет захлопнуть дверь, но тут же спохватывается.
— Закройте же входную,— говорит она,— холод идет
по всему дому.
Солдат возвращается к дверям и с легким щелканьем захлопывает створку: язычок замка
становится на свое место. Человек снова во мраке. Вероятно, двери квартиры, откуда
появилась женщина, тоже закрыты. Найти их в темноте он не может: ни малейшего
просвета. Полная тьма. И ни звука: ни шагов, ни приглушенного шепота, ни грохота
посуды. Дом кажется необитаемым. Солдат закрывает глаза, и снова медленно оседают
белые хлопья, и вереницы фонарей вехами отмечают его путь из конца в конец
заснеженного тротуара, и мальчуган убегает со всех ног, то на какие-то мгновения
возникая, то исчезая снова — с каждым разом становясь все меньше ростом,— но через
равные промежутки времени свет очередного фонаря выхватывает его из мрака, причем
дальность расстояния как бы сокращает промежутки между столбами, и кажется, что он
все замедляет бег, по мере того как уменьшается в росте.
От комода до стола шесть шагов: три — до камина и затем еще три. От стола до угла в
ногах кровати пять шагов; четыре — от кровати до комода. Путь от комода к столу не
совсем прямой: его кривая проходит мимо камина. Над камином висит зеркало, большое
прямоугольное зеркало, прикрепленное к стене. Как раз напротив — спинка кровати.
В коридоре внезапно возникает свет. Но это не уличный свет, и место, где стоит
солдат, по-прежнему не освещено, оно погружено в полумрак. Этот бледно-желтый
искусственный свет, идущий издалека, исходит откуда-то справа, из поперечного
коридора. В глубине справа как бы вырезан светящийся прямоугольник, и отсюда,
расширяясь, начинается освещенная зона, обозначившаяся на полу двумя косыми
линиями: одна пересекает почерневший пол коридора, другая ложится по диагонали на
три нижних ступени лестницы; по ту и другую сторону от них по-прежнему мрак, ио он
чуть слабее мрака вокруг.
Все так же, в невидимом далеке, откуда исходит свет, тихонько захлопывается дверь и
ключ поворачивается в замке. Свет гаснет, и снова мрак, но вдоль поперечного
коридора слышатся шаги, в которых угадывается давниш-
267
няя привычка к этим местам. Это гибкие, легкие, однако отчетливые и решительные
шаги. Они уже достигают лестницы, у которой стоит солдат, а тот, желая избежать
столкновения в темноте коридора, вытягивает перед собой руки и вслепую шарит вокруг
в поисках стены, куда бы он мог отодвинуться. Но шаги, вместо того чтобы свернуть в
коридор, в начале которого он находится, направляются в другую сторону, следуют все
так же напрямик и уходят влево, в поперечный коридор. Выдвигается щеколда, резкий
уличный свет постепенно заливает левую сторону коридора. Там воцаряются тусклые
серые сумерки. По-видимому, тут имеется вторая дверь, выходящая на другую улицу.
Через нее-то, должно быть, и ускользнул мальчуган. Свет вскоре исчезает, так же
постепенно, как возник, дверп захлопываются, и в ту же минуту наступает полная
тьма.
Мрак. Щелк. Желтый свет. Щелк. Мрак. Щелк. Серая мгла. Щелк. Мрак. Шаги все стучат
по полам коридора. И шаги все стучат по асфальту оцепеневшей от стужи улицы. И
снова сыплется снег. И мелькающий там, вдалеке, от фонаря к фонарю все
уменьшающийся силуэт мальчугана.
Если бы тот, кто только что вышел, уходил не в ту же дверь, что и мальчик, но через
дверь в этой части здания, он, распахнув створку, осветил бы конец коридора и
увидел прижавшегося к стене солдата, внезапно, в ярком свете дня возникающего в
нескольких сантиметрах от него. Тогда, как и прежде в потемках, испуганные возгласы
вторично переполошили бы весь дом, испуганные тени метнулись к лестничной клетке,
вытянутые шеи, обезухчевшие лица высунулись бы в приотворенные двери и замелькали
встревоженные взоры, искаженные воплем рты... ,
«Нет у нас ни улицы Монтале и ничего похожего»,— сообщает тот же низкий голос и
добавляет: «Да вы тут в темноте! Надо было зажечь электричество...» При этих словах
в коридоре сразу же вспыхивает свет электрической лампочки, свисающей с потолка и
осветившей молодую женщину в сером переднике, чья рука высунулась из дверного
проема; кисть, еще касающаяся белого фарфорового выключателя, опускается, а светлые
глаза изучают мужчину, от впалых щек, заросших длинной, в полсантиметра щетиной, до
коробки в коричневой бумажной упаковке и неряшливо навернутых обмоток. Потом
женщина снова переводит взгляд на изможденное лицо солдата.
268
— Вы устали,— говорит она.
Это не вопрос. Голос снова стал низким, невыразительным, быть может недоверчивым.
Солдат делает свободной рукой неопределенный жест; уголок его рта подергивается,
изображая нечто вроде усмешки.
— Вы не ранены?
Ои отрицательно машет свободной рукой,
— Нет-нет, я не ранен,— говорит он.
И рука снова медленно опускается. Какое-то время они
молча глядят друг на друга.
— Что же вам теперь делать, раз вы забыли, как называется эта улица? —
спрашивает, наконец, женщина*
— Не знаю,— говорит солдат.
— Это что-нибудь важное?
— Да... Нет... Возможно.
Снова наступает молчание, и молодая женщина спрашивает вторично:
— А в чем дело?
— Не знаю,— отвечает солдат.
Он устал, ему хочется присесть, не важно — где, прислониться к стене. Ои машинально
повторяет:
— Не знаю.
— Вы не знаете, зачем туда шли?
— Я должен был там узнать.
— А!..
— Должен был встретиться... Теперь уже поздно...
Разговаривая, женщина настежь распахнула дверь и
продвинулась вперед, оставаясь в дверном проеме. На ней черное платье с длинной и
широкой юбкой, па три четверти закрытое серым сборчатым передником, завязанным
вокруг бедер. Ннз передника, как и юбка, очень пышный, а вверху лиф платья прикрыт
простым холщовым квадратом. Черты лица правильные, очень резкие. Волосы — черные.
Но глаза светлые, не то голубовато-зеленые, не то серовато-голубые. Они не пытаются
спрятаться — наоборот, подолгу задерживаются на лице собеседника, не позволяя,
однако, тому что-либо в них прочитать.
— Вы ничего не ели,— говорит женщина. И мимолетный оттенок то ли жалости, то ли
опаски, то ли удивления проскальзывает на этот раз в ее словах.
Но едва она успевает их произнести, как умолкает, уже невозможно уловить оттенок
только что прозвучавшей интонации: было ли то опасение, досада, сомнение,
сочувствие, любопытство. Остается только констатация факта:
269
«Вы пе ели»,— слова, произнесенные без всякого выражения. Мужчина повторяет
уклончивый жест.
— Зайдите же на минуточку,— говорит она, возможно нехотя, а может быть, и нет.
Щелк. Мрак. Щелк. Желтый свет заливает теперь небольшую переднюю с круглой
вешалкой, нагруженной шляпами и одеждой. Щелк. Мрак.
Дверь отворяется в квадратную комнату, где стоят диван-кровать, прямоугольный стол
и комод с мраморной доской. На столе клеенка в красно-белую клетку. Камин с
поднятой заслонкой, в котором нет подставки для дров и видна только остывшая зола в
очаге, занимает середину стены. Направо от камина — другая дверь, она приоткрыта то
ли в очень темную комнату, то ли в какой-то чулап.
— Садитесь сюда,— говорит молодая женщина, указывая па соломенный стул у стены.
Взявшись сверху за спинку стула, солдат слегка отодвигает его и садится. Правую
руку и локоть оп кладет на клеенку. Левая — остается в кармане шинели, по-прежнему
придерживая прижатую к боку коробку в коричневой бумажной обертке.
В приоткрытую дверь, в одном или двух шагах от порога, полузатушеванная мраком,
виднеется неподвижная фигурка ребенка, чей взгляд обращен на человека в воеп-ной
форме, которого его мать (мать ли она ему?) только что привела в комнату и который
сидит за столом сгорбившись, немного бочком, опустив голову и полуоблокотясь на
красную клеенку.
Женщина возвращается через дверь, ведущую из передней. В одной руке, прижатой к
бедру, у нее краюха хлеба и стакан; в другой опущенной руке она держит за горлышко
бутылку. Она ставит все это на стол перед солдатом. '
Все так же молча, она наполняет стакан до краев. Потом снова выходит из комнаты. На
столе обыкновенная литровая бутыль из бесцветного стекла, до половины наполненная
темно-красным вином; стакан под рукой у мужчины — грубая цилиндрическая, до
половины в желобках фабричная посудина. Слева лежит хлеб; это горбушка простого
черного хлеба, края которого образуют полукружие, закругленное по краям; мякоть
плотная, с очень мелкими, ровными глазками. Рука у мужчины загрубелая от тяжелой
работы н красная от мороза; скрючепные пальцы загнуты внутрь ладони, снаружи, по
суставам — мелкие тре-
270
щинки; пальцы к тому же выпачканы чем-то черным, вроде ружейного масла, которое
пристало к потрескавшейся коже, а небрежное умывание не помогло от него избавиться.
Поэтому узловатая шишка у основания указательного пальца испещрена короткими
темными черточками, по большей части параллельными или разбегающимися в разные
стороны; другие бороздки либо окружают эти параллельные, либо пересекают их.
Над камином висит большое прямоугольное зеркало; в нем отражается стена, возле
которой стоит громоздкий комод. Как раз посередине стены приходится фотография
военного в полевой форме, снятого во весь рост, быть может мужа светлоглазой
молодой женщины с таким густым голосом и, должно быть, отца мальчугана. Шинель с
подобранными полами, обмотки, грубые походные башмаки; обмундировапие походное —
каска с ремешком у подбо-родка н полная выкладка: сума для провианта, ранец, фляга,
портупея, патронташ. Мужчина держится обеими руками повыше пояса, за ремни,
перекрещивающиеся на груди; у него тщательно подстриженные усы; впрочем, портрет
слишком четкий и как бы отлакированный, что следует отнести, вероятно, за счет
стараний фотографа, который его увеличивал; даже лицо с надлежащей случаю улыбкой
так подчищено, подправлено, подсахарено, что в нем не осталось ничего характерного,
и оно ничем не отличается от множества солдатских или моряцких лиц на фотографиях,
снятых перед отправкой в армию и выставленных в витрине у фотографа. Однако
первоначальный снимок был, видимо, сделан любителем — несомненно этой молодой
женщиной или каким-нибудь однополчанином, потому что сценой служит не имитация
буржуазной гостиной и не псевдотерраса с вечнозелеными растениями на фоне
написанного на холсте парка, по сама улица перед входом в дом у газового фонаря с
коническим основанием, вокруг которого вьется гирлянда стилизованного плюща.
Обмундирование у солдата новехонькое. Фотография снята, должно быть, в начале
войны, в период всеобщей мобилизации или призыва первых резервистов, а может быть,
и раньше: во время отбывания воинской повинности или краткого периода военной
подготовки. Однако громоздкое походное снаряжение солдата, видимо, указывает
скорее, что дело происходит в начале войны, потому что в обычное время отпускник-
пехотинец пе явится домой в столь неудобном облачении. Наиболее вероятное объясне-
271
ние — чрезвычайные обстоятельства: отпуск, предоставленный мобилизованному на
несколько часов для прощания с семьей перед отправкой на фронт. Никакого одно-
нолчаннна с ним не было, потому что в таком случае на фотографии рядом с солдатом
была бы и молодая женщина; фотографировала, должно быть, она, своим собственным
аппаратом; она, конечно же, посвятила этому событию целую катушку пленки и наиболее
удачный снимок дала увеличить.
Солдат вышел на улицу, залитую солнцем, потому что в помещении было недостаточно
света; он попросту выглянул за дверь и нашел вполне естественным примоститься у
фонаря. Чтобы свет падал спереди, он повернулся лицом к улице, а позади него,
справа (т. е. по левую руку от него) виднеется каменное ребро здания; с другого
бока возвышается газовый фонарь, подол солдатской шинели касается его. Солдат
бросает взгляд на свои ноги и впервые замечает литую ветвь металлического плюща.
Разлапистый лист из пяти остроконечных лопастей с пятыо выпуклыми прожилками сидит
на продолговатом черенке, всякий раз, выпуская лист, плеть изгибается, но
изменчивые кривые, которые она при этом описывает, едва заметны по одну ее сторону
и очень явственно видны по другую, что придает всему рельефу извилистость, но не
позволяет плети устремиться вверх, а заставляет обвиваться вокруг конуса; затем
плющ разветвляется: верхняя, более короткая ветвь, всего с тремя листочками (из них
один на конце, совсем малюсенький), изгибается мягкой синусоидой, другая ветвь
огибает конус с обратной стороны и спускается к тротуару. Катушка с пленкой
кончается, и солдат возвращается в дом.
В коридоре как всегда темно. Дверь квартиры осталась приоткрытой; солдат толкает
ее, проходит через неосвещенную переднюю и садится за стол, а жена наливает ему
вина. Он пьет молча, небольшими глотками, и всякий раз, отпив, ставит стакан на
клетчатую клеенку. Так он повторяет раз за разом, после чего вся клеенка перед ним
оказывается в круглых пятнах, но эти пятна образуют не всегда замкнутые дуги, порой
набегающие одна на другую,— местами они почти высохли, местами еще блистают
свежепролитой жидкостью. Отпивая маленькими глотками виио, солдат не отрывает глаз
от этой путаной сетки, рисунок которой с каждой минутой усложняется. О чем
говорить, он не знает. Ему бы надо идти. Но стоит ему опо-
272
рожиить стакан, как женщина уже наливает следующий, и он снова пьет, мелкими
глотками, заедая остатками хлеба. Ребячья фигурка, замеченная им через приоткрытую
дверь соседней комнаты, растворилась во мраке.
Когда солдат отваживается поднять глаза на молодую женщину, оказывается, ч™ она
сидит напротив: не за столом а на стуле, который стоит (переставила она его, что
ли?) перед комодом, под черным квадратом портрета на стене. Она тем временем
созерцает помятое обмундирование гостя* ее серые глаза останавливаются на вороте
шинели на двух красных лоскутах сукна, где обозначен помер воинской части.
_ Это какой полк? — говорит она наконец, кивнув на
два ярко-красных ромба.
— Не знаю,— говорит солдат.
На этот раз лицо женщины выражает удивление.
— Вы забыли и номер вашего полка?
— Нет, не в том дело... Но шииель-то не моя.
Женщина озадачена и не говорит ни слова. Но, видимо, ей приходит на ум какой-то
вопрос, и она либо не знает, как его сформулировать, либо не решается прямо его
задать. Помолчав с минуту или более, она спрашивает:
— А чья же?
— Не знаю,— отвечает солдат.
Впрочем, если бы он знал, он смог бы, вероятно, сказать и какого полка номер
значился на ярко-красных ромбах. Он снова вглядывается — поверх черноволосой
женской головы — в увеличенный портрет, висящий на стене. Изображение овальное,
затушеванное по краям; бумага вокруг — до самой четырехугольной рамки из очень
темного дерева — светло-кремовая. С такого расстояния номер воинской части на
вороте шинели неразличим. Обмундирование, во всяком случае, пехотное. В ожидании
отправления в армию солдат, должно быть, оставался на казарменном положении в самом
городе или неподалеку, в его окрестностях; иначе он не смог бы перед отправлением
прийти попрощаться с женой. Но где в этом городе находятся казармы? И много ли их?
Какие части располагаются там в обычное время?
Солдат подумал, что надо бы расспросить: вот и была бы подходящая, вполне
безобидная тема для разговора. Но стоит ему раскрыть рот, и он замечает, как
поведение его собеседницы разом меняется. Она глядит на него, слегка ирищурясь, и с
напряженным вниманием следит за его
273
словами, пытаясь уловить, какой тайный смысл он в них вкладывает. Запнувшись, он
сразу же обрывает фразу и поспешно поворачивает беседу в другую сторону — вопрос же
сформулирован им в такой зыбкой форме, что женщина может и воздержаться от ответа.
Она, впрочем, такое решение и принимает. Но лицо ее словно свело судорогой.
Подобные вопросы явно мог бы задать какой-нибудь незадачливый шпион:
подозрительность в подобных обстоятельствах естественна... Хотя, собственно, сейчас
скрывать от врага расположение военных объектов уже поздновато.
Солдат покончил и с вином и с хлебом. У него нет больше никаких причин
задерживаться в этом жилище, как бы ни хотелось ему еще с минутку насладиться этим
относительным теплом, этим не слишком удобным стулом, обществом этой недоверчивой
женщины. Надо придумать, как бы уйти, держась вполне непринужденно, и таким образом
сгладить впечатление от недавней оплошности. Самым опрометчивым, в любом случае,
была бы попытка оправдаться; и какое правдоподобное объяснение найти тому, что он
не знает... Солдат пытается припомнить, какие в точности он употребил выражения.
Слово «казарма» — было, но он не может восстановить в памяти нелепую фразу, которую
он тогда произпес; ои даже не уверен, что упомянул о расположении зданий, и еще
меньше — дал ли понять без обиняков, что расположение их ему неизвестно.
Возможно, сам того не подозревая, он во время своих скитаний и проходил мимо какой-
нибудь казармы. Однако он не увидел ни одного здания в традиционном стиле: низкое
строение (всего в два этажа), с совершенно одинаковыми, обрамленными красным
кирпичом окнами, под довольно плоской шиферной крышей и высокими, прямоугольными,
тоже кирпичными трубами, растянувшееся примерно на сотню метров. Здание возвышается
в глубине обширного двора, голого, посыпанного гравием, отгороженного от бульвара с
его густолиственной сенью высоченной металлической решеткой, укрепленной
контрфорсами и ощерившейся колючими остриями, направленными как внутрь, так и
наружу. Там и тут в будке укрываются часовые с винтовкой; будки эти деревянные, под
цинковой крышей, и снаружи они по обе стороны пестрят широкими черно-красными
полосами.
Ничего похожего солдату на его пути не попадалось. Он пе проходил мимо решетчатой
изгороди, не видел обширного двора, посыпанного гравием; не встретились ему
274
ни пышная листва, ни будка, ни, само собой, часовые с вип-товкой. Он не заметил и
намека на обсаженный деревья-мн бульвар. Он проходил все теми же прямыми улицами,
меж двух шеренг высоких и плоских фасадов; но ведь ка-зарма может принять и такое
обличье. Будки, естественно, могли быть сняты, как и все, что выделяет подобное
здание из ряда других, его окружающих; сохранились лишь железные решетки,
загородившие окна нижнего этажа почти доверху. Это вертикальные прутья с квадратным
сечением, расположенные на расстоянии ладони один от другого и, поближе к краям,
связанные поперечными брусьями/ Верхпий, свободный их конец, сантиметрах в
двенадцати от свода амбразуры, завершается острием; нижние концы прутьев
вмонтированы в каменную опору окна, но эта подробность не заметна из-за скопления
снега, покрывшего всю горизонтальную поверхность ниши неровным слоем, особенно
толстым в правом углу.
Но с таким же успехом здесь может помещаться и казарма пожарников, или монастырь,
или школа, торговая контора или же попросту жилой дом, где окна нижнего этажа
загорожены решетками. Дойдя до следующего перекрестка, солдат сворачивает под
прямым углом в примыкающую улицу.
Л снег все падает по-прежнему медленно, мерно, вертикально, и бёлый покров на
выступах подоконников, на ступеньках подъездов, на выпуклостях черных фонарей, на
мостовой, где больше нет машин, на опустевших тротуарах, где исчезают протоптанные
за день дорожки, неприметно утолщается. И снова приходит ночь.
Однообразные хлопья, постоянной величины, равно удаленные друг от друга, сыплются с
одинаковой скоростью, сохраняя меж собой тот же промежуток, то же расположение
частиц, словно они составляют единую неподвижную систему, непрестанно, вертикально,
медленно и мерно перемещающуюся сверху вниз.
На гладкой, как бы нетронутой снежной пелене оттиснуты, глубиной по крайне мере в
сантиметр, следы запоздалого прохожего, который, пригнув голову, шагает вдоль
домов, с одного в другой конец прямой как стрела улицы. И снег сразу же заметает у
него за спиной отпечатки подбитых гвоздями подошв, мало-помалу восстанавливая
первозданную белизну истоптанного снежного покрова, возвращая ему зернистость,
бархатистую гладкость, хрупкость, затушевывая остроту гребней на закраинах, прида-
275
вая их очертаниям все большую обтекаемость, и, наконец, заполняя доверху глубокие
оттиски шагов, так что разница их уровня с уровнем прилегающей поверхности
становится неуловимой, целостность покрова восстанавливается и он опять делается
гладким, девственным, невредимым.
Так что солдату и невдомек, проходил ли кто-нибудь незадолго до него вдоль этой
вереницы домов с неосвещенными окнами. Ои доходит до следующего перекрестка, но и
тут, на тротуаре поперечной улицы, не обнаруживает никаких следов, однако и это
тоже ничего не значит.
Впрочем, следы мальчугана исчезают медленнее. При ходьбе он оставляет за собой
горбатые отпечатки: подошва, резко отталкиваясь, громоздит позади небольшую кучку
примятого снега — она приходится как раз посередине ступни (в самом узком ее
месте), и более или менее приметный ее гребень стирается позже, чем весь остальной
след, а вмятины, оттиснутые то тут, то там носком или каблуком, еще глубже оттого,
что мальчуган шагает не по старым дорожкам, которые проложены были днем, но
преимущественно по обочине тротуара, где снег всего толще — хотя на глаз эта
разница и неприметна,— а потому нога проваливается еще глубже. И поскольку мальчик
к тому же движется очень быстро, длина следов от точки его первоначального
местонахождения до последней горбинки, еще различимой под свежим слоем снега, длина
эта в сумме значительно превосходит длину следов, оставляемых позади себя солдатом,
в особенности если принять во внимание горбинки, украсившие отпечатки ног
мальчугана вокруг каждого фонаря.
Эти горбинки, правда, выражены не слишком резко, потому что мальчик, во время
пируэта, который он совершает, ухватившись рукой за фонарный столб, ногой едва
касается земли. Что же до рисунка его каучуковых подошв, он различим весьма смутно:
еще до того, как падающий снег затушует его очертания, уже нельзя разглядеть ни
елочек рифления, ни креста в центре круга. Однако и вмятины, оставляемые
мальчуганом, и причудливый способ его передвижения не позволяют отличить его следы
от любых других, оставляемых ребенком его возраста, если он носит, впрочем, башмаки
с такими же подошвами (возможно, такие же башмаки, купленные в том же магазине) и
выделывает вокруг фонарных столбов такие же пируэты.
Нет на снегу ни таких, ни иных и попросту никаких отпечатков, никакого следа
человеческой ноги, а снег все
276
сыплется на пустынную улицу, медленно, мерно, вертикально. Мрак густеет, чернеет, и
белые хлопья видны только тогда, когда пролетают в свете газового рожка. А улица
вся усеяна — с равными промежутками (но кажется, что промежутки эти становятся
короче и короче, по мере удаления вправо и влево),— усеяна светлыми пятнами, н во
мраке выделяются пунктиром бесчисленные крохотные белые крапинки, как бы
вовлеченные снегопадом во всеобщий круговорот. Окно расположено на самом верхнем
этаже, и все эти кружки света, утонувшие в глубине длинной траншеи, образованной
двумя параллельными плоскостями фасадов, неминуемо кажутся далекими и бледными,
такими далекими, едва мерцающими, что, конечно, различить в их мерцании отдельные
хлопья немыслимо; с такой высоты видится лишь тут и там смутное белесое свечение,
достаточно призрачное в слабом отблеске фонаря и еще более неверное из-за
рассеянного света, излучаемого вокруг мертвыми поверхностями земли, неба, полотнища
густых хлопьев, медленно, но беспрерывно опускающегося перед окнами, полотнища
такого плотного, что оно начисто заслоняет дом напротив, фонарные столбы,
последнего запоздалого путника, всю улицу.
Возможно, фонари и не были зажжены в этот вечер, в эту ночь, в эту студеную ночь. А
что до перестука шагов случайного прохожего, перестука, заглушаемого к тому же
пеленой свежевыпавшего снега, он не мог при такой удаленности от земли, такой
высоте проникнуть сквозь железные жалюзи, стекла, плотные бархатные шторы.
Мушиная тень на потолке застыла в точке, где световой круг от лампы встречается с
красной шторой. Остановившись, эта тень обретает более сложные очертания: это по-
прежнему увеличенный снимок коленчатой нити в электрической лампочке, но основные
его черты на некотором расстоянии дублируются в виде двух, хотя и более тусклых,
расплывчатых, но идентичных отображений, обрамляющих первое. Быть может, и другие,
еще менее четкие очертания множатся вокруг этих двух; они неразличимы, потому что
вся совокупность ломких очертаний мушиной тени располагается не на самом освещенном
участке потолка, а на бахроме полусвета, шириной от одного Д° Двух сантиметров,
окаймляющей всю периферию круга и граничащей с мраком.
По сравнению с ослепительной яркости кругом света, резко выделяющимся на белизне
потолка, вся остальная
277
комната, где зажжена эта единственная лампа, стоящая в углу стола, кажется
погруженной во мрак. Если долго не отрывать глаз от светового круга на потолке, то
потом, переведя взгляд, перестаешь что бы то ни было различать на стенах комнаты.
Портрет, висящий в глубине, становится серым четырехугольником в черном обрамлении;
комод под ним — всего лишь темный квадрат, подобно портрету не имеющий объема и
попросту напоминающий кусок обоев; то же самое можно сказать про камин,
расположенный посередине поперечной стены. Что до самих обоев, то бесчисленные
крохотные пятнышки их однообразного узора уже не обнаруживают сходства ни с
факелом, ни с цветком, ни с человеческой фигуркой, ни с кинжалом, ни с газовой
горелкой, ни с чем бы то ни было еще. Они — как перья, бесшумно ниспадающие по
вертикальной прямой, ниспадающие монотонно и медленно, так медленно, что движение
едва угадывается, и начинаешь сомневаться, в какую же сторону они летят,— вверх или
вниз, подобно тому как неясно направление взвешенных частиц в тихой воде —
крохотных шариков в насыщенной воздухом жидкости, или снежных хлопьев, или пылинок.
И на полу, точно так же погруженном в полумрак, исчезли лоснящиеся дорожки.
Освещена лишь поверхность стола под коническим абажуром лампы да штык, лежащий
посредине. Его короткое, но мощное двустороннее лезвие с двумя симметричными, но
скошенными в противоположных направлениях плоскостями, сверкающими гладкой сталью
по обе стороны главной оси, отражает свет лампы и посылает его на середину комнаты.
Смутные очертания портрета, на середине противоположной стены, кажутся в полутьме
серым овалом, вписанным в белый прямоугольник, вытянутый в вышину и обрамленный
чернотой.
В эту минуту довольно близко раздается чей-то нерешительный, невнятный голос.
Солдат опускает глаза и переводит взгляд с портрета, что висит посредине стены, на
молодую женщину, сидящую на стуле перед комодом. Но голос, доносящийся до его
слуха, принадлежит не ей,— такой же низкий, быть может, однако не столь моложавый,
это наверняка голос мужчины. Фраза, которую повторяет этот голос, звучит, впрочем,
приблизительно так же, как тогда, и так же, как тогда — совершенно невпятио, а
между тем молодая женщина сидит не раскрывая рта, выпрямив-
278
щпсь на стуле и через стол устремив глаза на приоткрытую дверь в углу комнаты. В
черную щель, прямоугольник которой отделяет подвижную створку двери, совершенно не
видно, что делается в соседней комнате.
Молодая женщина встает и шире распахивает створку, так что можно проскользнуть в
дверь; та снова захлопывается, но неплотно, оставляя такую же щель, что и прежде. В
черном промежутке опять возникает мальчик.
Возникает, по крайней мере, его вертикальный срез глаз, нос, три четверти рта и
подбородка, продолговатый прямоугольник синего фартука, половина голой коленки,
носок, черный фетровый ботик,— все это застыло в совершенной неподвижности, а тем
временем мужской голос в третий раз повторяет ту же фразу, но уже не так громко, и
это опять-таки мешает разобрать в ней что-нибудь, кроме наплыва бессмысленных
звуков. Густой женский голос, еще более Низкий, отвечает ему почти шепотом. Взгляд
ребенка явно останавливается на дверной ручке — белой, фарфоровой, яйцевидной. По
другую сторону, рядом с косяком, укреплен тоже фарфоровый электрический
выключатель. Возникает спор; говорит главным образом молодая женщина, говорит
быстро, длинно, видимо многократно повторяя одни и те же выражения с теми же
интонациями. Брюзжащий мужской голос доносит лишь короткие, односложные фразы,— в
них звучит недовольство. Мальчик, расхрабрившись, приоткрывает дверь пошире.
Нет, это не мальчик, вовсе нет: он исчезает, а на его месте — молодая женщина, она-
то и просовывает голову в увеличившуюся щель, оказываясь при этом чуть повыше
мальчишечьего роста.
— А это не Булар?
И так как солдат смотрит на нее вопросительно, она повторяет: «Улица Булар? Это не
ее вы ищете?»
— Нет... Не думаю...— довольно нерешительно говорит солдат.
Потом, поразмыслив, он с большей уверенностью отрицательно мотает головой вправо и
влево: «Не думаю. Нет». Но собеседница уже исчезла; и дверь, на этот раз, прикрыта
плотно.
Сияющий белый овал ручки сверкает всеми точками поверхности; прежде всего он
поражает своим блеском в самом верху; затем, более протяженное, но менее
ослепительное местечко находится справа, образуя нечто вроде четырехстороннего
криволинейного многоугольника. Кро-
279
ме того, светлые разводы различной длины, ширины и яркости повторяют, с разными
промежутками, общие очертания округлостей ручки, как это принято делать на рисунке
для придания ему рельефности.
Но эти концентрические линии, вместо того чтобы сообщить овалу объемность, словно
бы вращаются вокруг него: пристально глядя на фарфоровое яйцо, солдат замечает, как
оно начинает двигаться, сначала едва приметно, потом все скорее, причем попеременно
отклоняется от большой оси на десять — двадцать градусов в ту и другую сторону от
вертикали. Тем не менее створка не открывается, может быть, мальчуган за дверью
попросту играет ручкой, такой же белой фарфоровой ручкой, симметрично расположенной
на плоскости двери по другую ее сторону.
Когда же дверь опять отворяется, в нее входит не любопытный, хотя и робеющий
мальчуган, и не светлоглазая молодая женщина, но совсем повое лицо: это, конечно,
тот самый человек, что недавно разговаривал в соседней комнате; и действительно,
голосом того же тембра и звучания он заявляет солдату, что улицы Бушаре нет нн в их
квартале, ни вообще в городе. Наверно, солдату сказали «улица Булар», и вновь
вошедший предлагает объяснить, где находится эта улица. «Не очеиь-то близко!» —
добавляет он, разглядывая солдата, который сидит на стуле слегка сгорбившись, держа
плашмя ладони по бокам и все так же крепко зажимая под мышкой измятый пакет; при
этом вошедший разглядывает солдата так пристально, словно прикидывает, сколько
километров тот еще в состоянии проделать, пока не рухнет окончательно.
Возраст мужчины явно вполне соответствует призывному; но он калека, что оправдывает
его пребывание среди штатских. Левая нога у него, видимо, бездействует; ходит он,
опираясь на деревянный костыль, который держит слева под мышкой, и управляется с
ним очень ловко, если судить по стремительности маневра, к какому он прибегнул,
чтобы пройти в дверь и приблизиться к столу, накрытому клеенкой в красно-белую
клетку, о край которого он сейчас опирается правой рукой. Возможно, он инвалид
войны: был, должно быть, ранен в пачале военных действий, плохо ли, хорошо ли
поставлен на ноги и вернулся домой до разгрома и отступления армии, а значит, и до
свертывания военных госпиталей. У него, как и у солдата на фотографии, тщательно
подстриженные короткие усики. Впрочем, он вообще похож па этого солдата, если после
такой
280
подчистки и ретуши можно говорить о каком-либо сходстве портрета с оригиналом. Но
подобное сходство вообще, конечно, ничего не доказывает. Солдат раз и другой
отрицательно мотает головой:
— Нет,— возражает он,— совсем не похоже на Бушар...
— Я сказал — Бувар.
— Не думаю. Нет. Как-то no^pyroMv.
— Другого ничего нет.
— И потом, она где-то тут.
— Выходит, ты зпаешь город?
— Нет... Но это...
— А раз не знаешь, чего зря болтать? Я-то город знаю! Не всегда ведь я был
колченогим...— Он кивает па костыль.— Твоя улица Бувар совсем на другом конце!
Солдат готов представить веские доводы, которые убеждают его в обратном или,
точнее, заставляют думать, что искомая улица совсем не та. Но трудно, не входя в
запутанные подробности, убедить инвалида, проявляющего со своей стороны такую
уверенность. К тому же, по зрелом размышлении, солдату и самому его доводы начинают
казаться менее убедительными. И он уже готов смиренно выслушать пояснения, которые
инвалиду так настойчиво хочется дать, но тут через все еще раскрытую дверь в
комнату возвращается молодая женщина. Она как будто недовольна. Входит она
поспешно, словно задержалась по какому-то внезапному, неотложному делу, которое
помешало ей появиться вместе с мужчиной или хотя бы задержать того, чтобы его не
увидел пришелец.
Инвалид принимается описывать топографию города и перечисляет множество названий:
улицы — Ванизье, Вап-тардье, Базаман, Давидсон, Тамани, Дюруссель, Дирбон и т. д.
Молодая женщина прерывает его посредине этого перечня:
— Но вам же сказали, что это пе улица Брюлар.
— Не Брюлар: Бувар! Я-то ее хорошо знаю! — И обернувшись к солдату, он
спрашивает так, словно не сомневается в ответе: — Ты разыскиваешь склад?
— Склад?
— Ну, да: военный склад, тот, что в последнее время служил вспомогательной
казармой.
— Нет, не склад и пе казарму,— говорит солдат.
— Ну, все равно, казарму или пет, улица от этого не меняется.— Внезапно его
осеняет, п, постучав кончиками
281
пальцев по столу, он обращается к женщине: — Да ведь малыш может его проводить, это
всего проще.
Все с тем же выражением замкнутости на лице, женщина в ответ пожимает плечами: «Вы
ведь знаете, я не хочу, чтобы он выходил».
Между ними снова начинается спор, снова, если инвалид — тот же человек, чей голос
слышался прежде. Во всяком случае, в противоположность диалогу, доносившемуся тогда
из соседней комнаты, сейчас говорит главным образом мужчина, требуя представить
веские доводы, заставляющие держать мальчика взаперти, едва выслушивая ответы, он,
тоном, не допускающим возражений, отрицает всякую опасность хождения по городу —
для ребенка, тем более, к тому же идти недалеко, еще и стемнеть не успеет, как
мальчуган вернется. Женщина возражает, раздраженно бросая короткие реплики:
— Вы говорили, что это далеко.
— Далеко, если кто не знает. Но не для мальчишки. Он плутать не станет: стрелою
промчится прямиком и разом вернется.
— Пусть лучше дома сидит,— говорит молодая женщина.
На этот раз мужчина приглашает в свидетели гостя: ну, если выйдешь, какая сегодпя
может угрожать опасность? Разве на улицах неспокойно? Разве может что-нибудь до
вечера случиться, и т. д.
Солдат отвечает, что ему об этом ничего не известно. А насчет спокойствия на
улицах, так это действительно бесспорно.
— Но они могут с минуты на минуту нагрянуть,— возражает женщина.
Инвалид другого мнения:
— Не раньше завтрашнего вечера,— утверждает оп,— или даже послезавтра. Ты как
думаешь: иначе сидел бы он тут и спокойно их поджидал?
Это он говорит про солдата и делает над столом широкий, неопределенный жест в его
сторону; но что касается самого солдата, он не находит этот довод очень
убедительным: ему-то уж никоим образом не следовало бы тут находиться. Инвалид
снова втягивает его в беседу, но он, едва приподняв лежащую на колене руку, лишь
делает неуверенный жест:
— Не знаю,— говорит он.
Солдат к тому же вовсе не добивается, чтоб его прово-
282
жали на другой конец города, хотя, но правде говоря, и пе знает, что другое ему
остается теперь делать. Несмотря на передышку, он ничуть не чувствует себя
отдохнувшим, его охватывает еще большая усталость. Он смотрит на молодую
черноволосую и светлоглазую женщину с замкнутым лицом, па ней широкий, стянутый в
талии передник; смотрит на калеку, кому, видимо, не слишком досаждает его
инвалидность, раз он все время стоит, опираясь на костыль, хотя неподалеку есть
свободный стул; солдату приходит на ум, уж не опустил ли тог покалеченную ногу на
пол? Но он не может себе этого уяснить, потому что инвалид стоит по другую сторону
стола, опираясь о его край, и виден только до бедер: пришлось бы нагнуться,
приподнять клеенку и заглянуть под стол, меж четырех квадратных ножек, которые
книзу становятся тоньше или, утончаясь книзу, в то же время тщательно выточены и
украшены желобками, причем вверху они цилиндрические, гладкие, а в самом конце
увенчаны четырьмя кубами, украшенными с двух сторон скульптурными розами, или...
Солдат снова глядит на портрет в глубине комнаты: с такого расстояния черты лица на
портрете совсем неразличимы; что до деталей обмундирования, надо быть хорошо с ним
знакомым, чтобы их разглядеть: перекрещивающиеся на груди ремни, у пояса кинжальный
штык в черном кожаном чехле, откинутые полы шинели, обмотки... если не гетры, а
возможно, даже — сапоги...
Но вот в двери, ведущие из передней, входит мальчуган. Кто-то подталкивает его
ближе к солдату, который по-прежнему сидит за столом. Свободной рукой пихая в спину
упирающегося мальчугана, инвалид быстро перебирает костылем, но почти не двигается
с места. Раненая нога чуть короче здоровой или слегка согнута, и поэтому, когда
инвалид передвигается, нога повисает, на несколько сантиметров не достигая пола.
Мальчик переоделся, несомненно, чтобы выйти на улицу; на нем теперь длинные узкие
брюки, из-под которых виднеются высокие башмаки, и толстый шерстяной свитер с
отвернутым воротом, спускающийся ниже бедер; неза-стегнутая накидка свисает до пят,
на голове — берет, надвинутый по самые уши. Все одеяние одного и того же темно-
синего цвета, или, точнее, различных оттенков одного и того же цвета.
Инвалид отпускает ребенку более увесистый подзатыльник, и тот делает шаг в сторону
солдата; при этом
283
он запахивает полы пакидки и плотно прижимает ее к телу, обеими руками придерживая
изнутри. Мужчина снова повторяет: «Он отыщет эту улицу Бувар, он-то ее отыщет».
Мальчуган упрямо уставился вниз, на свои грубые башмаки с каучуковой подошвой,
образующей почти вровень с полом желтую черту.
Значит, женщина наконец уступила? Солдат, однако, не заметил, чтобы она в его
присутствии разрешила ребенку выйти. Может быть, это случилось не при пем? Но где и
когда? Или тут обошлись без ее согласия? Женщина держится сейчас несколько в
стороне, она стоит в обрамлении распахнутой двери, выглядывая из полумрака соседней
комнаты. Стоит ие шелохнувшись, неподвижно опустив руки. Она молчит, но, видимо,
только сию минуту что-то сказала и этим, должно быть, привлекла внимание солдата.
Женщина тоже сменила одежду: на ней уже нет передника, укрывавшего широкую серую
юбку. Лицо ее хранит все то же замкнутое выражение, но выражение это как-то
смягчилось, стало более неуловимым. В темноте глаза ее кажутся больше; она смотрит
поверх стола, где оставлен стакан, на замершего мальчика, с головы до пят
закутанного в темную накидку; невидимые снаружи руки обозначились изнутри на двух
разных уровнях: они придерживают полы накидки у ворота и посередине. Человек с
костылем, стоящий позади мальчугана, тоже застыл без движения; оп сгорбился,
склонился вперед, сохраняя шаткое равновесие лишь благодаря костылю, который он
держит наклонно, крепко зажав под мышкой, и, приподняв плечо, опирается па него
всем телом, причем другой, свободной рукой, полусогнутой в локте, с раскрытой,
перевернутой кверху ладонью, он, вытянув указательный и большой палец и подогнув
остальные, почти касается спины мальчугана. На его лице застыло какое-то подобие
улыбки, пожалуй, «доброй улыбки», но черты его так окаменели, что улыбка эта
становится похожей на гримасу: уголок рта вздернут, один глаз полузакрыт, а щеку
словно бы свела судорога.
— Он ее отыщет, эту улицу Бувар, он-то ее отыщет.
Все молчат. Мальчик уставился на свои башмаки. Инвалид все так же стоит
наклонившись, словно вот-вот упадет; его правая рука слегка вытянута, рот исказило
подобие улыбки. Женщина как будто еще дальше отступила в полумрак соседней комнаты,
широко открытыми глазами она смотрит сейчас на солдата.
284
И снова улица, ночь, падает снег. Зажав сверток под мышкой, засунув руки в карманы
шинели, солдат с трудом поспевает за мальчуганом, опередившим его па три-четыре
метра. Ветер гонит по горизонтали мелкие густые хлопья, и, спасаясь от снега,
который хлещет прямо в лицо, солдат ниже пригибает голову и старательно щурит веки,
оставляя глаза приоткрытыми. Он едва различает на снегу два черных башмака, которые
поочередно то высовываются из-под шинели, то прячутся под ее полами: попеременно
один выступает вперед, другой отстает.
Попадая в полосу света газового фонаря, солдат замечает белые пятнышки, которые
спешат ему навстречу, отчетливо выделяясь на темной коже башмаков,— чуть повыше они
прилепились к матерчатой накидке. Оказавшись в полосе света, солдат торопится
поднять голову, надеясь увидеть перед собой мальчугана. Но тот, конечпо, уже снова
потонул во мраке; а рой белых хлопьев, опускающихся между солдатом и мальчиком,
освещен фонарем, и это мешает что-либо различить за его слепящей завесой. Мелкие
кристаллики секут прямо по лицу, так что солдат вынужден снова опустить глаза на
свою шипель, мало-помалу обрастающую снегом, на небрежно перевязаппый сверток, на
грубые башмаки, передвигающиеся попеременно, как парные чашки весов, испытывающие
параллельные колебания — тождественные, но направленные в противоположные стороны.
Лишь сделав еще песколько шагов и выйдя за пределы светового круга, солдат может,
наконец, убедиться, что мальчуган еще тут: освещенпый фонарем, его неверный силуэт
с развевающимися на ветру полами накидки вырисовывается впереди, метрах в пяти-
шести от солдата.
А мальчуган вовсе исчез. Солдат теперь одип, стоит — и пи с места. Улица такая же,
как все прочие улицы. Мальчуган привел бго сюда и бросил одного перед домом, таким
же, как все прочие дома, сказав: «Это тут». Солдат поглядел па дом, па улицу,
сначала с одной стороны, потом с другой, поглядел на дверь. Дверь — как все прочие
двери. Длинная темная улица то тут, то там освещена фонарями, такими же, как все
фонари: па чугунных столбах, со старомодными украшениями.
Мальчугап сразу же возникает снова; по вместо того, чтобы вернуться, он продолжает
идти в прежнем направ-
285
лении — вперед. Пройдя метров десять, он вдруг бросается бежать. Полы накидки
развеваются у него за спиной. Он бежит напрямик, вскоре исчезает из глаз, снова
возникает у каждого фонаря, снова исчезает, возникает снова и с каждым разом
становится все меньше, бесформенней, его заволакивает снегом и мраком...
Солдат один, он стоит перед дверью и смотрит. Почему малыш указал ему на этот
именно дом, а не на какой-нибудь другой, ведь ему вообще-то поручили только довести
пришельца до этой улицы? А что это, впрочем, за улица? Та ли, о которой шла речь?
Солдат никак не может вспомнить название улицы, на котором так настаивал инвалид:
что-то вроде Маллар, или Малабар, Малардье, Моитуар, Мутардье... Нет, все что-то не
то.
В дверной нише, на косяке, с той стороны, куда падает немного света от ближайшего
фонаря, на высоте человеческого роста прикреплена табличка: возможно, там
обозначены фамилии жильцов или, по крайней мере, одного из них. Света мало, и
солдат не может прочитать, что там написано. Он подымается на приступку подъезда,
такую узкую, что с трудом может на ней удержаться, и протягивает руку к табличке.
На ее холодной глади глубоко выгравированы буквы, но такие мелкие, что солдату не
удается разобрать ни слова. Тут он замечает, что дверь приоткрыта: дверь, коридор,
дверь, передняя, дверь, потом, наконец, освещенная комната, стол, пустой стакан с
кружком темно-красной жидкости на дне и калека, который, наклонясь вперед и
опираясь на костыль, сохраняет шаткое равновесие. Нет. Приоткрытая дверь. Коридор.
Лестница. Женщина, взбегающая все выше с этажа на этаж по узкой винтовой лестнице,
извивающийся спиралью серый передник. Дверь. И паконец — освещенная комната:
кровать, комод, камин, письменный стол с лампой в левом углу, белый круг света.
Нет. Над комодом гравюра в черной деревянной раме... Нет. Нет. Нет.
Дверь закрыта. Солдат тычет пальцем в гладкую табличку, но рука закоченела от
холода, и он уже ничего не осязает. Створка распахивается настежь от первого же
толчка. Все тот же коридор, но на этот раз он освещен. На длинном шнуре свисает
голая лампочка, у самого входа, на коричневой стене — инструкция противопожарной
обороны, справа и слева — запертые двери, в глубине — лестница, подымающаяся
спиралью от площадки к площадке, от одного темного угла к другому.
286
— Что вам...
Это другой солдат, вернее, наполовину солдат, потому что на нем пилотка и
гимнастерка, но при этом — черные штатские брюки и серые замшевые туфли. Руки и
ногн слегка раскорячены, рот приоткрыт, он застыл с озадаченным, угрожающим,
испуганным видом, сначала потихоньку, затем все быстрее, он заплетающимся шагом
отступает в глубь коридора, причем туловище и конечности у него словно окаменели, и
кажется, что его на веревочке тащат по рельсам назад. Нет.
В то время как солдат, привстав на очень узкую приступку у самого порога, пытается
кое-как сохранить на ней равновесие, частично упираясь в створку запертой двери,
которая стесняет свободу его движений, принуждая неестественно изгибаться, причем
левая его рука по-прежнему засунута в карман шинели, и локоть прижимает к бедру
сверток, запакованный в коричневую бумагу, тогда как другая рука тянется к гладкой
табличке, прикрепленной к дверной нише у стены слева,— в то время как солдат тщетно
пытается расшифровать надпись, водя по ней собранными в щепотку кончиками пальцев —
указательного, среднего и безымянного,— дверь неожиданно распахивается, да так
внезапно, что он вынужден ухватиться за косяк, чтобы не упасть, чтобы его не
поглотила зияющая пасть коридора, посреди которого, песколько отступя от входа,
застыл человек в военной гимнастерке и пилотке, по в штатских брюках и каких-то
удивительных башмаках,— подошвы у них, наверно, из каучука, потому что человек
подошел совершенно бесшумно, шаги его по коридору не были слышны. Цветные ромбы с
номером воинской части на вороте его гимнастерки спороты. Одной рукой человек еще
держится за край двери, которая продолжает раскачиваться на петлях. Свободную
правую руку он поднял было до плеча в знак приветствия, но тут же ее уронил.
— Входите, это здесь,— говорит он.
Солдат переступает порог, делает три шага по коридору, освещенному голой
электрической лампочкой, свисающей на длинном витом шнуре. Солдат останавливается.
Человек закрыл дверь. Поток воздуха привел в движение лампочку, и та продолжает
раскачиваться на конце шнура.
Закрыв дверь, человек в военной гимнастерке снова застывает на месте, руки и ноги
слегка раскорякой, кисти повисли, вся поза выражает одновременно нерешитель-
287
ность и оцепенение. Все армейские знаки на его одежде спороты: не только с
воротника, но и нашивки на рукавах и на пилотке, а в тех местах, где они
находились, проглядывают кусочки нового сукна, более бархатистого, более яркого,
чем на соседних участках материи, потрепанпой, потертой, загрязненной от длительной
носки. Разница столь очевидна, что форма отсутствующих нашивок не вызывает
сомнения: вот знак пехоты, вот два параллельных, положенных вкось прямоугольника,
свидетельствующих о звании капрала; не хватает только расцветки (ярко-красный,
гранатовый, фиолетовый, голубой, зеленый, черный...), дающей точные сведения о
части, роде оружия и т. д. Лицо человека теперь ярко освещено и кажется усталым,
осунувшимся, исхудавшим: скулы торчат, щеки посерели, глаза провалились. Его тень
колеблется на деревянной двери то вправо, то влево, то вправо, то влево, в
зависимости от положения электрической лампочки, которая раскачивается на конце
длинного шнура перпендикулярно направлению коридора. (Поток воздуха должен был бы
подхватить лампу в продольном направлении, но тенденция колебаний постепенно
изменилась, хотя их амплитуда не уменьшилась сколько-нибудь заметно, и укороченная
тень человека то появляется, то исчезает попеременно — то слева, то справа.)
— Вы ранены? — спрашивает наконец незнакомец.
Солдат отрицательно качает головой.
— Больны?
— Тоже нет... Только устал.
— Ну, что ж. Подымайтесь.
Но ни тот ни другой не двигаются с места. И тень продолжает раскачиваться. Человек
говорит:
— Что у вас там, в свертке?
Поколебавшись, солдат опускает взгляд на пакет в замызганной коричневой бумаге, на
распустившийся шнурок, которым он перевязан.
— Вещи...
— Какие вещи?
— Мои.
Он снова подымает голову. Человек смотрит на него все тем же усталым, как бы
отсутствующим взглядом.
— Воинские документы при вас?
— Нет...
На губах у солдата какое-то подобие улыбки или мимолетная гримаса, брови его
недоуменно приподымаются,
288
показывая, как он удивлен этой неуместной требовательностью.
— Понятно,— соглашается человек, и тут же: — Ну, что ж, хорошо. Можете
подняться.
В эту минуту гаснет свет. Худощавое бледное лицо, опущенные руки с растопыренными
пальцами, раскачивающуюся подобно маятнику тень поглощает сплошной мрак. Мгновенно
останавливается и часовой механизм, равномерное тиканье которого слышалось все
время с самого начала сцены, хотя солдат и не отдавал себе в этом отчета.
И среди глухой тишины на сцене снова зажигается свет. Декорация та же: узкий
коридор, до половины выкрашенный в темно-коричневый цвет, выше он неопределенного
оттенка беж, как и очень высокий потолок. Справа и слева — двери. Их больше чем
прежде, они все одинаковой величины, очень высокие, узкие и сплошь темно-
коричневого цвета. Коридор явно длиннее прежнего. Довольно слабый свет такой же
круглой электрической лампочки, свисающей на конце витого шпура. Белый фарфоровый
выключатель с автоматическим устройством помещается в углу, как раз вверху
лестницы. Мужчины молча, медленно подымаются друг за дружкой. Тот, что идет
впереди, одетый в старую капральскую гимнастерку, по пути нажал на кнопку
выключателя (не потому ли они и подымались в темноте, что внизу не было
выключателя?), но при этом послышалось только легкое щелканье: грохот грубых,
подбитых гвоздями солдатских башмаков на верхних ступенях лестницы перекрывает
приглушенное тиканье часового механизма. Теперь, когда солдат хорошо видит, он
подымается с меньшим трудом. У его гида, идущего впереди, серые замшевые туфли на
каучуке, шорох его шагов едва слышен. Один за другим оба проходят одну за другой —
справа и слева — запертые высокие и узкие двери с белыми фарфоровыми ручками:-
округлые, яйцевидной формы, те сверкают на фоне темной и тусклой окраски дерева,
отражая в какой-то сияющей точке свет электрической лампы, причем ручка каждой
двери — то одной, то другой, справа и слева — повторяет это отражение.
В самом конце коридора — последняя дверь, похожая на все прочие. Солдат видит, как
человек, идущий впереди, берется за фарфоровую ручку и останавливается. Солдат
подходит ближе, тот быстро распахивает створку, про-
Ю М. Бютор и др.
289
пускает его вперед, входит следом и прикрывает за ними дверь.
Они в небольшой комнате без ламны, освещенной лишь голубоватым светом, проникающим
снаружи через шестидольное оконное стекло, не загороженное ни ставнями, ни шторой.
Солдат приближается к оголенному стеклу. Он видит пустынную улицу, однообразно
белую от снега. Ладонь его лежит на фарфоровом шарике, холодном и гладком на ощупь.
Щеколда не защелкнута, обе створки лишь прикрыты, они распахиваются без усилий,
просто под тяжестью руки. Солдат высовывается из окна. Снегопад кончился. Ветер
улегся. Ночь тиха. Солдат высовывается побольше. Тротуар пролегает далеко внизу,
дальше, чем он предполагал. Уцепившись за подоконник, он видит под собой, по
вертикали, вереницу окон, а в самом низу — подъезд и заснеженную приступку у
порога, освещенную соседним фонарем.
Дверь расположена в углублении и отсюда не видна. На свежем снегу — следы,
отпечатки грубых башмаков,— они тянутся слева, вдоль домов, приводят к подъезду и
тут, у конца зрительной вертикали, обрываются. В дверной нише шевелится какая-то
смутная тень. Похоже на мужчину в широкой накидке или военной шинели. Он поднялся
на приступку и прильнул к дверям. Но выступающая из углубления часть туловища
позволяет безошибочно угадать плечо с пристегнутой петлицей, согнутую руку, локоть,
придерживающий прямоугольный сверток размером с коробку для обуви.
— Что, дела, видно, неважны? — говорит человек, обращаясь к солдату.
Тот кое-как уселся на стул, рукой нащупав его позади себя. Человек на минуту
отлучился, порылся в вещах где-то в глубине комнаты и вернулся с объемистым
свертком, содержимое которого в лунном полусвете трудно было определить: так,
барахло...
— Дела, видно, неважны.
— Не знаю... — говорит солдат, проводя рукой по лицу.— Нет... так себе...
ничего.
Другая рука — по-прежнему в кармане шинели. Он поправляет сверток в сгибе локтя.
Видит вертикальную цепочку окон, из них каждое внизу заснеженной ниши отмечено
белой чертой, образующей вертикальный ряд белых ступеней, которые, подобно
падающему камню, отвесно спускаются к самому порогу подъезда. Солдат встает
290
и механически следует за мужчиной, который направляется к дверям. Под мышкой тот
держит одеяла. Свет в коридоре опять погас.
Они находятся в продолговатой комнате, освещенной синими лампочками. Вдоль боковых
стен, по обе стороны, ряды кроватей: слева голая стена, справа, на равном
расстоянии друг от друга, вереница окон с шестью заклеенными стеклами каждое. Окна,
видимо, расположены пе в углублении, а вровень со стеной; они выделяются только
благодаря очень темной окраске рам; и стены вокруг, и бумага, которой заклеены
стекла, одинаково блеклого тона, и в голубоватом уличном свете кажется, что это
ложные окна, что они попросту нарисованы в виде нанесенного широкими линиями
прямоугольника, разрезанного более тонкими поперечинами на шесть равных квадратов:
посредине вертикальная медиана и две горизонтали, поделившие ее па три части.
Солдат, попавший в комнату из темного коридора, без труда продвигается меж двух
рядов металлических кроватей, расставленных в строгом порядке; несмотря на тусклое
освещение, он все-таки может различить очертания предметов.
Почти на всех кроватях, укрывшись одеялами, лежат люди. Человек со споротыми
нашивками привел солдата к середине ряда, со стороны глухой, без окон, стены,
указал на свободный матрас и положил на него одеяла; потом, без всяких пояснений,
тем же каучуковым шагом, ушел и прикрыл за собою дверь.
Сложенные одеяла образуют на светлом фоне матраса два темных прямоугольника — два
прямоугольника, одним углом наложенных друг на друга. Две кровати по бокам заняты:
два тела, завернутых в одеяла, растянулись на спипе: под головой — валик, такой же
светлый, как и матрас; у соседа справа — руки под головой, согнутые локти косо
нацелены в пространство. Человек не спит: глаза у него широко открыты. Не спит и
его сосед слева, у которого руки под одеялом вытянуты вдоль туловища. Кое-кто,
подальше, в стороне, слегка приподнялся на локте. Один даже полусидит на постели:
он смотрит на вновь прибывшего, который в сумраке комнаты остановился перед своей
койкой, одной рукой — кончиками пальцев — опираясь о горизонтальный железный брус в
ногах кровати, Другой, засунутой в карман шинели, он придерживает ко-робку для
обуви. Никто не шевельнется, все молчат. Им, видио, не спится: еще очень рано, а
слабый свет не позво-
10*
291
ляет ничего делать — остается только лежать, вот так, с широко открытыми глазами, и
глядеть па новичка, на его истуканий вид, на коробку для обуви, или глядеть на
ложные окна перед собой, на голую стену, на потолок, в пространство.
Солдат подходит, наконец, к изголовью кровати, одновременно правой рукой берясь за
сверток, который он придерживал левой. И снова останавливается. Он замечает, что
зала, куда он попал, одной существенной мелочью отличается от обычных казарменных
помещений: вдоль стен, над койками, нет полок для обмундирования. Солдат стоит в
замешательстве с коробкой в руках, размышляя, куда бы. положить ее на ночь, не
решаясь с нею расстаться и не желая дольше привлекать к ней внимание. После долгих
колебаний он отодвигает подушку от железной краше-пой решетки в изголовье кровати,
кладет коробку на край матраса и для верности прижимает ее подушкой. Он полагает,
что таким образом, когда голова его будет лежать на подушке, любая попытка
завладеть коробкой разбудит его, как бы крепко он ни спал. Потом, сидя на койке,
он, нагнувшись, начинает медленно снимать обмотки и, по мере того как они
разматываются, скатывает их вновь.
«Ты даже не умеешь накручивать обмотки». У подножия фонаря, на краю тротуара,
мальчуган пристально рассматривает щиколотки солдата. Потом переводит взгляд выше,
исследуя все его одеяние с ног до головы, и, наконец, глаза его задерживаются на
впалых, небритых щеках солдата:
— Ты где сегодня ночевал?
Солдат неопределенно кивает. Все так же нагнувшись, он развязывает шнурок ботинка.
Мальчуган постепенно начинает отступать в глубь сцены, но не поворачиваясь, не
делая ни единого движения, не спуская с солдата серьезных глаз, он все в том же
синем шерстяном берете, надвинутом на уши, руками придерживает изнутри сдвинутые
потеснее полы накидки, а сам между тем скользит вспять по заснеженному тротуару,
вдоль плоских фасадов, мимо вереницы окон нижнего этажа: четыре одинаковых окна, за
ними почти такая же, как окна, дверь, потом еще четыре окна, дверь, окно, окно,
окно, окно, дверь, окно, окно, мелькающие все быстрей по мере того, как мальчуган
удаляется и фигурка его становится все меньше, все рас-плывчатей, сливается с
сумерками и, внезапно поглощен-
292
пая расстоянием, мгновенно исчезает, стремительно, как падающий камень.
Солдат, пе раздеваясь, растянулся на койке, сбросив только грубые башмаки, которые
поставил под кроватью, рядом с обмотками. Расстегнув ворот и не снимая шинели,
слишком измученный, чтобы сделать лишнее движение, оп завернулся в два одеяла.
Зала, правда, не отапливается и обогревается только дыханием скопившихся в ней
людей. Здесь нет громоздкой четырехугольной фаянсовой печи, расположенной в
глубине, у конца стойки,— печи с коленчатой, изогнутой под прямым углом трубой,
подвешенной к стене прямо над стоящими на полках бутылками. Но главное — он нашел
убежище от снега и ветра.
Солдат лежит с широко открытыми глазами, уставившись прямо перед собой в полумрак
комнаты, туда, где в нескольких метрах от него, опустив руки и как бы окаменев,
стоит мальчуган. Но солдат словно пе видит ни ребенка, ни чего бы то ни было
вокруг.
Его стакан давно уже пуст. Но он, видно, и не думает уходить. Зала, однако, уже
обезлюдела, последние посетители ушли, и хозяин, погасив большинство ламп, вышел
через внутреннюю дверь.
«Здесь ведь спать не положено».
Позади стола с пустым стаканом на нем, позади ребенка, позади огромной витрины,
наполовину укрытой сборчатой занавеской и украшенной тремя шарами в виде
треугольника да перевернутой надписью, все так же падают белые хлопья — все так же
медленно, мерно и вертикально. Должно быть, именно это непрестанное, монотонное,
неизменное падение хлопьев и созерцает солдат, оставаясь неподвижно за столом между
двумя собутыльниками. В сторону окна глядит и мальчуган, сидящий прямо на полу, на
переднем плане, хотя он и не может, если не закинет голову, увидеть незагороженную
часть стекла повыше сборчатой занавески. Что до остальных персонажей, их, видимо,
не заботит то, что происходит за окном: собравшись вокруг столиков, посетители
оживленно беседуют, размахивая руками; в глубине зала множество людей,
устремившихся влево, туда, где расположены нагруженные одеждой вешалки; справа
кучка зевак читает, повернувшись к стене, вывешенное там объявление; хозяин за
стойкой склонился к шестерке преисполненных воодушевления прилично одетых людей,
стоящих особняком, но, как и все прочие, застывших в
293
момент оживленной жестикуляции, утратившей из-за этой внезапной окаменелости всю
свою естественность, подобно тому как утрачивают ее люди, которых фотограф
намеревался снять полными жизни, но из-за длительной выдержки принудил слишком
долго сохранять принятую позу: «А теперь — не двигайтесь!» И рука повисла в
воздухе, рот приоткрыт, голова запрокинута — однако ведь этой окаменелости
предшествовало движение, и вот лицо искажено, руки, ноги оцепенели, улыбка стала
гримасой, порыв утратил цель и смысл. Вместо всего этого только отсутствие меры, и
неестественность, и мертвечина.
Прежде всего привлекают внимание шестеро на переднем плане слева — шестеро в
длинных кафтанах, скучившиеся перед стойкой, где виднеется полдюжины наполненных
стаканов, возле хозяина, который, перегнувшись тучным телом и расставив локти,
ухватился обеими руками за внутренний край стойки и склонился к этим шестерым, в
пылу оживленного и шумного спора позабывшим о жажде; мстительно вскинутые кулаки,
запрокинутые головы, уста произносят слова священной клятвы, а стоящие вокруг
торжественными жестами, единодушными возгласами подтверждают, одобряют сказанное.
Однако, пожалуй, самый примечательный в этой кучке людей — не тот дородный,
низенький человек в центре, с пафосом о чем-то толкующий, и не четверо других по
бокам (двое изображены лицом к зрителю, один — в профиль, другой — со спины),
вторящие этим речам, но шестой, стоящий позади, немного в стороне,— тот, что почти
на голову выше собеседников. Одет он точно так же, как они, насколько можно об этом
судить, ибо соседи почти заслоняют его и виден только отложной воротник с широким
белым галстуком да тугое плечо и горизонтально протянутая рука, опирающаяся локтем
и кистью о закругленный край стойки, где виден расширяющийся конусом кверху бокал
на круглой ножке.
Этого человека явно не занимает то, что говорят и делают, стоя рядом, его приятели.
Через головы сидящих за столами посетителей он глядит на единственную среди
присутствующих женщину: стройную подавальщицу, которая, с подносом в руках — а на
нем одна только бутылка,— пробирается посреди зала, между скамьями, стульями и
телами расположившихся вокруг рабочих. На ней простенькое, перехваченное в поясе
платье с очень широкой сборчатой юбкой и длинными рукавами. У нее густые
294
черные волосы| пышная прическа и правильные черты лица, резковатые, но тонкие.
Движения ее довольно грациозны. Трудно догадаться, куда она направляется, обеими
руками держа над головами свой поднос, потому что верхняя часть туловища и весь
корпус у нее резко повернуты вбок, так что профиль обращен в одну сторону, а бедра
— в другую, и кажется, что она озирается вокруг, проверяя, не зовет ли ее кто-
нибудь из примостившихся за столиками посетителей. Между тем поднос и сохраняющая
равновесие литровая бутыль на нем угрожающе наклонились. Но женщина, вместо того
чтобы следить за своей шаткой ношей, отвернулась более чем на девяносто градусов в
сторону от подноса, к правой части сцены, где за круглым столиком расположились три
солдата.
Нет уверенности, что ее занимают только они: в поле ее зрения находятся
одновременно и другие посетители, в частности штатские, сидящие позади, за другим
столом, чьи фигуры различаются слабее, потому что изображены они более смутно, хотя
для подавальщицы присутствие их не менее ощутимо. И как раз один из этих
посетителей поднял руку, видимо подзывая ее.
Но взгляд, который изображенная в профиль черноволосая молодая женщина устремила на
эту поднятую на заднем плане руку, в любом случае коснулся бы лица одпого из трех
солдат, которое обращено к зрителю (лица двух других на гравюре не видны),—
невыразительного, изможденного усталостью, своим спокойствием резко отличающегося
от судорожно искаженных лиц всех окружающих. Руки солдата плашмя лежат на столе,
покрытом красно-белой в мелкую клетку клеенкой, на которой многократно
передвигаемые стаканы оставили множество округлых следов, более или менее цельных,
более или менее высохших, более или менее отчетливых, порой вовсе смазанных
передвинутым стаканом, или рукавом шинели, или тряпкой.
И вот теперь женщина сидит на стуле напротив солдата, по другую сторону стола,
покрытого ниспадающей жесткими складками клеенкой в красно-белую клетку. Солдат
медленно жует хлеб, который женщина вместе с бутылкой и стаканом принесла для него,
и поглядывает на полуоткрытую дверь в глубине комнаты, в просвете которой
угадывается силуэт ребепка. Молодая светлоглазая и черноволосая женщина
расспрашивает, в каком пол-
295
ку служит ее гость, или, по крайней мере, в каком полку носят такую форму и такие
воинские знаки.
Наступает молчание, солдат переводит взгляд на хозяйку, а та неприметно
оборачивается, словно ее шея каким-то вращательным движением направлена в сторону
висящего на стене, повыше комода, портрета. Это фотография ее мужа, снятого в
полный рост, утром, перед отправкой на фронт в первые дни наступления, когда все в
тылу были уверены в легкой и скорой победе. С той поры женщина не получала от мужа
никаких вестей. Она знает только, что воинская часть, в которой он сражался,
находилась в момент вражеского прорыва под Рейхенфельсом.
Солдат спрашивает, что это была за часть. Ответ не очень точен, к тому же молодая
женщина совершенно незнакома с организацией армии и насчет дислокации частей,
видимо, заблуждается: батальон, о котором она говорит, даже не сражался, он попал в
окружение и был разоружен много западнее Рейхенфельса. Однако солдату не хочется
поднимать спор по этому поводу, тем более что молодая женщина может увидеть в этом
нечто оскорбительное для своего мужа, поскольку тот находится в армии. Он
ограничивается общим замечанием: под Рейхенфельсом было гораздо меньше войск, чем
полагали впоследствии.
— Так вы думаете, он в плену?
— Да, вероятно,— говорит солдат. Это пи к чему его не обязывает, потому что
если тот еще жив, он вскоре, в любом случае, окажется в плену.
В это время, легко передвигаясь и непринужденно одолевая препятствия, при этом
ловко орудуя деревянным костылем, входит инвалид. А в другой двери незамедлительно
появляется мальчик.
Это тот самый мальчик, который в надвигающихся сумерках поведет солдата по
пустынным улицам, вдоль домов с неосвещенными окнами. Между тем население в городе
осталось; должно быть, большинство жителей не за7 хотело его покинуть, когда еще
было время это сделать. Значит, никто пе решается зажечь свет в комнатах, окна
которых выходят на улицу? Почему же эти люди продолжают считаться с устарелыми
инструкциями, касающимися противопожарной обороны? Несомненно, по привычке; или же
потому, что отсутствует какая бы то ни было административная власть, которая могла
бы отменить давнишний приказ. Да отменять его сейчас, собственно, и
296
не к чему. Городское освещение и без того работает как в мирные времена: иные
фонари горят даже весь день.
Но сквозь стекла окон, которые тянутся вдоль плоских фасадов, ни внизу, ни на одном
из этажей высоких, однообразных домов не просвечивает ни единый лучик света. И хотя
эти окна снаружи не закрыты ставнями, а изнутри — шторами, они черны и голы так,
словно весь дом необитаем, и лишь порой, под каким-то случайным углом, в них
мимолетно сверкнет мгновенный отблеск фонаря.
Мальчуган шагает, как солдату кажется, все быстрей и быстрей, и, вконец измученный,
тот уже не поспевает за своим проводником. Крохотная фигурка в черной накидке, из-
под которой выглядывают две ноги в узких черных штанах, все больше удаляется.
Солдат поминутно опасается совсем потерять ее из виду. Внезапно она возникает в
свете фонаря много дальше, чем он предполагал, затем сразу же тонет во мраке и
снова становится незримой.
Мальчуган, который с самого начала избрал далеко не прямой путь, того и гляди,
может скрыться из глаз в какой-нибудь примыкающей улице. К счастью, свежий снег на
тротуаре храпит отпечатки его шагов — одинокие следы на девственной целине снежного
покрова, лежащего между цепочкой зданий и параллельным краем канавы,— отпечатки,
несмотря на быструю ходьбу, весьма отчетливые, хотя рифленые, елочкой, каучуковые
подошвы посредине круга, на каблуке, оставляют неглубокие вмятины па тонком слое
свежевыпавшего снега, покрывшего дорожки, к тому же за день утрамбованные
пешеходами.
Но вот след внезапно обрывается перед дверью, точно такою же, как все прочие, по с
неплотно прикрытою створкой: Приступка порога очень узкая, так что можно, не ставя
па нее ногу, разом через нее перешагнуть. В глубине коридора — свет. Слышно тиканье
часового механизма выключателя, похожее на «тик-так» огромного будильника. В конце
коридора начинается довольно узкая лестница, делающая коленчатые повороты под
прямым углом; ее короткие пролеты разделены небольшими четырехугольными площадками.
Поэтажные площадки, несмотря на множество дверей, которые на них выходят, лишь
чуточку просторней. На самом верху — запертая комната, где мало-помалу серым слоем
оседает пыль: на столе и мелких вещицах, громоздящихся на нем, на камине, на
мраморе комо-Да, диван-кровати, на вощеном полу или суконных тапочках...
297
По свежевыпавшему снегу тянется ровный и прямой след. Он тянется часами — правая
нога, левая нога, правая нога, и так часами. А солдат все шагает как автомат,
ошалев от усталости и стужи, машинально передвигая ноги: одну, за пей другую, не
будучи даже уверен, что он движется вперед, потому что у него под ногами в одних и
тех же местах возникают все те же ровные отпечатки. Расстояние между следами,
которые оставлены каучуковыми рифлеными подошвами, соответствует длине его шага —
шага человека, вконец обессиленного усталостью, и солдат, естественно, предпочитает
ступить в уже проложенный след. Его башмаки размером немного больше оставленных
отпечатков, но на снегу эта разница едва заметна. У него внезапно возникает
ощущение, что он уже здесь проходил, опередив самого себя.
А снег все падает густыми хлопьями, и едва различимые следы, оставленные
мальчуганом, быстро заполняются снегом, начинают утрачивать отчетливость и, по мере
того как расстояние между солдатом и мальчиком увеличивается, угадываются все
труднее, так что самое их существование вскоре становится сомнительным: какие-то
едва заметные вмятины на гладкой пелене, к тому же порою вовсе исчезающие...
Солдату кажется, что он окончательно потерял след, но вдруг, совсем неподалеку, под
фонарем, он видит поджидающего его мальчугана, закутавшегося в черную, побеленную
снегом накидку.
— Это здесь,— говорит мальчуган, указывая на дверь, такую же, как все прочие
двери.
Электрическая лампочка раскачивается на длинном шнуре, и человеческая тень
медленно, подобно маятнику метронома, раскачивается на деревянном полотнище
закрытой двери.
Ночью солдат внезапно пробуждается. Свисая с потолка, горят синие лампы. Три лампы,
повешенные вдоль большой оси продолговатой залы. Солдат разом сбрасывает одеяла и,
спустив ноги на пол, усаживается на краю кровати. Ему приснилось, что прозвучала
тревога. Он находится в извилистом окопе, стенки которого возвышаются вровень с его
лбом; в руках у него что-то вроде продолговатой гранаты или мины замедленного
действия, механизм которой он уже запустил. Он должен, не теряя ни минуты, ее
забросить. Он уже слышит тиканье часового механизма, похожее на «тик-так» огромного
будильника. Но он засты-
298
вает с гранатой в руке, закинутой назад для броска, и непонятным образом все более
цепенеет, не в силах пошевельнуть хотя бы пальцем, а мгновение взрыва тем временем
близится. Он издает вопль и только тогда просыпается.
Все остальные продолжают спокойно спать. Очевидно, ему только снилось, что он
кричит. Приглядевшись внимательней, он обнаруживает, что у соседа глаза открыты:
заложив обе руки под голову, тот уставился прямо перед собой в полумрак спальни.
Отчасти надеясь отыскать воду для питья, отчасти пользуясь жаждой как предлогом,
солдат встает и, во избежание шума не надевая башмаков, покидает вереницу коек и
направляется к двери, через которую прежде вошел в комнату. У него жажда. Не только
сухо в горле, но, невзирая на стужу, горит все тело. Он подходит к двери, пытается
нажать ручку, но замок не поддается. Он не осмеливается дернуть слишком сильно,
опасаясь всех перебудить. Видимо, дверь заперта на замок.
Охваченный паническим страхом, он оборачивается и замечает, что окна, нарисованные
черным на стене,— ложные окна,— теперь оказались слева от него, а когда он впервые
вошел в помещение, они находились справа. Тут он обнаруживает в дальнем конце
прохода, образованного двумя рядами коек, другую, такую же точно, дверь. Сообразив,
что ои ошибочно пошел не в ту сторону, он снова пересекает длинную залу и
пробирается меж двух рядов растянувшихся на койках тел. Глаза у всех открыты, и,
пока он идет, все глядят на него в полном молчании.
И действительно, другая дверь с легкостью открывается. Умывальники находятся в
конце коридора. Солдат осведомился об этом перед тем, как улечься в постель, еще на
лестнице. Он хочет поправить зажатый под мышкой сверток в коричневой бумаге, но
вдруг вспоминает, что оставил его без присмотра под подушкой. Он тут же закрывает
дверь и поспешно возвращается к своей койке. С первого взгляда он обнаруживает, что
подушка придвинута теперь вплотную к вертикальным металлическим брусьям изголовья;
подойдя, он убеждается, что коробки на месте нет; □н переворачивает подушку и,
словно желая окончательно удостовериться в пропаже, переворачивает ее дважды;
наконец он выпрямляется, не зная как быть. Однако на голом матрасе нет и одеяла. И
тогда солдат узнает — чуть подальше, через три kqhkh от этой,—' пустую кровать и на
299
ней отброшенное и скомканное одеяло. Он просто ошибся койкой.
На его кровати все на месте: одеяла, подушка, сверток. А под кроватью — башмаки и
свернутые обмотки. Солдат снова укладывается в постель, так и не выпив воды. И хотя
в горле у него пересохло, уже не хватает сил возобновить попытку — пуститься по
темному лабиринту коридоров на далекие, возможно безуспешные, поиски воды. Пока им
владело лихорадочное возбуждение ночного кошмара, он быстро прошел туда и обратно
через спальню. Теперь он больше не в силах сделать ни шага. К тому же он не может
выйти с большой коробкой в руке, не возбудив или не укрепив напрасные подозрения;
его недавние поиски воды позволили ему слишком явственно это заметить. Он спешит
укутать одеялом ступни и колени, распрямляется и кое-как натягивает на себя второе
одеяло. И снова он шагает по снегу вдоль пустынных улиц, высоких плоских фасадов,
которые нескончаемо тянутся, безликие, похожие один на другой. Весь путь помечен
черными столбами фонарей, со старомодным изяществом украшенных стилизованным
орнаментом, и в белесом свете дня их лампочки сияют желтым светом.
Солдат торопится изо всех сил, однако не бежит бегом, словно опасаясь погони,
опасаясь, что слишком явное бегство вызовет подозрение прохожих. Но сколько хватает
глаз, в серой дали, на всей пряхмизне улицы, не видно ни одного прохожего, и всякий
раз, как солдат оглядывается, в то же время продолжая путь и не замедляя шага, он
убеждается, что никакие преследователи ему пе угрожают: в одну и другую сторону
тянется пустыпный тротуар, а на нем только вереница следов, которые оставили
подбитые гвоздями башмаки, и лишь кое-где (в тех местах, где оп оборачивался) следы
эти слегка искажены.
Солдат ждал под фонарем, на углу какой-то улицы. Он глядел на угловой дом по другую
сторону мостовой. Он уже давно разглядывал этот дом и вдруг заметил, что в одной из
комнат второго этажа собрались люди. То была довольно просторная, с виду пустая
комната в два окна; какие-то тени перебегали от одного незанавешенного окна к
другому, но никто не приближался к стеклу. В глубине комнаты солдат различал в
полумраке лишь мертвенно-бледные лица. Стены помещения были, должно быть, очень
темными, и потому эти лица так выделялись из сумрака. Ему показалось, что люди в
комнате о чем-то переговариваются, со-
300
вещаются, показывают на улицу,— их выдавали белевшие во тьме руки. Они наблюдали за
чем-то, что находилось за окном, и, по-видимому, повод для спора был основательный.
Солдат вдруг сообразил, что речь могла идти только о нем: пи на тротуаре, ни на
мостовой не было ничего больше, что могло бы привлечь их внимание. Для отвода глаз
он стал озираться по сторонам, вглядываться в даль, оборачиваясь то вправо, то
влево, всем своим видом показывая, что он кого-то ждет и ему нет дела до этого
дома, папротив которого он случайно остановился.
Он снова бросил беглый взгляд на окна второго этажа и тут увидел, что белесые
физиономии приникли к незанавешенным стеклам. Один из любопытных, без стеснения
тыча пальцем, указывал на солдата; лица прочих теснились вокруг, и казалось, что их
обладатели расположились па разных уровнях, словно один слегка пригнулся, другой,
наоборот, привстал на цыпочки или даже взобрался на стул; в соседнем окне было
пусто.
«Они принимают меня за шпиона»,— подумал солдат. Предпочитая не иметь дела с
подобным обвинением, которое грозило принять более решительные формы, он сделал
вид, что поглядывает на ручные часы, которых у него не было, и без долгих
размышлепий удалился в поперечную улицу.
Пройдя несколько шагов, он сообразил, что его поведение нелепо: оно только
подтверждало подозрения наблюдавших из окна людей, и те могли вот-вот броситься за
ним вдогонку. Солдат невольно ускорил шаг. Ему почудилось, что за его спиной со
стуком распахнулось окно, и он с трудом удержался, чтобы в самом деле не побежать.
Он еще раз оборачивается: никого. Но гзглянув перед собой, он замечает мальчугана,
который, прячась за углом, у следующего перекрестка, видимо, его подстерегает.
На этот раз солдат останавливается как вкопанный. В доме налево входная дверь
приоткрыта в темный подъезд. Мальчуган на перекрестке мало-помалу отодвигается, и
вот уже он окончательно скрылся за углом здания. Солдат делает резкий боковой
скачок и оказывается в коридоре. В глубине, не теряя ни минуты, он взбегает по
узкой лестнице с короткими пролетами, расположенными под прямым углом и
разделенными небольшими четырехугольными площадками.
Вверху, на последнем этаже,— наглухо укрытая плотными шторами комната. На комоде —
коробка для обуви
301
в коричневой оберточной бумаге, на мраморе камина — кинжальный шть/к. Мощное
двустороннее лезвие уже покрылось тонким слоем пыли и тускнеет в рассеянном свете
лампы с абажуром, стоящей па столе. Мушиная тень на потолке, как и прежде, движется
по кругу.
Вправо от большого светящегося круга, очертаниям которого она в точности следует, в
углу, на потолке, есть едва заметная темная черточка, совсем тоненькая, длиной
сантиметров в десять: то ли трещина в известке, то ли запылившаяся паутинка, то ли
ссадина от удара, то ли царапина. Этот дефект на белом потолке не отовсюду
одинаково заметен. Он особенно бросается в глаза, если смотреть справа,
прислонившись к стенке, но непременно снизу, к тому же с другого конца комнаты, и
при этом глядеть вкось, почти по диагонали, как это естественно для человека,
который вытянулся на кровати, положив голову на подушку.
Солдат вытянулся на кровати. Конечно, его разбудил холод. Он лежит на спине, не
меняя положения, как лежал, когда открыл глаза; о тех пор он не шелохнулся. Окна
перед ним широко распахнуты. По другую сторону улицы такие же точно окна. В спальне
все еще лежат в постели, большинство делают вид, что спят. Солдат не знает, долго
ли спал он сам. Не знает, и который теперь час. Справа и слева его непосредственные
соседи поплотнее закутались в одеяла; один из них, тот, что повернут в его сторону
лицом, даже прикрылся весь с головой, натянув одеяло, так что оно, как навес,
защищает глаза, и высунул наружу только пос. Определить, во что одеты спящие,
затруднительно, хотя, по-видимому, никто из них па ночь не разделся: нигде не видно
развешенной, или сложенной, иди наугад брошенной одежды. Тут нет, впрочем, ни
вешалок, ни этажерок, пи каких-либо стенпых шкафов, и повесить шинель, гимнастерку,
брюки и тому подобное можно только на спинку кровати, но все спинки — в виде
окрашенных белым лаком металлических брусьев — ив ногах и в изголовье кровати —
совершенно свободны. Желая убедиться, что коробка на месте, солдат, не
поворачиваясь, шарит вслепую у себя под подушкой.
Пора вставать. Если ему и пе удастся вручить сверток адресату, у него, по крайней
мере, найдется способ* пока еще есть время, от него избавиться. Завтра, или хотя бы
302
сегодня вечером, или даже через несколько часов будет уже поздно. Во всяком случае,
нет никакого смысла оставаться тут, ничего не предпринимая; длительное пребывание в
этой мнимой казарме, или больнице, или приюте может только усложнить дело, и он,
чего доброго, потеряет тут последние шансы на успех.
Солдат пытается приподняться на локтях. Все тело у него одеревенело. Скользя на
спине, он на несколько сантиметров продвигается поближе к изголовью и снова падает
навзничь, плечами упираясь в железные вертикальные брусья, поддерживающие более
толстую верхнюю поперечину, к которой он прислоняется затылком. Таким образом он не
рискует раздавить коробку. Солдат оборачивается вправо и глядит на дверь, через
которую он должен выйти.
За соседом, накрывшим лицо, словно капюшоном, грубой коричневой тканью, спит
другой, высунув из-под одеяла руку, облаченную в сукно защитного цвета: явно —
рукав военной гимнастерки. Воспаленная кисть свисает с матраса. Подальше лежат
остальные — кто вытянувшись па постели, кто свернувшись калачиком. Иные даже не
сияли с головы пилотку.
В глубине спальни дверь бесшумно отворяется, и, один за другим, входят двое.
Впереди — штатский, одетый по-простецки: кирзовые сапоги, тесные рейтузы,
распахнутая меховая куртка, из-под которой виднеется длинная вязаная фуфайка с
высоким воротом; на голове у него выгоревшая, мятая фетровая шляпа, которую он не
снимает; все его одеяние выглядит потрепанным, изношенным и попросту грязным.
Второй из вошедших — тот, что повстречался солдату вчера вечером,— в военной
гимнастерке и капральской пилотке со споротыми нашивками. Не задерживаясь у первых
коек, даже не бросив хотя бы мимоходом взгляда в их сторону, оба прошли на середину
и остановились около кого-то из спящих в противоположном ряду, чья койка
расположена у второго окна. Стоя в ногах кровати, они вполголоса разговаривают
между собой. Затем штатский в фетровой шляпе подходит к изголовью и трогает
лежащего за плечо. И тут же верхняя часть туловища, закутанная в одеяла, разом
подымается и показывается мертвенное лицо с глубоко провалившимися глазами и
впалыми до черноты, много дней не бритыми щеками. Разом выхваченный из сна, человек
какое-то время не может прийти в себя, а те двое продолжают стоять рядом.
303
Он проводит ладонью по глазам, по лбу, по коротко подстриженным седеющим волосам.
Потом, качнувшись, внезапно валится назад, на матрас.
Видимо, штатский — то ли доктор, то ли фельдшер: он осторожно прикасается к
запястью лежащего и некоторое время держит его пальцами, как делают, считая пульс,
но при этом не сверяется с часами. Потом опускает эту безвольную руку и кладет ее
вдоль распростертого тела. Он снова обменивается несколькими словами со своим
спутником, потом оба пересекают всю залу наискось и останавливаются у постели
больного, чья пунцовая рука высунулась из-под одеяла и свисает с матраса.
Склонившись над спящим, фельдшер осторожно, стараясь не потревожить больного, берет
его руку, на что тот никак не реагирует. Осмотр длится на этот раз несколько
дольше, и оба совещаются вполголоса тоже чуть подольше. Так и не разбудив больного,
они покидают его кровать.
Фельдшер окидывает взором остальных; взгляд его останавливается на вновь прибывшем,
который, в противоположность прочим, слегка приподнялся на койке. Капрал со
споротыми нашивками кивком указывает на него и произносит что-то вроде: «Прибыл
этой ночью». Оба подходят к нему. Капрал останавливается в ногах кровати, фельдшер
приближается к изголовью; солдат машинально протягивает руку, и фельдшер уверенным
движением, без расспросов, берет запястье. Помедлив, он объявляет: «У вас
лихорадка». Голос звучит глуховато, словно тот разговаривает сам с собой.
— Пустяки,— говорит солдат, но его собственный голос кажется ему на удивление
слабым, беззвучным.
— Сильная лихорадка,— повторяет фельдшер, отпуская его руку.
Рука безвольно падает на матрас. Капрал вынул из кармапа записную книжку в черной
обложке и огрызком карандаша что-то записывает, а что, как солдату кажется,—
нетрудно угадать: день и час его прибытия, номер воинской части, обнаруженный на
вороте шинели,— номер двенадцать тысяч триста сорок пять, который никогда его
номером не был.
— Уже давно? — спрашивает фельдшер в фетровой шляпе.
— Давно ли я тут?
— Нет, давно ли вас лихорадит?
— Не знаю,— говорит солдат.
304
Фельдшер с капралом отходят к окну и коротко обмениваются мнениями; о чем они
говорят, солдату не слышно, угадать по губам он не может, потому что их лица ему не
видны. Но фельдшер возвращается; склонившись над солдатом, он, сквозь толщу
многочисленных наслоений одежды, обеими руками одновременно ощупывает его грудь:
— Когда я надавливаю, больно?
— Нет... Не очень.
— Вы так и спали?
— Как — «так»?
— В мокрой шинели.
Солдат тоже ощупывает жесткую, шершавую, еще немного влажную ткань. Он говорит:
— Это, наверно, снег...
Слова звучат так невнятно, что солдат умолкает, не закончив фразу; он сомневается
даже, действительно ли ее произнес.
Фельдшер обращается на этот раз к своему спутнику:
— Хорошо бы ему переодеться.
— Погляжу, найдется ли у меня что-нибудь,— говорит тот. И своей неслышной
походкой направляется к двери.
Фельдшер остается, застегивает пуговицы брезентовой, бурого цвета, выгоревшей
куртки с пятнами на животе — три плетеные кожаные пуговицы,— одну за другой
продевая их в петли; все три очень потерты, а нижнюю пересекает широкая царапина и
посредине сорван лоскуток кожи размером в полсантиметра. Фельдшер засунул руки в
бесформенные боковые карманы. С минуту он разглядывает солдата и спрашивает:
— Не холодно?
— Нет... Да... Немного.
— Можно уже закрыть,— говорит фельдшер и, пе дожидаясь мнения собеседника,
направляется в левый угол спальни, чтобы закрыть последнее в ряду окно. Отсюда он
сворачивает вправо и, пробираясь между стеной и железными решетчатыми спинками
кроватей, продолжает одну за другой захлопывать оконные рамы, с трудом защелкивая
туго поддающиеся его усилиям щеколды. По мере его продвижения в обширном помещении
темнеет, мрак, надвигающийся слева, распространяется все дальше и дальше.
В комнате пять окон. Они двустворчатые, в каждой створке по три квадратных стекла.
Но стекла видны толь-
305
ко, когда окыа открыты пастежь, потому что изнутри они сплошь заклеены темной
бумагой, едва пропускающей свет. Наконец, все окна закрыты и комната погружается в
полумрак,— вместо пяти прямоугольных отверстий виднеется пять проемов из шести
слабо светящихся сиреневых квадратов, преграждающих доступ сиянию дня и
пропускающих лишь рассеянный ввет, похожий на синее мерцание ночника. Справа, в
углу залы, у самого выхода, на фоне светлой степы недвижным черным силуэтом
выделяется человек в куртке и фетровой шляпе.
Солдат думает, что посетитель сейчас уйдет, но тот возвращается н подходит к его
койке:
— Ну вот, пе так будете мерзнуть.— И помолчав: — Вам принесут другую одежду. Но
оставайтесь в постели.
Потом он продолжает:
— Скоро придет врач, возможно, после полудня, либо утром, либо попозже, к
вечеру...
Он говорит порой так тихо, что солдат с трудом разбирает его слова.
— Тем времепем,— добавляет он,— вы будете принимать таблетки, вам их дадут...
Не следует...— Конец фразы совсем пропадает. Он вытаскивает из кармана пару больших
меховых перчаток, медленно их натягивает и, продолжая расправлять на руке,
удаляется. Едва он отходит на несколько метров, его очертания расплываются, и он
еще пе успевает дойти до двери, как они растворяются в полумраке комнаты. Слышится
лишь медленный стук тяжелых сапог.
В спальне уже так темно, что спящих не разглядеть. Солдату приходит в голову, что
теперь ему легче будет по-кипуть комнату незамеченным. По пути он напьется в одном
из умывальников, расположенных в конце коридора.
Он снова пытается подняться, на этот раз ему удается сесть, но все же опираясь о
металлическую перекладину в изголовье. Стараясь устроиться поудобнее, он
приподнимает повыше подушку за спиной и кладет ее поверх коробки. Склонившись
вправо и вытянув руку до самого пола, он разыскивает свои башмаки. В эту минуту он
замечает темный силуэт: чья-то голова и верхняя часть туловища рисуются на
светящихся квадратах сиреневой бумаги. Солдат узнает своего вчерашнего хозяина —
капрала в островерхой пилотке без нашивок. Правая рука возвращается на место — на
матрас.
306
Капрал кладет на спинку кровати — поверх железной поперечины — что-то напоминающее
плотную накидку или шинель. Потом, зайдя в промежуток между двумя кроватями, оп
подходит к солдату и протягивает ему стакан, на три четверти наполненный какой-то
бесцветной жидкостью.
— Выпейте,— говорит он,— это вода. А па дне таблетки. Потом вам дадут кофе,
тогда же, когда всем.
Солдат хватает стакан и с жадностью пьет. Но таблетки растворились пе полностью, с
последпим глотком они застревают в горле, и ему печем запить, чтобы их протолкнуть.
В горле остается какой-то горьковатый зернистый осадок, ощущение, что он заживо
проглотил слизняка. Жажда одолевает его сильнее прежнего.
Капрал забирает у него пустой стакан. Смотрит па белые полосы, осевшие па стенках.
Наконец, уходит, но, показав на спинку кровати, предварительпо поясняет:
— Я принес вам другую шинель. Перед тем как лечь, переоденьтесь.
Безмолвная тень исчезает; время тянется нескончаемо, наконец солдат отваживается
встать. Осторожно перекинув ноги, согнув их в коленях, он садится па краю кровати и
опускает ступпи па пол. Весь скрючившись, он долго — так ему, по крайней мере,
кажется — чего-то выжидает.
Прежде чем продолжить свой маневр, он откидывает в сторону, на матрас, одеяла и
окончательно от них освобождается. Потом, еще более скорчившись, опускает руки на
пол; ощупью ищет свои башмаки; нащупав их, падевает один, потом другой и начинает
шпуровать. Привычным движением, машинально накручивает обмотки.
Но встает он с большим трудом, его тело кажется ему огромпым и тяжелым, словно оно
обрело вес и габариты скафандра. Постепеппо прежняя скованность оставляет его.
Стараясь не выдать себя стуком подбитых гвоздями башмаков, он выходит из кроватного
ряда и, не теряя ни секунды, сворачивает направо, к двери. Одумавшись, оп тут же
возвращается и осматривает оставленную капралом шинель. Она почти в точности такая
же, как у него. Может быть, только менее поношена. На отворотах отчетливый след
споротых суконных ромбов с армейским номером.
Держась одной рукой за железную поперечину, он разложил шинель в ногах кровати и
бездумно в полумраке ее
3Q7
разглядывает. В изголовье он замечает оставленную им под подушкой коробку. Он
делает шаг назад, откатывает валик подушки, берет коробку и запихивает ее под мышку
слева. При этом прикосновении он ощущает, как отсырело сукно гимнастерки. Он сует
руки в карманы шинели. Подкладка влажная и холодная.
Солдат снова останавливается на том же месте перед сухой шинелью, еще с минуту
стоит размышляя. Если он сменит свою шинель на эту, спарывать красные суконные
ромбы с воротника ему не придется. Он вынимает руки из карманов, кладет коробку на
кровать, медленно расстегивает пуговицы шинели. Но плечи его так онемели, что ему
не сразу удается стянуть рукава. Справившись с ними, он разрешает себе, прежде чем
продолжить переодевание, немного отдохнуть. Обе шинели висят рядом на металлической
перекладине. Как бы то ни было, одну из них придется надеть. Он хватает новую,
относительно легко влезает в рукава, застегивает все четыре пуговицы, снова берет
коробку, водворяет ее под левый локоть, засовывает руки в карманы.
На этот раз он не забыл ничего. Осторожно ступая, он направляется к двери. В самой
глубине кармана его рука натыкается на какой-то круглый и твердый предмет, холодный
и гладкий, размером с крупный бильярдный шар.
В коридоре, где горит электричество, оп встречает капрала; тот останавливается и
смотрит на него, словно намереваясь что-то сказать, но солдат проскальзывает в
умывальную — поступок, в общем, весьма естественный; капрал может думать, что в
свертке, который он захватил с собой, находятся умывальные принадлежности.
Когда солдат, напившись вволю холодной воды из крана, снова выходит из умывальной,
капрала в коридоре уже нет. Солдат направляется дальше, через поперечный коридор
выходит на лестницу и начинает спускаться, правой рукой держась за перила. Хотя он
внимательно следит за каждым своим движением, колени его не сгибаются и он невольно
шагает тяжелым шагом автомата, так что стук его грубых башмаков гулко отдается на
деревянных ступенях. Посреди каждой площадки солдат останавливается; но только оп
снова начинает спускаться, мерный, грузный, одинокий стук подбитых гвоздями подошв
возобновляется, отдаваясь по всему дому, как в нежилом здании.
В самом низу, у лестницы, рядом с последней ступенькой последнего пролета, опираясь
на деревянный костыль,
308
стоит инвалид. Костыль выставлен вперед и упирается в ступеньку: сохраняя
неустойчивое равновесие, инвалид всем телом навалился на костыль; на лице его,
обращенном к солдату, застыла нарочито радушная улыбка.
— Привет. Хорошо спали? — говорит он.
Солдат остановился, одной рукой держась за перила, другой придерживая сверток. Он
стоит на краю верхпей площадки, несколькими ступенями выше собеседника. Он пе
вполне уверенно отвечает:
— Все в пррядке.
Инвалид остается внизу, у начала лестницы, и тем самым загораживает проход. Ему бы
следовало посторониться, чтобы солдат мог миновать последнюю ступеньку и выйти в
дверь, ведущую на улицу. Солдат спрашивает себя, не тот ли это самый человек,
которого он встретил у светлоглазой женщины и который сообщил ему о существовании
этого мнимого госпиталя. Если не тот, почему же оп обращается к нему так, словно
они знакомы? Если тот самый, как же он со своим костылем добрался сюда по такой
гололедице? И с какой целью?
— Лейтенант наверху?
— Лейтенант?
— Ну, да, лейтенант. Там он?
Солдат не знает, что ответить. Он подходит ближе и прислоняется к перилам. Но он не
хочет слишком явно обнаружить свою крайнюю усталость, старается держаться по
возможности прямо и старательно выговаривает;
— Какой лейтенант?
— Ну, тот, что ведает пристанищем!
Солдат соображает: надо сделать вид, что он знает, о ком идет речь.
— Да, наверху,— говорит он. *
Его занимает, как инвалид, вообще-то очень ловко управляющийся с костылем, сумеет
подняться по лестнице. Быть может, он потому и остановился внизу, что не в силах ее
преодолеть? Во всяком случае, в данную минуту он не делает ни малейшей попытки
подняться и продолжает разглядывать солдата, не уступая ему дорогу и пе рискуя с
ним столкнуться.
— Ты, я вижу, спорол свой номер.
Улыбка на лице инвалида проступила явственней: сморщились не только губы, но и все
лицо.
— И хорошо сделал,— продолжает инвалид,— на всякий случай предосторожность не
мешает, у
309
Желая оборвать разговор, солдат решается сделать еще шаг. Он спустился ступенькой
ниже, но инвалид не сдвинулся пи на дюйм, так что правая нога солдата, оставшаяся
позади, вместо того чтобы опуститься на следующую ступеньку, очутилась рядом с
левой.
— Ты куда идешь? — снова спрашивает инвалид.
Солдат уклончиво кивает:
— Дела...
— А в коробке у тебя что? — спрашивает инвалид.
С досадой пробурчав в ответ: «Ничего интересного»,— солдат, на этот раз не
задерживаясь, продолжает спускаться по ступенькам.
Очутившись лицом к лицу с инвалидом, он живо отшатывается к перилам. Инвалид
поспешно переносит свой костыль и отступает к стене. Солдат проходит мимо и
направляется вдоль по коридору. Он и не оборачиваясь знает, что инвалид,
склонившись на свой костыль, провожает его взглядом.
Наружная дверь не заперта на ключ. Оп нажимает ручку и в эту минуту слышит за
спиной насмешливую, с оттенком угрозы, фразу: «Ты что-то сегодня спешишь». Солдат
выходит и притворяет дверь. На гравированной металлической пластинке, прибитой в
дверной нише, он читает: «Управление военных складов Северных и Северо-Западных
областей».
Уличный холод сразу же пронизывает его. Но солдату кажется, что это ему на пользу.
Нужно, однако, присесть. Приходится удовольствоваться тем, что, упираясь ногами в
тротуар с полоской свежего снега, сохранившейся между линией фасадов и желтоватой
тропкой, вытоптанной прохожими, он прислоняется спиной к каменпой стене здания. Его
правая рука снова нащупывает в кармане шинели твердый и гладкий шар, похожий на
бильярдный.
Это шар из обыкновенного стекла, около двух сантиметров в диаметре. У него
совершенно ровная, полированная поверхность. Он абсолютно бесцветный, просвечивает
насквозь, но внутри, в центре — плотное ядро, размером с горошину. Ядро черное и
круглое; с какой бы стороны ни разглядывать шар, это ядро кажется черным диском,
радиусом от двух до трех миллиметров. На прозрачной стеклянной массе, окружающей
диск, можно различить лишь непонятные обрывки красно-белого рисунка, занимающего
часть окружности. А дальше — во все стороны протянулось шашечное поле клеенки,
которой накрыт стол.
310
Но кроме того, на поверхности шара видно отражение — хотя и бледное, искаженное и
значительно уменьшенное — залы кафе и всего, что в ней находится.
Ребенок осторожно катает шар по клеенке в краснобелую клетку, избегая слишком
сильных толчков, чтобы шар не проскочил за пределы шашечного поля. Он пересекает
это поле то по диагонали, то по длине прямоугольника, возвращается к исходной
точке. Затем, держа шар в руке, мальчуган долго его рассматривает, ворочая во все
стороны.
— А что там внутри? — говорит он своим низким голосом, слишком низким для
ребенка, и при этом глядит на солдата большими серьезными глазами.
— Не зпаю. Должно быть, тоже стекло.
— Там черно.
— Да. Черное стекло.
Мальчик снова разглядывает шар и снова спрашивает:
— А почему? — И так как солдат не отвечает, он повторяет свой вопрос: — Почему
это внутри?
— Не знаю,— говорит солдат. И спустя минуту: — Наверно, для красоты.
— Но это некрасиво,— говорит мальчик.
Вся его недоверчивость улетучилась. И хотя голос его все еще звучит серьезно, по-
взрослому, разговаривает оп с детским простодушием, порой с наивной
непосредственностью. На плечах у него все та же черная накидка, но берет он снял, и
теперь видны его короткие русые волосы с пробором на правом боку.
Это, видимо, тот же мальчик, что был в кафе, но не тот, что проводил солдата (или
проводит в дальнейшем) до казармы, откуда как раз и был принесен шар. Это, во
всяком случае, тот самый мальчик, что привел солдата в кафе, которое содержал
тучный и молчаливый человек и где солдат выпил стакан красного вина и съел два
ломтя черствого хлеба. Подкрепившись таким завтраком, он почувствовал себя бодрее.
И вот, в благодарность, он подарил мальчугану этот стеклянпый шар, найденный им в
кармане шинели.
— Ты вправду даешь его мне?
— Да, я же сказал,
— Откуда он?
— Из моего кармана.
— А прежде?
— Прежде? Прежде не знаю,— говорит солдат.
311
Мальчик смотрит па него с любопытством, пожалуй, слегка недоверчиво. К нему отчасти
возвращается преж-пяя сдержапность, и голос его звучит значительно холоднее, когда,
устремив глаза на ворот шинели, он заявляет:
— Ты спорол твой номер.
Солдат пытается обратить все в шутку:
— Это теперь, знаешь ли, ни к чему.
Но мальчуган пе склонен шутить. Судя по его виду, объяснение его не удовлетворяет.
— Но я помню. Там было двенадцать тысяч триста сорок пять.
Солдат не отвечает. Мальчик заговаривает снова:
— Ты его снял, потому что они должны сегодня прийти?
— Ты почем знаешь, что они придут сегодня?
— Мама...— начинает мальчуган, но обрывает. Лишь бы что-нибудь сказать, солдат
спрашивает:
— Разве она позволяет тебе шататься по улицам?
— Я не шатаюсь. Надо было побывать в одном месте.
— Это она тебя послала?
Мальчик колеблется. Он глядит на солдата, словно пытаясь угадать, что за этим
последует, куда, в какую ловушку хотят его заманить.
— Нет, не она,— говорит он наконец.
— Значит, твой отец? — спрашивает солдат.
На этот раз мальчик не решается ответить. Да и сам солдат произносит последние
фразы с заминкой. Легкое возбуждение, вызванное вином, улеглось. Усталость мало-
помалу снова одолевает его. Несомненно, лихорадка еще не прошла; действие таблеток
было непродолжительным. Тем пе менее солдат продолжает несколько глуше:
— Я, кажется, встретил его поутру, когда выходил из казармы. Далеко же он
забрался с такой дурной ногой. Да, наверно, это был он. Дома ты его пе видел?..
— Он мне не отец,— говорит мальчик. И отворачивается к стеклянной двери.
Двое рабочих за соседним столиком, должно быть, уже раньше прервали свою беседу.
Тот, что сидел спиной ц двери, круто повернулся, не выпуская стакана из рук и не
поднимая его со стола, да так и замер, изогнувшись всем телом и оглядываясь, то ли
на солдата, то ли на мальчу-гапа. Мальчик отошел. Во всяком случае, он расположился
сейчас довольно далеко от солдата, у степы слева, где белеют объявления, извещающие
об эвакуации гражданского
312
населения. В зале наступает молчание. Солдат сидит все в той же позе: локти па
клеенке, оба предплечья вытянуты плашмя, выпачканные смазкой ладони почти сомкнуты
— расстояние между ними сантиметров двадцать,— правая еще держит пустой стакан.
Хозяин, чья тучная фигура снова возникла на сцене, возвышается над своей стойкой —
далеко справа. Он тоже неподвижен, слегка нагнувшись, склонился вперед, расставив
локти, а руками упирается в ребро конторки. И он также смотрит то на солдата, то на
мальчугана.
Мальчуган снова надел берет; он очень низко надвинул его с того и другого бока,
стараясь получше укрыть уши, и запахнул накидку, обеими руками придерживая ее
изнутри. Хозяин, на другом конце залы, стоит все так же — не шелохнется. Только
что, обслуживая солдата, он признался, что, завидев его сквозь стеклянную дверь, а
затем на пороге кафе, принял его (что естественно в городе, где с некоторых пор не
видно было ни одного военного, где с часу на час ожидали появления пришельцев),— он
принял солдата за одного из них. Но это случилось с ним попросту от неожиданности,
и стоило солдату войти, как хозяин сразу же узнал привычную форму: длинную шинель и
обмотки.
Мальчик закрыл дверь за нежданным посетителем. Хо-зяип на своем посту, прилично
одетый клиепт, стоящий около конторки, оба рабочих за столиком — все молча
провожали его взглядом. Первым нарушил молчание мальчик — он заговорил таким
низким, недетским голосом, что солдату почудилось, будто говорит один из четырех
посетителей, глазевших на него, когда он вошел. Мальчуган все еще находился в это
время возле двери, у пего за спиной. Но те, что сидели папротив, оставались
неподвижны, рот у них был закрыт, губы не шевелились; и фраза, произнесенная
неведомо кем, была ничья, как подпись под рисунком.
Выпив свое вино, солдат не стал задерживаться в этом кафе молчальников. Он достал
из-под стула свой сверток и покинул залу, до самого порога провожаемый взглядами
хозяина и двух рабочих. Наспех приладив распустившийся белый шнурок, оп опять сунул
под мышку слева пакет, упакованный в коричневую бумагу.
За дверью его снова охватил холод. Возможно, шинель была не такой плотной, как
прежняя, а может быть, температура почыо сильно понизилась. Снег, затвердевший
313
под ногами прохожих, скрипит из-за гвоздей, которыми подбиты его башмаки. Солдат
спешит, чтобы согреться; мерный скрип снега под башмаками захватывает его своим
ритмом, и он безоглядно, наудачу, шагает вдоль пустынных улиц. На этот раз он снова
пускается в путь, движимый мыслью, что надо сделать еще попытку вручить коробку
тому, кому надлежит ее вручить. Но, захлопнув за собой двери кафе и очутившись на
тротуаре, он уже не знает, в какую сторону направить свои шаги: он попросту
пытается сориентироваться в отношении места первой, не-состоявшейся встречи, не
тратя времени понапрасну и не размышляя, какая дорога лучше, потому что его, во
всяком случае, никто уже там не ждет. Солдат надеется только, что человек, которого
он должен увидеть, живет где-то поблизости и может встретиться ему по пути. На
первом же пересечении улиц он встречает инвалида.
Приблизившись к перекрестку, где тот стоит, как раз на углу у последнего дома, он
обнаруживает, что это не инвалид, но тот самый прилично одетый мужчина, который
только что пил за стойкой; опирается он не на костыль, а на зонтик-трость, который
держит перед собой, упираясь в твердый снег и слегка наклонив корпус вперед. Поверх
хорошо начищенных башмаков надеты низкие гетры, на нем очень узкие брюки и короткое
пальто, вероятно на меху. На облысевшей спереди голове нет шляпы. Солдат еще не
успевает с ним поравняться, как человек, все так же наклонно держа перед собой
трость, поспешно кланяется. Свернутый зонтик защищен черным шелковым чехлом.
Ответив кивком головы, солдат собирается продолжить свой путь, но человек делает
свободной рукой какое-то движение, и солдат догадывается, что тот хочет ему что-то
сказать. Он оборачивается и, приподняв брови, останавливается, будто выжидая.
Человек с зонтиком словно не предвидел такого оборота дела, он стоит, опустив глаза
и разглядывая конец своей трости, косо упирающейся в твердый, пожелтевший снег. Его
левая, согнутая в локте, рука слегка приподнята, ладонь раскрыта, большой палец
смотрит вверх. На безымянном — перстень с большим серым камнем-печаткой.
— Мерзкая погода, пе правда ли? — произносит он наконец и оборачивается к
солдату. Тот видит, что ожидания его оправдываются: смутное чувство подсказывает
ему, что эта незначительная фраза — только прелюдия к бо-
314
лее доверительной беседе. Солдат довольствуется тем, что в знак согласия издает
какое-то невнятное бормотание. Оп ждет, что же последует дальше.
Проходит, однако, еще значительный промежуток времени, прежде чем человек с
зонтиком-тростью и в пальто на меху отваживается спросить: «Вы что-нибудь ищете?» —
это что, подан знак?
— У меня должна быть встреча...— начинает солдат.
Продолжение слишком запаздывает, и человек с зонтом сам заканчивает фразу:
— С кем-то, кого вы упустили?
— Да. Это вчера... Нет, позавчера... Надо было в полдень...
— И вы опоздали?
— Да... Нет, сначала я, должно быть, ошибся местом. На перекрестке...
— Как тут? Под фонарем?
Фонарный столб — черный, у основания окруженный гирляндой стилизованного плюща,
рисунок которого подчеркнут снегом... Солдат сразу же отвечает утвердительно и дает
более подробные пояснения; но едва он вступает в беседу, его охватывают такие
сомнения, что из осторожности он предпочитает ограничиться отрывочными и
бессвязными репликами, оборванными на полуслове и, во всяком случае, весьма
туманными, в которых, впрочем, он и сам с каждой фразой все более запутывается;
собеседник, однако, невозмутимо слушает с вежливо-заинтересованным видом, слегка
прищурившись и склонив голову на левый бок, не обнаруживая ни сочувствия, ни
удивления.
Солдат никак не может остановиться. Вынув из кармана правую руку, он высунул ее
вперед и загибает пальцы, словно опасаясь упустить какую-либо подробность, которая,
как ему кажется, еще хранится в его памяти, либо ожидая, чтобы его подбодрили, либо
опасаясь, что ему не удастся убедить собеседника. И он без конца говорит, путаясь
из-за обилия туманных подробностей, и, внезапно отдавая себе в этом отчет, то и
дело спотыкается, пробует начать с другого конца, убедившись, хотя и слишком
поздно, что с самого начала сбился, и не видит способа выпутаться, не возбуждая еще
более серьезных подозрений у этого безвестного прохожего, попросту предполагавшего
потолковать с ним о погоде или о чем-нибудь совсем невинном в этом роде,—
прохожего, который ни о чем его даже не расспрашивал и упорно продолжает молчать.
315
Солдат бьется в им же соткайпых тенетах, пытаясь сообразить, что же произошло: у
него создалось впечатление (сейчас это кажется ему невероятным), что человек,
которого он разыскивал с момента своего появления в городе, и есть, может быть,
этот самый прохожий — с зонтиком в шелковом чехле, в пальто на меху и с крупным
перстнем на пальце. Солдат хотел намекнуть, что ему от него нужно, пе раскрывая
возложенного на него поручейия и все же позволяя этому человеку обо всем
догадаться,— если оп действительно тот, кому надлежит вручить коробку в коричневой
бумажной упаковке, или, по крайней мере, тот, кто должен сказать, как с нею
поступить.
Но человек в коротких серых гетрах и черных начищенных до блеска туфлях не проявлял
больше ни малейших признаков поощрения. Кончилось тем, что рука с перстнем,
опустившись, скрылась в кармане пальто. На правой руке, той, что держит головку
зонтика-трости, темно-серая кожаная перчатка. У солдата мелькнула мысль: этот
человек умышленно хранит молчание, в действительности это и есть адресат, которого
он разыскивает, но тот не хочет быть раскрытым, и, узнав все, что хотел узнать, он
затаился... Мысль явно нелепая. Либо дело никак этого человека не касалось, либо он
все еще не догадался о том, что ему давали понять и что должно было его занимать в
первую очередь. Поскольку тот пе ухватился, с первых же слов, за протянутую ему
руку помощи, солдату приходилось выбирать между двумя решениями: заговорить в
открытую или дать задний ход. Но у него не было времени выбирать, и он упрямо
метался, кидаясь то в ту, то в другую сторону и рискуя, кроме всего прочего,
обескуражить собеседника, если тот, несмотря ни на что, и т. д.
Солдат вынужден был в конце концов оборвать беседу, и вот они молча стоят друг
против друга, застыв в тех же позах, что и вначале: солдат, засунув обе руки в
карманы шинели, искоса поглядывает на человека в пальто на меху, слегка
протянувшего вперед левую руку без перчатки, так что на безымянном пальце виден
перстень с большим серым камнем, в то время как вытянутой правой он наклонно держит
зонтик-трость, упираясь им в твердый снег тротуара. Метрах в двух позади него
возвышается чугунный столб с обветшалыми украшениями, оставшийся от бывшего
газового фонаря и снабженный теперь электрической лампочкой, которая своим
желтоватым сияние^ озаряет тусклый день,
316
Между тем человек в пальто, видимо, извлек кое-какие сведения из отрывочного и
противоречивого бормотания солдата, и после некоторого, несомненно достаточно
продолжительного раздумья он спрашивает:
— Кто-то должен был вас встретить, где-то здесь, неподалеку! — И минуту спустя
добавляет, словно про себя: — Был тут на этих днях человек...
Затем, не дожидаясь подтверждения своей догадки, не задавая дополнительных
вопросов, он рассказывает, что, по всей вероятности, видел того, о ком идет речь: в
нескольких кварталах отсюда на одном из ближайших углов, почти перед самым входом в
дом, у подножья фонарного столба стоял человек среднего роста с непокрытой головой,
в длинном коричневом пальто. Он встречал этого человека в тех краях по меньшей мере
дважды: сегодня утром и накануне, да, пожалуй, еще и позавчера, тот стоял одиноко в
каком-то темно-коричневом плаще: судя по его позе, человек уже давно поджидал кого-
то, примостившись прямо па снегу, и, устав от длительного стояния, прислонился
бедром и плечом к чугунному столбу; да, оп прекрасно помнит, он его приметил.
— Сколько ему лет? — спрашивает солдат.
— Около тридцати... или сорока.
— Нет, это не он,— говорит солдат.— Ему должно быть за пятьдесят, и он — в
черном... И с чего бы это он приходил так, несколько дпей кряду?
Он отдает себе отчет, что последний довод не очень убедителен: ведь он и сам
многократно возвращался — еще только сегодня утром — на место, которое, впрочем
предположительно, считал условленным местом встречи. К тому же его собеседник
полагает, что человек, возможно, был вынужден сменить предусмотренную ранее одежду
из-за сильного снегопада; что же до возраста, он в нем не уверен, так как силуэт
виднелся па пекотором расстоянии, в особенности во второй раз.
— Так это вы, надо думать, меня и видели,— говорит солдат.
Человек заверяет, одпако, что пе мог спутать пехотную форму со штатской одеждой. Оп
настойчиво приглашает солдата пройтись до указанного места и хотя бы взглянуть па
него: это так близко, что стоит потрудиться, в особенности если дело важное.
— Вы сказали, что эта коробка у вас под мышкой...
317
— Она не имеет никакого отношения,— прерывает солдат.
Поскольку ничего другого пе остается, он решает, несмотря на свою уверенность в
бесполезности такого поступка, все же отправиться к упомянутому собеседником
перекрестку: на третьем углу надо свернуть вправо, потом дойти до конца квартала
или даже до следующей улицы. Солдат уходит не оглядываясь, оставив позади
незнакомца, опирающегося на трость. Из-за этой длительной задержки солдат окоченел.
Все суставы у него онемели от усталости, да и от лихорадки, и он испытывает какое-
то облегчение оттого, что снова шагает, тем более что перед ним определенная цель и
не слишком далекое расстояние. Когда он убедится в тщетности этой последней
надежды, хотя он, собственно, ни на что уже не рассчитывает, ему останется только
избавиться от этого обременительного свертка.
Очевидно, лучше всего было бы его уничтожить, во всяком случае — его содержимое,
потому что сама коробка — из металла. Но если легко сжечь или разорвать на мелкие
клочки находящиеся в ней бумаги, то другие предметы, которые там содержатся,
труднее поддаются уничтожению, а впрочем, он не проверил досконально, что внутри.
Необходимо будет отделаться от всего вместе взятого. С любой точки зрения проще
всего выбросить сверток, не распаковывая. Переходя поперечную улицу, солдат как раз
замечает перед собой на углу, где закругляется тротуар, отверстие сточной канавы.
Он подходит ближе и, превозмогая ломоту, паклоняется, пытаясь проверить, не слишком
ли высока коробка — пройдет ли она сквозь арочное отверстие в каменной закраине
мостовой. К счастью, снег лежит не очень толстым слоем и не может помешать этой
операции. Отверстие в самый раз по коробке. Надо лишь сунуть ее туда горизонтально
и опрокинуть вниз. Почему бы не бросить ее сию же минуту?
В последний момент солдат не может на это решиться. После двукратной пробы,
удостоверившись, что это легко проделать в любое время, он выпрямляется и,
повинуясь своему обязательству, продолжает путь, чтобы убедиться, нет ли там
случайно... Но он так изпурен затраченными усилиями, что уже одна только
необходимость подняться на край тротуара высотою сантиметров двадцать заставляет
его чуть ли не с минуту выжидать.
Стоит ему, однако, остановиться, его пронизывает пе-
318
выносимый холод. Перешагнув через канаву, оп делает еще шаг-другой. Внезапно его
охватывает такое изнеможение, что он не в состоянии двинуться дальше. Ои
прислоняется бедром и плечом к чугунной опоре фонаря. Не здесь ли он должен
свернуть вправо? Солдат оглядывается, пытаясь увидеть, нет ли на прежнем месте
человека с серой печаткой, склонившегося на трость и делающего ему издали знак,
куда следует повернуть. В двадцати шагах от него, по его следам идет мальчуган.
Солдат сраэу же отворачивается и снова пускается в путь. Спустя пять-шесть шагов он
озирается снова. Мальчик идет следом за ним. Если бы солдат был в силах, он
бросился бы бежать. Но он истомлен вконец. И конечно, ребенок не желает ему зла.
Солдат останавливается и оглядывается еще раз.
Мальчик тоже остановился и глядит на него своими задумчивыми глазами. Берета у него
на голове уже нет, он не запахивает так плотно, как прежде, накидку.
Солдат медленно, словно в оцепенении, направляется к мальчугану. Тот и не думает
отступать.
— Ты хочешь мне что-нибудь сказать? — спрашивает солдат, желая придать голосу
оттенок угрозы; но он с трудом цедит слова.
— Да,— отвечает мальчуган.
И умолкает.
Солдат глядит на заснеженную ступеньку, слева, метрах в двух от него, у порога
закрытой двери. Забившись в угол, он бы не так дрожал от холода. Он делает шаг. Он
бормочет:
— Ладно, я присяду.
Он подсаживается к двери, в самый уголок, прислонясь спиной наполовину к деревяйной
створке, наполовину к каменной стене.
Не отрывая от него глаз, мальчик повернулся вокруг собственной оси. Приоткрыв рот,
он глядит на заросшее темной щетиной лицо, на привалившееся к стене обмякшее тело,
на сверток, на растопыренные ноги в грубых башмаках, виднеющиеся в самом низу, у
приступки. Солдат незаметно соскальзывает ближе к двери, колени у него
подкашиваются, и он уже сидит на снегу, скопившемся па узкой ступеньке, в правом
углу дверной ниши.
— Ты почему хотел бросить коробку? — спрашивает мальчуган.
— Да нет... Я не хотел ее бросать.
319
— Тогда что же ты делал?
В его низком голосе сейчас не слышно недоверия, в его вопросах не чувствуется
злонамеренности.
— Я хотел посмотреть,— говорит солдат.
— Посмотреть?.. Что посмотреть?
— Проходит ли она в отверстие.
Но, видно, мальчика это не убедило. Он уцепился обеими руками за полы своей
распахнутой накидки — по одной в каждой руке — и ритмично раскачивает их — вперед-
назад, вперед-назад. Холод его как будто не тревожит. И в то же время, оставаясь на
месте, он продолжает свои наблюдения: коричневый сверток на коленях, под грудью,
ворот шипели защитного цвета со споротыми нашивками, согнутые ноги и выпирающие из-
под полы колени.
— Шинель у тебя не та, что вчера,— наконец говорит мальчик.
— Вчера... Ты видел меня вчера?
— Конечно. Я тебя каждый день вижу. Твоя шинель была грязная... Тебе вывели
пятна?
— Нет... Да, пожалуй.
Мальчик оставляет ответ без всякого внимания.
— Ты не умеешь навертывать обмотки.
— Ладно... Научишь меня.
Мальчик пожимает плечами. Солдата этот разговор выводит из себя, но еще хуже, если
его спутник сбежит и бросит его на этой пустынной улице одного; к тому же скоро
стемнеет. Не этот ли мальчуган уже водил его в кафе и в казарму? Сделав усилие,
солдат старается спросить полюбезнее:
— Ты это и хотел мне сказать?
— Нет, не это,— отвечает мальчуган.
Тут они услышали отдаленный шум мотоцикла.
Нет. То было нечто иное. Темно. Снова атака; неподалеку, за перелеском, сухой,
отрывистый треск автоматов; порой сквозь какой-то невнятный грохот он доносится с
другой стороны. Тропинка взрыхлена, словно после пахоты. Раненый все тяжелеет, он
волочит башмаки по земле, он почти не в силах идти. Приходится поддерживать его и
тащить одновременно. Они оба побросали свои ранцы. Раненый бросил и винтовку. Но он
свою сохранил, только ремень оборвался, и приходится нести ее в руке. Лучше бы он
взял другую: этого-то добра хватает. Он пред-
320
почел сохранить свою, привычную; впрочем, сейчас она пи к чему — только помеха. Ои
несет винтовку в левой руке, держа ее горизонтально за середину. Правой рукой он
схватил в охапку, поперек туловища, раненого товарища — тот левой рукой цепляется
за его шею. Во мраке, то тут, то там бледнеющем от беглых вспышек, они на каждом
шагу оступаются, скользя по рыхлой земле, перерезанной колеями и поперечными
бороздами.
Потом он шагает один. С ним нет уже ни ранца, ни г.интовкй, ни товарища, которого
надо поддерживать. Ои несет под мышкой, слева, коробку, завернутую в коричневую
бумагу. Он шагает во тьме по свежему снегу, ровным слоем укрывшему землю, и его
башмаки, мерно стуча, подобно метроному, один за другим оставляют отпечатки на
тонкой пелене снега. Дойдя до перекрестка, залитого желтым светом газового фонаря,
солдат подходит к канаве и склоняется над ней: одна нога — на краю тротуара, другая
— на мостовой. Между его недвижно расставленных ног зияет в камне отверстие сточной
канавы, он склоняет плечи еще ниже, протягивает коробку к черной дыре, где она
сразу же исчезает, поглощенная пустотой.
Следующая картина изображает людей в казарме или, скорее, в военном госпитале. Па
полке для вещей, по соседству с алюминиевым стаканчиком, солдатским котелком,
аккуратно сложенной одеждой защитного цвета и всякой прочей мелочью, лежит
прямоугольная коробка, по форме и размерам напоминающая коробку для обуви. Под этой
полкой, на металлической, окрашенной в белый цвет кровати, покоится на спине
человек. Глаза у него закрыты, его веки серы, как серы его виски и лоб, зато на
скулах горит румянец; на впалых щеках, вокруг полуоткрытого рта, на подбородке —
черная щетина по крайней мере четырех- или пятидневной давности. Хриплое дыхание
раненого равномерно приподымает натянутую по самую шею простыню. Высунувшаяся из-
под коричневого одеяла багровая рука свисает с матраса.
Справа и слева лежат другие, на других таких же койках, выстроившихся в ряд у голой
стены, вдоль которой, на высоте одного метра над головами лежащих, прибита полка,
нагруженная ранцами, деревянными сундучками, сложенной одеждой защитного или
зеленоватого цвета, а также алюминиевой посудой. Чуть подальше, среди туалетных
принадлежностей, виднеется большой круглый бу-
11 М. Бютор и др.
321
дильник — он, вероятно, остановился и показывает без четверти четыре.
В соседней комнате собралась внушительная толпа: все стоят — сбившись кучками,
большинство в штатском — и, усиленно жестикулируя, о чем-то беседуют. Солдат
питается пробиться сквозь толпу, но это ему не удается. Внезапно кто-то из стоящих
к нему спиной и загораживающих путь оборачивается, замирает и, чуть прищурившись, с
пристальным вниманием начинает его разглядывать. Мало-помалу оборачиваются и его
соседи и, внезапно застывая, молча, щуря глаза, смотрят на него. Вскоре солдат
оказывается в центре круга, который постепенно ширится, силуэты людей отдаляются, и
уже тускло белеют только призрачные лица, отступающие все дальше и дальше, с
равными промежутками, словно вереница фонарей, уходящих вдоль совершенно прямой
улицы. Цепочка медленно раскачивается, исчезая в убегающей дали. На снегу отчетливо
вырисовываются черные столбы фонарей. У ближайшего — стоит мальчуган и таращит
глаза на солдата.
— Ты почему тут сидишь? Заболел? — говорит он.
Солдат с усилием отвечает:
— Мне уже лучше.
— Ты что, совсем ушел из казармы?
— Нет... Я сейчас вернусь.
— А где твоя пилотка? У всех солдат на голове пилотка... или каска...
После небольшой паузы мальчик говорит еще тише:
— У моего отца есть каска.
— А где он, твой отец?
— Не знаю.— Потом убежденно, отчетливо выговаривая каждое слово: — Это
неправда, что он дезертир!
Солдат приподымает голову и вопросительно смотрит на мальчика.
Вместо ответа тот, прихрамывая, делает несколько шагов — нога у него не сгибается,
рука повисла вдоль туловища и опирается на костыль. До дверей остался какой-нибудь
метр. Мальчик продолжает:
— Нет, это неправда. А он говорит, что ты шпион. Ты не настоящий солдат: ты
шпион. У тебя в свертке — бомба.
— Ну, это тоже неправда,— говорит солдат.
Тут они услышали отдаленный грохот мотоцикла. Мальчуган первый навострил уши:
слегка приоткрыв рот,
322
он медленно поворачивает голову от фонаря к фонарю и глядит в глубь улицы, сереющей
в неверном свете вечерних сумерек. Мальчик озирается то на солдата, то снова на
дальний конец переулка, а грохот все нарастает, слышится все ближе и ближе.
Конечно, это содрогается двухтактный мотор мотоцикла. Мальчик прячется в дверную
нишу.
Но грохот становится глуше, и вскоре он уже почти неслышим.
— Пора домой,— говорит мальчуган.
Поглядев на солдата, он повторяет: «Пора возвращаться домой».
Он подходит к солдату и протягивает ему руку. После минутного колебания тот,
ухватившись за протянутую руку и плечом упираясь в дверь, с трудом подымается.
В тишине улицы снова раздается грохот мотора, на этот раз он ‘звучит все громче и
явственней. Мужчина и ребенок в едином порыве успевают отпрянуть к двери. Шум
слышится уже так близко, что оба вскакивают на приступку и, плечо к плечу,
прижимаются к дверям. Грохот отбойного молотка, многократно отраженный фасадами,
доносится — можно угадать безошибочно — с боковой улицы, из-за перекрестка, в
десяти метрах от их укрытия. Они еще плотнее втискиваются в глубину пиши. На углу,
у их дома, появляется мотоцикл с коляской. В нем два солдата в касках. Мотоцикл
медленно приближается по нетронутому снегу мостовой.
Солдаты видны в профиль. Водитель, сидящий впереди, слегка возвышается над своим
спутником, расположившимся на боковом сиденье. В лице у них заметное сходство:
правильные черты, напряженность, худоба, вызванная, быть может, усталостью,
провалившиеся глаза, сжатые губы, серая коЖа. Шинели покроем и цветом похожи па
свои, французские, но каска, более громоздкая, тяжелая, низко надвинута на уши и
затылок. А сама машина, перепачканная, до половины заляпанная высохшей грязью,
видимо довольно старого образца. Водитель словно окаменел па сиденье, руки в
перчатках сжимают головки руля. Второй, не поворачивая головы, почти не шевелясь,
озирается то вправо, то влево. На коленях у него черный автомат, чей ствол
высовывается из металлического кузова коляски.
Мотоциклисты, не оборачиваясь, проскочили перекресток и проехали напрямик. Пролетев
метров двадцать, м<ъ
и*
323
тоцикл скрылся за углом здания, па противоположной стороне.
Спустя несколько секунд тарахтение внезапно прекратилось. По всей видимости,
мотоцикл остановился. Наступила полная тишина. В поле зрения, между двумя каменными
вертикалями на углу, остались только две параллельные колеи, прорытые в снегу
трехколесиой тележкой.
Все это тянулось слишком долго, и мальчик, потеряв терпение, вышел из своего
укрытия. Солдат не сразу это заметил, потому что ребенок прятался, прикориув у пего
за спиной; внезапно солдат увидел его посреди тротуара и сделал ему знак вернуться.
Но мальчуган позволил себе продвинуться еще па три шага вперед и прислонился к
фонарю, полагая, что тот его укроет.
Стояла тишина. Мальчуган мало-помалу осмелел и еще на несколько метров приблизился
к перекрестку. Опасаясь привлечь внимание невидимых мотоциклистов, солдат не
решался его окликнуть, чтобы помешать ему двигаться дальше. Мальчик дошел до места,
откуда можно было увидеть всю поперечную улицу; высунув голову, он отважился
заглянуть в ту сторону, куда укатил мотоцикл с коляской. Где-то неподалеку, в этом
же секторе, прокричал мужской голос, отдавая короткое приказание. Разом отскочив,
мальчик круто повернул и бросился бежать; он пронесся мимо солдата, а полы накидки
развевались у него за спиной. Еще сам не отдавая себе отчета, солдат приготовился
последовать за ним, когда, паполняя окрестности трескотней выхлопов, внезапно снова
включился двухтактный мотор. Мальчик уже был у перекрестка и заворачивал за угол,
когда солдат побежал, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Оглушительный грохот
гнался за ним по пятам.
Раздался продолжительный скрежет: проделав крутой вираж, мотоцикл забуксовал на
снегу. Мотор снова остановился. Резкий голос, без малейшего выражения, дважды
крикнул: «Halte!» Солдат уже почти достиг перекрестка, куда несколькими секундами
ранее свернул мальчуган. Снова загрохотал мотоцикл, перекрывая мощное «Halte!»,
повторенное в третий раз. И сразу же солдат услышал, как в неразбериху звуков
ворвалось знакомое сухое, отрывистое потрескивание автомата.
Внезапно его сильно толкнуло в правый каблук. Он продолжал бежать. Пули ударялись о
камень рядом с ним. Он уже достиг поворота, когда затрещала повая очередь.
324
Острая боль пронзила его левый бок. Стрельба вдруг прекратилась.
Укрытый стеной, он был недосягаем. Потрескиванье автомата оборвалось. Минутой
раньше замолчал мотор. Уже не чувствуя боли, солдат продолжал бежать вдоль каменной
стены. Дверь дома оказалась не заперта, стоило ее толкнуть, и опа сама
распахнулась. Он вошел. Тихонько прикрыл дверь; едва лязгнув, защелкнулся язычок
замка.
Солдат лег на пол и скрючился во мраке, прижав коробку к животу. Ощупал башмак.
Вдоль задника и сбоку каблука шла глубокая косая зарубка. Нога затронута не была. С
улицы послышались тяжелые шаги и шумные голоса.
Шаги приближались. Деревянная дверь содрогнулась от глухого удара, снова
послышались грубые, но скорее жизнерадостные голоса, говорящие на непонятном,
тягучем языке. Звук одиноких шагов удалялся. Два голоса, один совсем рядом, другой
— подальше, перебросились двумя-тремя короткими фразами. Раздался стук — должно
быть, стучали еще в какую-то дверь, потом снова в эту, стучали кулаком, раз за
разом, но как-то неуверенно. Какой-то далекий голос прокричал незнакомые слова, и
тот, кто был вблизи, громко захохотал. Потом захохотали оба, в два голоса.
И двое, грузно шагая, удалились, громко разговаривая и смеясь. В наступившей тишине
снова раздалась трескотня мотоцикла, потом, постепенно затихая, вовсе заглохла.
Солдат попытался переменить положение: острая боль в боку пронзила его, боль очень
сильная, но все же терпимая. Его донимала главным образом усталость. И сильно
тошнило.
И тут, совсем рядом, из мрака, донесся низкий голос мальчугана, но что тот говорил,
солдат не разобрал. Он почувствовал, что теряет сознание.
В зале собралась внушительная толпа: люди — большинство в штатском — стоят,
сбившись небольшими кучками, сильно жестикулируя, о чем-то беседуют. Солдат
пытается пробиться сквозь толпу. Он находит наконец более свободное местечко, где,
сидя за столиками, люди распивают вино и, размахивая руками, о чем-то громко
спорят. Столы тесно сдвинуты, и проход между скамьями, стульями й спинами сидящих
очень затруднен, но как-никак вид-
325
но, куда идешь. На беду, все места как будто заняты. Со всех сторон беспорядочно
расставлены столики — круглые, квадратные, прямоугольные. За некоторыми сидят всего
по три-четыре человека: самые большие <*толы — длинные, со скамьями вокруг,
позволяют обслужить человек пятнадцать. Над стойкой склонился хозяин — высокий
толстяк, особенно приметный потому, что стоит на возвышении. В узком промежутке
между стойкой и последними столиками толпится кучка посетителей, одетых более
нарядно — в короткие пальто городского покроя или шубы с меховым воротником;
стаканы для них приготовлены рядом с хозяином — стоит протянуть руку, чтобы взять,—
они виднеются в промежутке между фигурами стоящих, которые, энергично жестикулируя,
о чем-то беседуют. Один из посетителей остается немного в стороне, справа, он не
вмешивается в беседу своих друзей, но, прислонясь к стойке спиной, смотрит в залу,
на сидящих там людей, на солдата.
Тот замечает, наконец, неподалеку столик — к нему сравнительно удобно подойти, и
сидят за ним только двое военных: капрал-пехотинец и сержант. Оба неподвижные и
молчаливые, они своими сдержанными повадками резко отличаются от всех окружающих.
За их столиком есть свободный стул.
Солдату удается без особого труда пробраться к этому столику, и, положив руку на
спинку стула, он спрашивает, можно ли присесть. Капрал отвечает: с ними был еще
товарищ, но он на минутку отлучился и все не возвращается; похоже — он встретил
кого-то из знакомых; можно пока что занять его место. Солдат так и поступает,
весьма довольный тем, что удается присесть и отдохнуть.
Двое других молчат. Они и не пьют, перед ними даже нет стаканов. Шум в зале словно
не достигает их ушей, окружающая суета не тревожит их взоров, устремленных в ничто,
словно они спят с открытыми глазами. Если это и не так, во всяком случае зрелище,
которое тот и другой неотрывно созерцают, перед каждым их них разное, поскольку
тот, что сидит справа, повернулся лицом к совершенно голой стене — белые листы
объявлений висят дальше,— а второй смотрит в противоположную сторону, туда, где
расположена трактирная стойка.
На полдороге от стойки, над которой, расставив руки в упор, склонил свое тучное
тело хозяин, между столиками проходит с нагруженным подносом молодая служанка. Она
ищет глазами, соображая, куда направиться: вот она при-
326
остановилась, круто повернулась и оглядывается. Она не шевелится, не делает ни
шага, только бедра под широкой сборчатой юбкой слегка покачнулись, шевельнулась
голова с тяжелым узлом черных волос, да слегка дрогнуло туловище; на вытянутых
руках она, вровень с лицом, неподвижно держит поднос, а сама изогнулась,
обернувшись в другую сторону, и довольно долго остается в таком положении.
Судя по направлению ее взгляда, солдат думает, что она заметила его присутствие и
подойдет, чтобы принять у него заказ или даже сразу его обслужить, поскольку у нее
на подносе бутылка красного вина, которую она, совершенно не заботясь о ее
вертикальном положении, угрожающе наклонила, с риском ее обронить. Пониже бутылки,
на траектории неминуемого падения — лысая голова старого рабочего, а тот, видимо
ничего не подозревая, продолжает то ли в чем-то упрекать своего соседа слева, то ли
увещевать его или призывать в свидетели своей правоты; при этом он потрясает правой
рукой с переполненным стаканом, содержимое которого угрожает вот-вот пролиться.
Тут солдату приходит в голову, что на его столе нет ни одного стакана. На подносе —
только бутылка и ничего больше, что позволило бы утолить жажду нового клиента. К
тому же подавальщица, видимо, не обнаружила в его углу ничего такого, что привлекло
бы ее внимание, и продолжает шарить глазами по зале: минуя солдата и двух его
соседей, взгляд ее скользит поверх других столов, вдоль стены, где четырьмя
кнопками прикреплены белые листки объявлений; вдоль окна витрины со сборчатой
занавеской, загораживающей залу от глаз прохожих, окна с тремя выпуклыми эмалевыми
шарами снаружи; вдоль входной двери, также частично занавешенной и украшенной
надписью «Кафе», которая читается навыворот; вдоль стойки с пятью-шестью прилично
одетыми посетителями перед нею, а также того, крайнего справа, что все еще смотрит
на столик, за которым сидит солдат.
Тот переводит взгляд в сторону своего стула. Сержант пристально разглядывает ворот
его шинели, то место, где пришиты два зеленых ромба,— суконных, с армейским
номером.
— Так вы были под Рейхенфельсом? — говорит он. При этом его подбородок едва
заметно, но стремительно выдвигается вперед.
327
Солдат подтверждает:
— Да, был я в этой переделке.
— Были,— уточняет сержант, для доказательности повторяя то же движение
подбородком и кивая на отчетливые следы армейского номера.
— И он тоже,— говорит капрал,— тот, что сидел тут, на вашем месте...
— Ну, он-то дрался,— прерывает сержант. И, не получив ответа, добавляет: — А
то, сдается мне, найдутся и такие, что не выстояли.
Он оборачивается к капралу, и тот делает неопределенный жест в знак то ли
неведения, то ли согласия.
— Никто не выстоял,— говорит солдат.
Но сержант протестует:
— Как бы не так! Вы спросите у парнишки, что сидел тут, на вашем месте.
— Ладно, пусть так,— соглашается солдат.— Все дело в том, как понимать это
«выстояли».
— Я так и понимаю, как оно есть: были такие, что дрались, а другие — нет.
— А кончилось тем, что все отступили.
— Согласно приказу. Не надо путать.
— Все отступили согласно приказу,— говорит солдат.
Сержант пожимает плечами. Он смотрит на капрала,
словно ища поддержки. Потом, отвернувшись к стеклянной витрине, глядящей на улицу,
бормочет:
— Разложившееся офицерье!
И помолчав:
— Разложившееся офицерье, вот это кто!
— Это верно,— подтверждает капрал.
Озираясь вокруг, солдат выискивает глазами молодую официантку, которая все никак не
соберется к ним подойти. Но сколько он ни приподнимается на стуле, глядя поверх
голов, он нигде не может ее обнаружить.
— Не беспокойтесь, вы увидите сразу, когда он вернется,— говорит капрал. Он
приветливо улыбается и, полагая, что солдат оглядывается в поисках их ушедшего
товарища, добавляет: — Он должен быть рядом, в бильярдной, верно, приятеля
повстречал.
— Вы можете у него спросить,— продолжает, покачивая головой, сержант,— он-то
дрался, можете у него спросить.
— Ладно, а все же как-никак нынче он тут,— говорит
328
солдат.— Хочешь не хочешь, а пришел к тому же, что и остальные.
— Согласно приказу, я вам говорю.— И после минутного молчаливого размышления
он, словно про себя, заключает: — Разложившееся офицерье, вот они кто!
— Вот это верно,— подтверждает капрал.
Солдат спрашивает:
— А вы-то под Рейхенфельсом были?
— Ну нет, мы оба западнее были,— отвечает капрал.— Как они линию обороны
прорвали и нас обошли, мы и отступили, чтобы не попасться.
— Согласно приказу, вот как! Не надо путать,— уточняет сержант.
— Быстро смотались, тянуть было некогда,— говорит капрал.— А те, из двадцать
восьмой у нас на левом фланге, замешкались, так они словно ребятня малая влипли.
— Сейчас, как ни верти, все к тому же идет. Не нынче — так завтра посадят в
мешок,— говорит солдат.
Сержант бросает на него быстрый взгляд, но предпочитает обратиться к воображаемому
собеседнику, сидящему напротив:
— Ну, это еще надо доказать, мы еще последнего слова пе сказали.
Теперь очередь солдата пожать плечами. Он встает со стула, пытаясь привлечь
внимание официантки и надеясь, что наконец-то ему принесут выпить. Из-за соседнего
стола доносится фраза, случайно произнесенная громче других,— обрывок какой-то
беседы: «Шпионы, ну, их-то повсюду хватает!» За этим заявлением следует
непродолжительное молчание. На другом конце стола кто-то дает подробные пояснения,
по слышится только глагол «расстрелять», остальное тонет в сумятице голосов. И
когда солдат снова усаживается на свой стул, среди общего гула слышится другая
формулировка:
— Есть такие, что дрались, а другие вот нет.
Сержант разглядывает при этом зеленые ромбы на вороте шинели. Он повторяет:
— Мы еще последнего слова не сказали.— Потом, склонившись к капралу,
доверительно сообщает: — Мне говорили, вражеским агентам платят, чтоб разлагали
морально.
Капрал не реагирует. Сержант, который, перегнувшись над столом, покрытым клеенкой в
красно-белую клетку, тщетно ждал ответа, снова решительно опускается
329
па стул. Немного погодя он добавляет: «Надо было видеть», но произносит это едва
слышно и к тому же не поясняет свою мысль. Оба молчат, и тот и другой замерли,
уставившись в пространство прямо перед собой.
Солдат оставляет их, с намерением выяснить, куда же запропастилась молодая женщина
с тяжелой темной шевелюрой. Но, стоя среди нагромождения столов, он подумал, что в
конечном счете не так уж ему хочется пить.
Почти у самого выхода, уже дойдя до стойки, которую обступила кучка прилично одетых
людей, он вдруг подумал о том солдате, что был под Рейхенфельсом и так доблестно
там сражался. Важно непременно его разыскать, поговорить с ним, выведать у него,
как это все было. Солдат немедля возвращается и пересекает залу в обратном
направлении, пробираясь между скамьями, стульями и спинами выпивающих за столиками
посетителей. Те двое сидят по-прежнему в одиночестве, в той же позиции, в какой он
их оставил. Вместо того чтобы направиться к ним, он идет напрямик в глубь залы,
туда, где толпа мужчин, создавая давку и толкотню, устремилась влево, но из-за
тесноты прохода движется очень медленно, мало-помалу, однако, протискиваясь между
выступом стены и тремя большими круглыми вешалками, нагруженными одеждой, которые
возвышаются в конце стойки.
Пока, подхваченный течением, солдат также приближается к выходу — правда, медленнее
прочих, поскольку он оказался у края потока,— ему приходит в голову, а почему,
собственно, так уж важно побеседовать с этим человеком, который сможет ему
рассказать лишь то, что ему уже известно. Еще не успев дойти до следующей залы,
где, кроме новых посетителей, должны находиться: укрытый чехлом бильярд,
черноволосая официантка и герой Рей-хенфельса,— солдат отказывается от своей затеи.
Именно тут, должно быть, и разыгрывается немая сцена, когда толпа, окружающая
солдата, раздвигается, оставляя его посреди огромного круга, по сторонам которого
чьи-то призрачные лица... Эта сцена, впрочем, ни к чему не ведет. И наконец толпа —
ни немая, ни говорливая — уже не окружает его: он вышел из кафе и шагает по улице.
Это обычная улица: длинная, прямая, обставленная совершенно одинаковыми домами с
плоскими фасадами и похожими одна па другую дверьми. Как всегда медленно, мелкими
густыми хлопьями сыплется снег. Белеют тротуары, мостовые, цодоконники, приступки
подъездов.
330
За ночь в нишу намело кучу снега, он проник в узкую вертикальную щель неплотно
прикрытой двери, и, когда солдат распахивает створку, налипший по ее краю снег в
несколько сантиметров толщиной сохраняет продолговатую форму. Немного снега
скопилось даже в коридоре, и он образовал на полу длинную дорожку, которая чем
дальше от двери, тем становится уже,— вначале она широка, затем сужается и,
частично уже подтаяв, оставляет на пыльном деревянном полу влажную черную кромку.
Коридор испещрен черными следами, отстоящими друг от друга сантиметров на пятьдесят
и все менее отчетливыми по мере приближения к лестнице, нижние ступеньки которой
угадываются в глубине. И хотя пятна эти неопределенной, изменчивой формы, с
бахромчатыми краями и проталинами, есть все основания полагать, что это отпечатки,
оставленные башмаками небольшого размера.
Справа и слева по коридору, на равном расстоянии друг от друга, правильно
чередуясь, расположены двери — одна справа, другая слева, одна справа и т. д. Эта
вереница тянется, сколько хватает глаз или почти столько, а в самой глубине, где
освещение ярче, еще можно различить нижние ступени лестницы. Рядом — невысокая
фигура женщины или ребенка, которую дальность расстояния делает совсем крохотной;
одной рукой она опирается на крупный белый шар, которым заканчиваются перила.
Чем ближе солдат к ней подходит, тем явственней у него ощущение, что эта фигура
отступает вглубь. По правую сторону коридора одна из дверей открылась. Здесь,
впрочем, и обрываются следы. Щелк. Мрак. Щелк. Желтый свет озаряет тесную переднюю.
Щелк. Мрак. Щелк. Солдат снова оказывается в квадратной комнате, где стоят комод,
стол и диван-кровать. На столе клетчатая клеенка. К стене над комодом прикреплена
фотография военного в походной форме. Вместо того чтобы, сидя за столом, попивать
вино и не спеша разжевывать хлеб, солдат вытянулся на постели; глаза у него
закрыты, видимо, он спит. Вокруг него, стоя, замерли трое: мужчина, женщина и
ребенок,— они молча его разглядывают.
В изголовье, почти к самому лицу спящего склонилась женщина— она всматривается в
его искаженные черты, прислушивается к затрудненному дыханию. В стороне, у стола,
как всегда в черной накидке и с беретом на голове, стоит мальчуган. Третий, в ногах
кровати, не инвалид с деревянным костылем, но более пожилой человек, с залы-
331
синой над лбом, одетый в короткое пальто на меху, начищенные ботинки и короткие
гетры. Он не снимает серых лайковых перчаток; на левой руке, у безымянного пальца,
там, где приходится перстень, небольшая припухлость. Зонтик с ручкой из слоновой
кости, облеченный в шелковый футляр, оставлен, видимо, в передней, где косо
прислонен к вешалке.
Солдат, в полном обмундировании, в обмотках и грубых башмаках, лежит на спине. Руки
вытянуты вдоль тела. Шинель расстегнута, военная гимнастерка под нею — слева, у
поясницы — в пятнах крови.
Нет. В действительности, на сцене другой раненый, все происходит при выходе из
переполненного кафе. Солдат едва успевает закрыть за собой двери, как к нему
подходит рядовой прошлогоднего призыва, которого он не раз встречал по возвращении
— и даже этим же утром в госпитале,— тот как раз собирается войти в кафе. На
мгновение солдату приходит в голову мысль, что перед ним тог самый отважный вояка,
чью храбрость только что превозносил сержант. Но он тут же осознает невозможность
подобного совпадения; юноша действительно во время вражеской атаки был под
Рейхенфельсом, но в том же полку, где служил и сам солдат, о чем свидетельствовали
зеленые ромбы на его обмундировании; однако, если верить тому, на что так прозрачно
намекал сержант, в их части не числилось героев. Поэтому, встретив товарища, солдат
ограничился кивком головы, но тот остановился и заговорил:
— Вашему приятелю, тому, что этим утром вы навещали в хирургии, плохо. Он вас
несколько раз спрашивал.
— Ладно,— сказал солдат,— приду еще.
— Да поскорей. Он недолго протянет.
Молодой человек уже взялся было за медную ручку, но снова обернулся и добавил:
— Он говорит, что должен вам что-то вручить.— И после короткого размышления: —
Может быть, это в бреду.
— Я приду. Увидим,— сказал солдат.
Выбрав наикратчайший путь, он сразу же, быстрым шагом отправляется в госпиталь.
Перед ним проходит декорация, вовсе непохожая на симметричные, однообразные
очертания большого города с вычерченными рейсфедером, пересеченными под прямым
углом улицами. Нет также и снега. Для этого времени года, пожалуй, тепло. Низкие,
старомодные, несколько вычурные дома, перегруженные завитушками орнаментов,
барельефами карнизов, резными
332
капителями колонн, обрамляющих двери, скульптурными консолями балконов, сложным
переплетом пузатых металлических решеток. С этим ансамблем хорошо сочетаются
уличные фонари на углах, некогда оснащенные газовыми горелками, тогда как теперь
чугунный столб, расширяющийся у основания, поддерживает па высоте трех метров некое
сооружение в виде лиры с закругленными рожками и подвешенным к ним шаром с большой
электрической лампой внутри. Самый столб не однороден по форме — он опоясан
множеством колец, различных по конструкции и размерам, что подчеркивает изменение
его калибров на разной высоте: кольца то раздаются вширь, то сужаются, то
раздуваются наподобие шара, то напоминают веретено; особенно много этих колец у
верхушки конуса, служащего основанием всему сооружению; вокруг конуса змеится
металлическая гирлянда стилизованного плюща, и такая же стилизованная гирлянда
повторяется на каждом столбе.
Но госпиталь всего лишь классическое здание военного образца, стоящее в глубине
обширного голого двора, посыпанного гравием и отделенного от бульвара с обнаженными
деревьями очень высокой решеткой, двухстворчатые ьорота которой распахнуты настежь.
Будки часовых — по обе стороны ворот — пусты. Посередине огромного двора одиноко
стоит какой-то воинский чин в перепоясанном френче и с кепи на голове; он о чем-то
размышляет; на белый гравий у его ног легла черная тень.
Что до помещения, где находится раненый, это обычная комната с металлическими,
окрашенными в белый цвет кроватями — обстановка, которая также ни о чем не говорила
бы, если б не завернутая в коричневую бумагу коробка на полке для вещей.
С этой-то коробкой солдат и шагает по заснеженным улицам, вдоль высоких плоских
фасадов, в поисках места условленной встречи, и, учитывая неудовлетворительность
описания, йм полученного, путается среди множества сходных перекрестков, пытаясь в
этом большом, чересчур геометрично расположенном городе точно определить указанное
место. И наконец, толкнув приоткрытую дверь, он снова попадает в необитаемое с виду
здание. В коридоре, до половины выкрашенном в темно-коричневый цвет, так же
пустынно, как и на улицах: ни циновки перед дверью, ни пришпиленной визитной
карточки, пи каких-либо хозяйственных мелочей, случайно брошенных то тут, то там,—
ничего, что обычно выдает характер жилого дома,
333
8а исключением инструкции по противопожарной обороне, одни лишь голые стены.
И тут-то боковая дверь открывается в тесную переднюю, где к обычного типа вешалке
прислонился зонтик в черном шелковом чехле.
Однако, если кто-то подстерегает вас у входа, другая дверь позволяет покинуть дом
незамеченным: находится она в конце второго коридора, перпендикулярного к первому,
налево от расположенной в его глубине лестницы, и выходит на поперечную улицу.
Улица точь-в-точь похожа на предыдущую; и мальчуган стоит на посту под фонарем в
ожидании солдата, чтобы проводить того в канцелярию военного округа — здание,
которое служит одновременно и казармой и госпиталем.
Оба, во всяком случае, отправились в путь с таким намерением. Но перекрестки все
множатся, улицы внезапно меняют направление и поворачивают вспять. И нескончаемый
ночной поход продолжается. Мальчуган шагает все быстрей и быстрей, солдат не
поспевает за ним и вскоре снова остается в одиночестве; единственный выход для него
— разыскать хоть какое-нибудь убежище, где бы он мог поспать. У него нет никакого
выбора, и он вынужден удовольствоваться первой же раскрытой дверью, какая ему
попалась. Это снова жилище молодой женщины в сером Переднике — светлоглазой и
черноволосой, с таким низким голосом. Солдат не заметил, однако, прежде, что в
Комнате, где его угощали вином и хлебом, под черной рамой с фотографией мужа,
одетого в походную форму, видящей на стене над комодом, кроме прямоугольного стола,
накрытого клетчатой клеенкой, стоял и диван-кровать.
На противоположной стене, вверху, почти в самом углу под потолком, чернеет
черточка, очень тонкая, извилистая, длиной сантиметров в десять или чуть побольше,—
возможно, трещина в штукатурке, возможно, запылившаяся паутинка, а возможно, и
попросту дефект белого покрытия, подчеркнутый резким светом электрической лампы,
свисающей на голом шнуре и медленно, подобно маятнику, раскачивающейся на этом
шнуре. И в такт ей, но в обратном направлении колеблется тень человека со споротыми
нашивками и в штатских брюках (не его ли инвалид называл лейтенантом?)— тень,
упирающаяся в пол, раскачивается вправо и влево на полотнище запертой двери, уходя
то в одну, то в другую сторону от неподвижного тела человека.
334
Этот псевдолейтенант (но следы отсутствовавших на его гимнастерке знаков различия,
видневшиеся на корич-» невой ткани, говорили о звании капрала) — человек,
подбиравший одиноки* раненых или больных,— должно быть, предварите.^но выглядывал
из окна нижнего этажа, пред-почтительнЪ из того, что приходилось как раз над
дверью, пытаясь в полумраке разглядеть тех, кто хотел войти. Это, однако, не решает
главного вопроса: как он мог узнать, что кто-то стрит на пороге? Стучался ли
мальчуган в закрытую дверь? Солдат, со значительным опозданием догнав, наконец,
своего проводника,— потому что уже давно потерял его из вида и шагал наугад по его
следам,^ не подозревал, что о его прибытии уже было доложено, И пока,
взгромоздившись на узкую приступку, он тщетно пытался разобрать выгравированную на
полированной табличке надпись, снова и снова водя по ней кончиками пальцев, в трех
метрах над его головой хозяин подробно изучал выступающий из дверной ниши бок
шинели: плечо, руку в запачканном рукаве, обхватившую сверток, по форме и размерам
напоминающий коробку для обуви.
Между тем в окнах было темно, и солдат полагал, что этот дом, как и прочие, покинут
обитателями. Толкнув дверь, он сразу же обнаружил, что заблуждался: в доме
оставалось множество жильцов (как, впрочем, наверное, и во всех других домах), и
они, один за другим, появлялись повсюду: какая-то молодая женщина забилась в самый
угол лестницы в глубине коридора, другая случайно открыла дверь по левую его
сторону, наконец, третья — по правую, и, после минутного колебания, она впускает
солдата в переднюю, откуда он — в который раз — попадает в квадратную комнату, где
теперь и лежит*
Он покоится на спине. Глаза у него закрыты. Серые веки, серый лоб и серые виски, но
скулы помечены ярки*! румянцем. На впалых щеках, вокруг приоткрытого рта, на
подбородке — темная щетина по крайней мере четьь рех-пятидневной давности. Его
сиплое дыхание ритмично вздымает натянутую по самую шею простыню. Багровая кисть с
чернотой на суставах пальцев высунулась наружу и свисает с кровати. В комнате уже
нет ни человека 6 зонтом, ни мальчика. Только женщина — она сидит за столом чуть
боком, обернувшись к солдату.
Она вяжет из черной шерсти, видимо, какую-то одеж-
335
ду, но работа еще только начата. Большой клубок лежит рядом с ней на красно-белой
клетчатой клеенке, края которой ниспадют вокруг стола, образуя по углам широкие
жесткие складки, напоминающие опрокинутый кулек.
В остальном комната не совсем такова, какой она запомнилась солдату: не считая
дивана-кровати, который он едва заметил во время первого посещения, здесь есть, по
крайней мере, одна вещь, которую важно упомянуть — высокое окно, совершенно скрытое
сейчас огромными красными занавесями, ниспадающими с потолка и до пола. Диван, хотя
и широкий, легко мог остаться незамеченным, потому что расположен в углу, и, когда
дверь распахнута, она скрывает его от взоров того, кто переступает порог; к тому же
солдат пил и ел за столом, повернувшись к дивану спиной; кроме того, внимание его
было притуплено усталостью, голодом и стужей, и он мало обращал внимания на
обстановку квартиры. Его удивляет, однако, что оп проглядел тогда то, что в ту
пору, как и теперь, находилось как раз у него перед глазами: окно, или, во всяком
случае, красные занавеси из тонкой глянцевитой ткани, напоминающей атлас.
Должно быть, эти занавеси не были тогда закрыты, потому что сейчас, при ярком
свете, когда они развернуты во всю ширь, нельзя остаться равнодушным к их цвету.
Наверно, при слабом освещении, проникавшем в незашторенное окно меж двух
вертикальных, очень узких красных полотнищ, сами занавеси становились менее
приметными. Но, если дело было дпем, то куда же выходило окно? Рисовалась ли в
прямоугольнике стекла панорама улицы? При таком однообразии квартала это зрелище не
заключало бы в себе ничего примечательного. Либо сквозь стекло виделось нечто иное:
двор, возможно, столь тесный, а внизу, на уровне первого этажа, настолько темный,
что свет почти не проникал в окно и ничто не привлекало к нему внимания, в
особенности если густая снежная пелена мешала различить предметы, находящиеся в
комнате.
Невзирая на эти рассуждения, солдат по-прежнему смущен таким пробелом в своих
воспоминаниях. Он задает себе вопрос, не могло ли еще что-нибудь из окружающих
предметов ускользнуть от его наблюдения и не продолжает ли ускользать и сейчас. Ему
вдруг начинает казаться, что необходимо срочно составить полный реестр всех вещей,
находящихся в комнате. Вот камин, о котором у него не сохранилось почти никакого
представления, обычный
336
камин из черного мрамора, над ним большое прямоугольное зеркало; железная заслонка
приподнята, но подставки для дров не видно, а внутри — лишь кучка серой, почти
невесомой золы; на мраморе доски лежит продолговатый, плоский предмет — самое
большое в один-два сантиметра толщины, но лежит он слишком далеко от края, и под
таким углом зрения определить, что это за предмет, нельзя (возможно даже, в ширину
— он простирается много больше, чем это кажется); в зеркале отражаются красные
шторы — гладкие, атласные,— их складки сверкают вертикальными бликами... Солдату
все это кажется пустяками: следует в этой комнате отметить какие-то иные, куда
более важные детали, в частности, что-то, смутно осознанное им, что привиделось в
тот раз, когда его угостили здесь красным вином и ломтем хлеба... Он уже не помнит,
что это было. Он хочет обернуться, внимательней поглядеть в сторону комода, но едва
может пошевельнуться: какое-то оцепенение сковало его тело. Лишь предплечья и кисти
рук еще движутся.
— Вам что-нибудь нужно? — доносится до него низкий голос молодой женщины.
Она прервала работу, но осталась в том же положении: все еще держит вязанье перед
грудью, пальцы — один указательный поднят, другой все еще согнут пополам, таким
образом они как бы тоже образуют петлю, голова еще старательно склонилась над
работой, но глаза устремлены к изголовью кровати. Лицо женщины озабоченно, сурово,
черты напряжены — то ли от усердия, то ли от тревоги за раненого, неожиданно на нее
свалившегося, то ли вследствие какой-то иной, ему неведомой причины.
— Нет,— отвечает он,— ничего.
Говорит он медленно, и, что удивляет его самого, слова помимо его воли вылетают
неестественно отрывисто.
— Вам больно?
— Нет,— говорит он.— Я не могу... пошевелиться...
— Не двигайтесь. Если что нужно, скажите мне. Это от укола, который вам сделал
врач. Он попытается проникнуть сюда вечером — сделает второй.— Она снова опустила
глаза и принялась за вязанье.— Если ему удастся. Теперь ни в чем нельзя быть
уверенным,— добавила она.
Должно быть, тошнота, которую он ощущает с тех пор, как проснулся, тоже вызвана
уколом. У него жажда, но ему не хочется подыматься, чтобы пойти напиться из крана в
умывальной, которая находится в конце коридора.
337
Лучше он подождет, когда вернется фельдшер в брезен^ товой куртке и охотничьих
сапогах. Нет, не то: ведь о нем заботится тут женщина с таким низким грудным
голосом. И только сейчас он с удивлением соображает, что снова находится в той же
комнате, где действие происходило когда-то. Ему отчетливо вспоминается мотоцикл,
темный коридор, где он растянулся под дверью, оказавшийся надежным укрытием.
Потом... он не знает, что было потом. Конечно, ни госпиталь, ни переполненное кафе,
ни длительные скитания по пустынным улицам в его состоянии не были возможны. Он
спрашивает:
— Рана серьезная?
Женщина, видимо, не слышит и продолжает вязать. Он повторяет:
— Ранение серьезное?
Но тут он соображает, что говорит слишком тихо,— совсем беззвучно шевелит губами.
На этот раз, однако, молодая женщина приподняла голову. Она откладывает вязанье на
стол, рядом с внушительным черным клубком, и замирает — то ли в ожидании, то ли в
тревоге, то ли в страхе и молча на него глядит. Наконец, она отваживается спросить:
— Вы что-то сказали?
Он повторяет вопрос. На этот раз из его уст вылетают слабые, но отчетливые звуки,
словно ее низкий, грудной голос вернул ему дар речи; разве что она угадала по
губам, что он хочет сказать.
— Нет, это пустяки. Скоро выздоровеете.
— Встану...
— Нет, не сегодня. И не завтра. Попозже.
Но он не может терять время. Он встанет сегодня же вечером.
— А коробка,— говорит он,— где она?
Женщина не поняла, и он вынужден повторить вопрос?
— Коробка, что была у меня?..— По напряженному лицу женщины скользнула улыбка.
— Не волнуйтесь, она тут. Ее малыш принес. Не надо много разговаривать. Вам
вредно.
— Нет, ничего... не очень,— говорит солдат.
Она оставила вязанье, положила руки на колени и глядит на него. Она похожа на
статую. У нее правильные, но резкие черты лица, как у той женщины, что когда-то,
давным-давно подавала ему вино. Он говорит с усилием:
— Пить.
338
Должно быть, он даже не пошевелил губами, потому что она продолжает сидеть не
шелохнувшись и ничего пе отвечает. А может быть, ее светлые глаза даже не видят
его, может быть, они глядят на других посетителей, расположившихся подальше, за
другими столиками, в глубине залы, которую она озирает, минуя взглядом солдата и
двух его соседей, минуя другие столы, скользнув взором вдоль стены, где висят,
прикрепленные четырьмя кнопками, небольшие белые листочки объявлений с мелко
напечатанным текстом, все еще привлекающие плотную кучку читателей, скользнув мимо
витрины со сборчатой занавеской, закрывающей стекло вровень с лицами прохожих,—
витрины с тремя рельефными шарами снаружи, выписанными эмалевой краской, и снегом,
что медленно и мерно, вертикально падает тяжелыми, густыми хлопьями.
И свежий снег мало-помалу оседает на оставленных за день следах, округляя углы,
заполняя вмятины, выравнивая поверхности, и вскоре исчезают желтые тропки,
протоптанные вдоль домов пешеходами, одинокие следы мальчугана, две параллельные
борозды, прорытые посреди мостовой мотоциклом с коляской.
Но следует прежде всего удостовериться, что все еще падает снег. Солдат хочет
спросить у молодой женщины, так ли это. Но может ли она знать, сидя тут, в комнате
без окон? Ей придется выйти наружу, шагнуть за приоткрытую дверь, перейти переднюю,
где ожидает черный зонтик, длинную вереницу коридоров, узкие лестницы и снова
уходящие вбок под прямым углом и пересекающие друг друга коридоры, где она сильно
рискует заблудиться, прежде чем выберется на улицу.
Вернется она, во всяком случае, очень нескоро, и теперь на ее месте, слегка
наискосок от стола, сидит мальчуган. На нем свитер с высоким воротом, короткие
штаны, шерстяные носки и фетровые ботики. Он держится прямо, не прислоняясь к
спинке стула; руки застыли по бокам, а кистями он ухватился за края соломенного
сиденья; мальчик болтает ногами с голыми коленками, ритмично раскачивая их между
передними ножками стула в двух параллельных плоскостях, но в обратном направлении:
одна — туда, другая — сюда. Заметив, что солдат на него смотрит, он сразу же
перестает раскачиваться и, словно он с нетерпением ждал этой минуты, чтобы выяснить
заботивший его вопрос, спрашивает своим степенным, недетским голосом:
339
— Ты почему тут?
— Не знаю,— отвечает солдат.
Возможно, мальчик не слышал ответа, потому что оп повторяет вопрос:
— Тебя почему в казарму пе поместили?
Солдат уже не помнит, спрашивал ли он об этом молодую женщину. Очевидно, сюда его
доставил кто-то другой — не мальчик и не инвалид. Надо еще спросить, подобрал ли
кто-нибудь коробку, завернутую в коричневую бумагу: шнурок распустился, н пакет,
наверно, теперь развернут.
— Ты здесь умрешь? — говорит ребенок.
Солдат не знает, что ответить и на этот вопрос. Он, впрочем, удивлен, что ему такой
вопрос задан. Он пробует получить пояснения, но не успевает выказать свое
беспокойство, как малыш, сделав пол-оборота, уже уносится со всех ног вдоль
совершенно прямой улицы, даже не теряя времени на пируэты вокруг фонарных столбов:
он минует их, один за другим, не останавливаясь. Вскоре на нетронутой глади свежего
снега остаются лишь отпечатки его подошв с отчетливым, хотя искаженным на бегу
рисунком,— отпечатки, делающиеся все более смутными по мере того, как он ускоряет
бег, пока наконец, уже едва различимые, они не смешиваются со множеством других
следов.
Но молодая женщина вовсе не двинулась со стула; и не заставляя себя долго
упрашивать, она отвечает, несомненно затем, чтобы успокоить больного: это мальчик
пришел и сказал, что солдат, о котором она накануне позаботилась, валяется без
сознания, скрючившись в подъезде одного из домов, на расстоянии нескольких
кварталов от них, что он нем, глух и недвижим, как труп. Женщина сейчас же решила
туда направиться. Около тела уже находился какой-то человек в штатском, случайно,
по его словам, проходивший мимо; в действительности же он, видимо, укрывшись в
соседней нише, присутствовал при разыгравшейся сцене. Женщина без труда описала его
приметы: мужчина неопределенного возраста с очень редкими седыми волосами, хорошо
одет, перчатки, гетры, зонтик-трость с набалдашником из слоновой кости. Зонтик
лежал поперек порога. Дверь была открыта настежь. Мужчина, стоя на коленях возле
раненого, приподнял его безвольную руку и, держа пальцы на запястье, щупал пульс;
он, можно сказать.
340
врач, хотя и не работающий по специальности. Он-то и помог перенести солдата сюда.
Где в точности находилась коробка для обуви и была ли она там вообще, молодая
женщина не заметила; должно быть, она лежала где-то в стороне, отодвинутая врачом,
чтобы удобней было обследовать раненого. И хотя диагноз был для него не совсем
ясен, врач, невзирая на опасность, связанную с транспортировкой раненого без
носилок, посчитал, что в любом случае предпочтительней положить его в более
пристойном месте.
Но отправились в путь они пе сразу, потому что, едва решение было принято, снова
послышался грохот мотоцикла. Мужчина поспешил закрыть дверь, и они ждали в темноте,
пока не минует опасность. Мотоцикл многократно отъезжал и снова возвращался, на
медленном ходу бороздя примыкающие улицы, грохоча то вблизи, то в отдалении, потом
снова вблизи, но грохот вскоре затихал, с каждым разом становясь все глуше,—
видимо, мотоцикл обследовал все более отдаленные улицы. Наконец грохот превратился
в едва слышное гуденье, почти неуловимое даже для настороженного слуха, и тогда
мужчина снова открыл дверь.
Вокруг было тихо. Отныне никто не отваживался выйти на улицу. В стылом воздухе
падали редкие хлопья снега. Вдвоем они подняли тело: мужчина поддерживал свою ношу
за бедра, женщина — за плечи, ухватив раненого под мышками. Только тут она заметила
большое кровяпое пятно па боку шинели; но врач успокоил ее, заверяя, что обилие
крови отнюдь не говорит о серьезности ранения,— и он осторожно спустился с
приступки, ловко неся свой груз, а за ним, не без патуги, двипулась молодая
женщина, стараясь удержать раненого, как ей казалось, в наиболее благоприятном для
пего положении, хотя она не без труда управлялась со своей тяжелой ношей, всячески
пытаясь ухватить раненого получше и этим только усиливая тряску. Мальчуган,
опередивший их на несколько шагов, одной рукой держал зонтик в черном шелковом
чехле, а другой — коробку от обуви.
В ожидании, пока какой-нибудь госпиталь сможет принять раненого (что при
существующем хаосе могло случиться нескоро), доктор должен был по приходе
отправиться домой и захватить необходимые для оказания первой помощи предметы. Но
только успели они добраться до жилища молодой женщины, к счастью находившегося
341
неподалеку, снова послышался гул моторов, правда, более глухой, но зато и более
мощный. На этот раз то были не простые мотоциклы, но, очевидно, большие машины,
возможно, грузовики. Доктору пришлось еще на какое-то время запастись терпением,
прежде чем он осмелился снова выйти на улицу. Все трое оставались в комнате, где на
диван-кровати поместили бездыханного солдата. Замерев, ояи молча на него глядели —
женщина, слегка склонившись над раненым, стояла в изголовье, мужчина, не снимая
кожаных перчаток и пальто на меху,— в ногах, мальчик — в накидке и берете — у
стола.
Солдат тоже, как был, так и остался одетым; шинель, обмотки и грубые башмаки. Он
лежит на спине, закрыв глаза. Должно быть, он умер, раз те, другие, к нему не
прикасаются. Однако в следующей сцене мы видим его на кровати с натянутой по самую
шею простыней, вполуха слушающим невнятный рассказ той самой светлоглазой молодой
женщины о какой-то размолвке между добро-вольцем-врачом в серых перчатках и кем-то
еще, кого она не называет прямо, должно быть, это инвалид. Тот действительно много
позже, после первого укола, вернулся домой и хотел сделать что-то, против чего
возражали те оба, в особенности доктор. Хотя разобраться, в чем суть их распри,
было нелегко, поведение обоих противников, их весьма красноречивая жестикуляция,
театральные позы, утрированная мимика указывали на жестокие разногласия. Инвалид,
одной рукой опираясь о стол, другой потрясает в воздухе костылем; врач, распрямив
ладонь, вздымает руки к небесам подобно одержимому, проповедующему новую веру, или
главе государства, который отвечает на приветственные возгласы толпы. Испуганная
женщина, уклоняясь от вспыхнувшей ссоры, отступает в сторону; но, стоя в отдалении,
отстранившись от спорщиков, она повернулась к ним всем корпусом и то наблюдает
последние перипетии их распри, становящиеся драматичными, то прячет глаза, словно
щитком прикрывая лицо ладонями. Мальчуган сидит на полу, возле опрокинутого стула;
его вытянутые и широко расставленные ноги образуют букву «V»; в руках он держит,
прижимая к груди, коробку, обернутую в коричневую бумагу.
Далее следуют сцены еще менее ясные, еще более двойственные, но, возможно, столь же
бурные, хотя чаще всего немые. Подмостками служат для них места более
неопределенные, менее характерные, достаточно безликие;
342
многократно возникает лестница: кто-то быстро по ней спускается, держась за перила
и перепрыгивая через ступеньки, почти спирально перелетая через площадки,— и
солдат, опасаясь быть опрокинутым, вынужден забиться куда-то в угол. Затем
спускается и он, но более степенным шагом,— пройдя в конец длинного коридора, он
снова оказывается на заснеженной улице; а пройдя в конец улицы, снова входит в
переполненное людьми кафе. Тут все на своих местах: хозяин — за стойкой, врач в
пальто на ме-ху — среди кучки прилично одетых людей, расположившихся на переднем
плане, он держится, однако, несколько в стороне от остальных и не вмешивается в их
разговор; малыш сидит на полу, прислонясь к скамье, перегруженной любителями
выпивки, рядом с опрокинутым стулом, по-прежнему сжимая в объятиях коробку, тут
молодая темноволосая женщина в платье со сборками, с величавой осанкой, вздымающая
свой поднос с одной-единственной бутылкой на нем над головами клиентов, сидящих за
столами, и, наконец, солдат, присевший за самым маленьким из столиков, меж двух
товарищей, таких же простых пехотинцев, как и он,— как и он, в наглухо застегнутой
шинели и пилотке, как и он, усталых, как и он, ничего не видящих вокруг, как и он,
окаменевших на стуле, молчаливых, как и он. Все трое на одно лицо; единственная
разница: один показан слева, второй — спереди, третий — справа; и руки у них
сложены одинаково — шесть рук, одинаково покоящихся на столе, накрытом
разрисованной в мелкую клетку клеенкой, по углам ниспадающую жесткими коническими
складками.
Не их ли оцепеневшую группку минует подавальщица, поворачиваясь профилем античной
статуи вправо, хотя ее туловище обращено в другую сторону — в сторону прилично
одетого мужчины, расположившегося в некотором отдалении от своей компании и видном
так же в профиль и с того же бока, о такими же застывшими чертами лица, как у нее,
как у них. И еще одно лицо сохраняет полную безучастность среди искаженных
запальчивостью физиономий всех прочих — это лицо ребенка, сидящего на переднем
плане, прямо на паркетном полу в елочку, таком Щ, как в комнате, и как бы
являющемся продолжением того, поскольку их разграничивают лишь вертикальное
полотнище полосатых обоев да, пониже, три ящика комода.
Елочки паркета, не прерываясь, достигают тяжелых красных занавесей, над которыми,
по белому потолку,
343
продолжает совершать свой круг нитевидная мушиная тень, в эту минуту проползающая
неподалеку от трещины, нарушившей целостность его поверхности, в правом углу, у
самой стены, как раз перед глазами лежащего на диване солдата, чья голова
приподнята па подушке.
Надо бы подняться и взглянуть поближе, в чем же заключается дефект: действительно
ли это трещина или нечто совсем иное? Придется, конечно, встать на стул либо даже
на табуретку.
Но, вздумай он подняться, другие мысли тотчас отвлекли бы его от этой затеи: солдат
должен был бы прежде всего разыскать коробку от обуви, находящуюся, очевидно, в
другой комнате, чтобы вручить ее по назначению. Но поскольку в настоящий момент об
этом не может быть и речи, солдату остается только неподвижно лежать на спине и,
слегка приподнявшись па подушке, глядеть прямо перед собой.
Между тем оп чувствует, что сознание у пего прояснилось, сонливость почти прошла,
хотя тошнит непрестанно и тело все больше немеет, в особенности после второго
укола. Солдату кажется, что и молодая женщина, склонившаяся над ним и протянувшая
ему питье, глядит на него с возрастающим беспокойством.
Она опять толкует что-то об инвалиде, против которого, видимо, затаила злобу,
пожалуй, даже ненависть. В разговоре она уже не раз по любому поводу возвращалась к
этому человеку, который делил с нею кров, возвращалась, всегда что-то
недоговаривая, но в то же время, очевидно, испытывая потребность высказаться;
казалось, она и стыдилась его присутствия, и в то же время пыталась его оправдать,
что-то опровергнуть, что-то заставить позабыть. Молодая женщина никогда между тем
не уточняет, какие узы их связывают. Наряду с прочим ей пришлось выдержать борьбу,
чтобы помешать инвалиду открыть коробку от обуви: тот считал, что необходимо
ознакомиться с ее содержимым. Впрочем, и женщина задавалась вопросом, что с этой
коробкой делать...
— Ничего, как только встану, ею займусь,— сказал солдат.
— Но если это что-нибудь важное, а вы еще долго должны...
Ее внезапно охватывает настоящая тревога, тревога па-писана у нее на лице, и
солдат, полагая, что виновником этой тревоги является оп, пробует ее успокоить.
344
— Не так уж это важно,— говорит он.
— Но что с нею делать?
— Не знаю.
— Вы кого-то разыскивали, это чтобы ее передать?
— Не обязательно ему. Быть может, кому-то, кого он укажет.
— А для того это важно?
— Возможно. Я не уверен.
— Но что там в ней, в конце концов?
Она произнесла эти слова с такой горячностью, что, хотя разговор его утомляет, а
содержимое коробки оставляет довольно равнодушным, солдат чувствует себя обязанным
рассказать ей все, что знает сам, невзирая на опасения, как бы незначительность
эпизода не вызвала у нее разочарования.
— Думается, ничего особенного, я не посмотрел, наверно, письма, документы,
личные вещи.
— Вашего друга?
— Нет, товарища. Я почти не знал его.
— Он умер?
— Да, в госпитале, его ранило в живот.
— А для него это было важно?
— Вероятно. Он меня позвал, я пришел слишком поздно, на несколько минут
опоздал. Мне передали от него коробку. Потом кто-то вызвал его по телефону. Я
подошел. Должно быть, то был его отец, но не наверняка. Фамилии у них разные. Я
спросил, что делать с коробкой.
— И оп назначил вам встречу.
Да, человек, который позвонил, назначил встречу в своем, то есть в этом городе, и
поскольку армия была разгромлена и каждый делал, что ему вздумается, солдат решил
попробовать добраться до города. По семейным ли обстоятельствам или почему другому,
свидание не могло состояться в доме у этого человека и должно было произойти на
улице, так как все кафе, одно за другим, закрывались. Солдату попался военный
грузовик, который вез старое обмундирование и направлялся в сторону города. Но
часть пути ему пришлось проделать пешком.
Города он не знал. Он мог ошибиться местом. Условились встретиться па перекрестке
двух перпендикулярных улиц, у газового фонаря. Названия улиц он то ли недослышал,
то ли не удержал в памяти. Он положился на полученпые им топографические указания,
по мере сил следуя предписанному маршруту. Когда ему показалось,
345
что он пришел на место, он стал ждать. Перекресток похож был на тот, что ему
описали, однако название не соответствовало тому, что смутно звучало в его памяти.
Ждал он долго. Никто не пришел.
Он был, во всяком случае, уверен в дне. Что же до времени, то часов у него не было.
Возможно, он пришел слишком поздно. Он поискал вокруг. Подождал у другого, такого
же перекрестка. Блуждал по всему кварталу. Много раз — в тот день и в последующие —
возвращался на первоначальное место, поскольку по крайней мере был способен его
распознать. Как бы то ни было, он опоздал.
«Всего на несколько минут. Он только-только умер, никто и не заметил. Я задержался
в кафе с какими-то унтер-офицерами, незнакомыми. Я ведь не знал. Они сказали, чтоб
я подождал еще одного — их приятеля, новобранца. Он был под Рейхенфельсом».
— Кто это был под Рейхенфельсом? — спрашивает женщина.
Она ниже склоняется над постелью. Комната полнится густыми звуками ее голоса, когда
она настойчиво переспрашивает:
— Кто? В каком полку?
— Не знаю. Тот, другой. Был еще врач, у него кольцо с серым камнем, он
прислонился к стойке. И женщина, та, что с инвалидом, она принесла вина.
— О чем вы говорите?
Ее лицо совсем близко от его лица. Ее светлые глаза в черных подглазьях широко
раскрыты и оттого кажутся еще больше.
— Надо пойти за коробкой,— говорит он.— Она, верно, в казарме. Я забыл ее... на
кровати, под подушкой...
— Успокойтесь. Отдохните. Перестаньте разговаривать.
Она протягивает руку, чтобы поправить простыню. На
ладони и на пальцах, с внутренней стороны, чернота, как от краски или от ружейного
масла, которое не удалось смыть.
— Кто вы? — спрашивает солдат.— Как вас звать? Ваше имя?..
Но она уже не слушает. Она поправляет простыни и подушку, подтыкает одеяло.
— Рука у вас...— говорит солдат. Продолжать он не в силах.
— Успокойтесь,— говорит она,— Пустяки, Это когда
346
мы вас несли. Пятна на рукаве шинели были еще совсем свежие.
Они идут по рыхлой земле, испещренной рытвинами и поперечными бороздами, на каждом
шагу оступаясь во мраке, то тут, то там бледнеющем от беглых вспышек огня. Оба
побросали свои ранцы. Раненый оставил и винтовку, а он свою сохранил, хотя ремень
оторвался и приходится держать ее в руке, горизонтально, Наперевес, Мальчуган,
идущий впереди, в трех шагах от них, таким же манером несет зонтик. Раненый, все
более тяжелея, цепляется за шею солдата, и тому еще труднее двигаться. Вот он уже
совсем не в состоянии пошевелить ни рукой, ни даже головой. Он может только глядеть
прямо перед собой на ножку стола, с которого сняли -клеенку,— ножку, видимую сейчас
до самого верха: она заканчивается шаром, а на нем — куб или, скорее, почти
кубической формы параллелепипед с квадратным сечением по горизонтали, но слегка
вытянутый в высоту; его вертикальная поверхность украшена резьбой по дереву, внутри
прямоугольной рамки, повторяющей очертания самой грани,— нечто вроде стилизованного
цветка на прямой ножке, несущей два небольших симметричных полукружия, расходящихся
в разные стороны и образующих букву «V» с загнутыми книзу ответвлениями, которые
несколько короче центральной оси стебля, если считать... Он не может так долго
держать глаза опущенными и невольно поднимает их; взгляд его скользит вдоль красных
занавесей кверху и вскоре обнаруживает потолок, а на нем тоненькую, с волосок,
трещину, чуть-чуть извилистую, но четкую и в то же время загадочную,— надо бы
тщательно проследить ва ней дюйм за дюймом, за всеми ее изгибами, колебаниями,
непостоянством, резкими поворотами, отклонениями, повторами и отходами, однако на
это нужно время, совсем немного времени — несколько минут, секунд, но теперь уже
слишком поздно.
Наступил час моего третьего посещения, но делать укол было уже бесполезно. Раненый
солдат умер. Улицы полны вооруженными войсками, они шагают, чеканя маршевые песни,
те звучат приглушенно и скорее тоскливо, чем радостно. Часть военных едет в
открытых грузовиках — люди сидят, словно окаменев, и держат винтовку обеими руками,
зажав вертикально между колен, йх раз-
*47
местили спина к спине, двумя рядами, лицом к одной и другой сторопе улицы. Повсюду
циркулируют патрули, и с наступлением вечера ходить по городу без пропуска
запрещается. Надо было, одпако, сделать третий укол, и только настоящий врач мог
получить разрешение пройти к больному. Улицы, к счастью, освещены были плохо и уж
наверняка много хуже, чем в последние дни, когда электричество горело даже в
полдень. Но делать укол было уже поздно. Эти уколы только и могли, впрочем,
облегчить последние часы умирающему. И это все.
Тело оставалось в квартире мнимого инвалида, который сделает признание по всей
форме, рассказав все так, как было на самом деле: как они подобрали на улице
раненого, чье имя и то им неизвестно, потому что никаких документов при нем не
оказалось. Если же у инвалида возникнут опасения, что в таком случае вздумают
обследовать его ногу и обнаружат обман, хлопоты сможет взять на себя жена; ему же
останется только пе показываться никому на глаза, когда придут за телом: прятаться
от посетителей ему уже не впервой.
Жена, видимо, ему не доверяет. Во всяком случае, она не пожелала, чтобы он занялся
свертком в коричневой бумаге, который ему очень хотелось вскрыть. Оп полагал, что в
свертке какое-нибудь секретпое оружие или, по крайней мере, его проект. Теперь же
коробка в надежной сохранности — на потрескавшемся черном мраморе комода,— она
снова закрыта, вновь запакована и перевязана. Но возвращение ее из квартиры
инвалида при наличии патрулей было нелегким. К счастью, путь оказался не слишком
длинным.
Они были уже почти у цели, когда неподалеку, у них за спиной, раздался резкий
окрик: «Halte!» Коробка сама по себе, как можно было предполагать, не слишком их
компрометировала; конечно же, выдумки мнимого калеки на этот счет были нелепостью,
по женщина все же опасалась, что письма, о которых ей говорил солдат, могут
содержать какие-нибудь сведения отнюдь не частного характера, представляющие,
например, военный или политический интерес, поскольку сам солдат во многих случаях
проявлял, на ее взгляд, чрезмерную скрытность. Как бы то пи было, лучше уж не
попадаться, тем более что кии-жальный штык, положенный женщиной на прежнее место,
мог вызвать серьезные подозрения. Отсутствие пропуска еще более усложняло
положение. Громкий, власт-
348
ный окрик «Halte!» раздался во второй, затем в третий раз, и сразу же затрещали
короткие автоматные очереди. Но стрелявший был слишком далеко, чтобы целиться, да и
место было очень темное. Возможно даже, стреляли в воздух. За углом опасность
миновала. Двери дома, разумеется, приоткрыты не были. Но ключ бесшумно повернулся в
замке, петли поддались без скрежета, и створка снова тихо захлопнулась.
В письмах на первый взгляд не заключается ничего секретного и никоим образом ничего
существенного — ни в общем, ии в личном плане. Это обычные послания, какие
еженедельно шлет из деревни своему нареченному его невеста, сообщая местные новости
— о ферме или соседях — и твердя одни и те же канонические фразы, что она тоскует и
ждет. В коробке находятся, кроме того, не представляющие большой цеппости старые
золотые часы с облезшей, когда-то позолоченной медной цепочкой; на внутренней
стороне крышки, закрывающей циферблат, имя владельца не выгравировано; есть еще
кольцо с печаткой, с инициалами «А. М.» — медное или из лигатуры,— такое, какие
обычно мастерят себе рабочие на предприятии, и, наконец, кинжальный штык обычного
образца, в частности идентичный тому, какой молодая женщина сдала одновременно со
свертком и происхождение которого она не пожелала открыть, сказав лишь, что, после
новых приказов относительно сдачи оружия, боится держать его у себя, но что тем не
менее ей не хотелось с ним расставаться (несомненно, это мнимый инвалид принудил ее
от него избавиться). В свертке оказывается коробка от печенья, а не от обуви,— она
такого же размера, но жестяная.
Самое существенное из всего этого — конверты от писем: они адресованы солдату Анри
Мартену — указан и помер полевой почты. На обороте значатся имя и адрес посылавшей
эти письма девушки. Ей-то и надо будет их переотправить, когда снова начнет
работать почта, потому что отыскать отца погибшего уже невозможно, к тому же гот
носит фамилию не Мартен, а какую-то другую. Возможно, впрочем, этот человек и
предложил-то себя в качестве посредника лишь из соображений удобства: если даже ему
было известно содержимое коробки, он посчитал, вероятно, что по условиям
территориальным ее легче вручить ему, чем невесте. Правда, письма были
предназначены для возвращения ей, но кинжал, часы и кольцо по справедли-
349
вости принадлежали отцу. Легко себе представить, что и письма пе должны были
вернуться к отправительнице: в защиту этого тезиса можно было бы выстроить ряд
доводов.
Вместо того чтобы отправлять сверток по почте, несомненно предпочтительней было
передать его с обычными предосторожностями в собственные руки адресата. Девушка
еще, может быть, не была предупреждена о смерти жениха. Только отца, позвонившего в
госпиталь, поставили в известность об этом; однако, если он не настоящий отец, или
если он не отец юридически, либо так или иначе вообще не является отцом солдата, он
вовсе не обязан поддерживать отношения с его девушкой и может даже не знать о ее
существовании; поэтому нельзя предположить, что он ей напишет, даже если почта
начнет работать.
Женщина, которая ухаживала за раненым солдатом, так ничего и не узнала об его
умершем товарище. Ране-пый под конец много разговаривал, но уже позабыл недавние
события; впрочем, по большей части он вообще бредил. Женщина утверждает, что он и
до ранения был уже болен: его лихорадило, и порой он вел себя как невменяемый. Ее
сын, десятилетний мальчуган с задумчивым лицом, и раньше встречал его на улице — и,
возможно, не раз, если, конечно, в каждом из этих случаев мы имеем дело с одним и
тем же мальчуганом, как это, вероятно, и было, невзирая на незначительные
расхождения в приметах. Мальчик играет тут первостепенную роль, потому что из-за
него, по его неосторожности, были развязаны действия оккупантов с мотоциклом, но не
все его поступки являются в равной мере определяющими. Зато инвалид практически не
играет никакой роли. Его присутствие утром на улице Буве, в казарме, превращенной в
госпиталь или в приемный пункт, не должно удивлять, если учесть легкость, с какой
он передвигался, когда никто не наблюдал за его походкой. К тому же солдат, видимо,
не очень-то обращал внимание на его слова.
Что касается хозяина кафе, он то ли загадка, то ли пустое место. Он не произносит
ни единого слова, не делает ни единого жеста; этот лысый толстяк с равным успехом
может быть шпионом или полицейским агентом, определить, какого рода размышления им
владеют, невозможно. Третьестепенные лица, так оживленно дискутирующие в его
присутствии, во всяком случае не сообщат ему ничего такого, о чем бы он мог
доложить своему вероятному начальству: это всего лишь трактирные стратеги, которые
350
па свой лад перекраивают Историю, критикуют министров, поправляют генералов и
придумывают вымышленные ситуации, которые позволили бы, наряду с другими, выиграть
битву при Рейхенфельсе. Солдат, сидящий в глубине направо, за предпоследним
столиком, располагает, конечно, более реалистическим взглядом на сражения, а потому
ему нечего сказать на этот счет; присев меж двух товарищей, чьи лица почти не
видны, так как один сидит боком, а второй на три четверти повернулся спиной,
солдат, должно быть, попросту ждет, когда ему подадут выпивку. Всеобщее и,
безусловно, неоправданное презрение, какое преследовало его полк со времени
разгрома, объясняет, почему он тогда, в первый раз, сменил обмундирование;
предпринимая свое путешествие, он предпочел менее приметные армейские знаки.
Таким образом он может, не привлекая внимания и смешавшись с толпой, спокойно
попивать в этом кафе вино, которое ему подносит подавальщица. Тем временем он
глядит перед собой сквозь широкое стекло витрины. Снегопад прекратился. За день
постепенно потеплело. На тротуарах еще бело, но мостовые, где часами непрестанно
носятся грузовики, снова почернели вдоль всей медианы, и груды подтаявшего снега
отброшены к канавам по обе стороны проезжей части; всякий раз, что солдат
пересекает поперечную улицу, он по самые обмотки погружается в податливый, губчатый
снег, а мелкий дождик уже роняет в вечернем воздухе редкие капли вперемешку с
влажными хлопьями, которые, еще не достигнув земли, превращаются в воду.
Солдат зашел на минутку отдохнуть в переполненное людьми кафе и не решается оттуда
выйти. Стоя по другую сторону огромного стекла с тремя выпуклыми бильярдными
шарами, позади сборчатой занавески, он созерцает дождь. Глядит на дождь и ребенок,
сидящий на полу у самого окна, и это позволяет ему видеть, что делается за тонкой
занавеской. Дождь льет с удвоенной силой. Зонтик-трость в черном шелковом чехле
прислонен к вешалке, рядом с пальто на меху. Однако на картине столько всякой
одежды понавешено одна поверх другой, что среди этого нагромождения трудно что бы
то ни было разобрать. Как раз под картиной находится комод с тремя ящиками — их
блистающая лицевая сторона украшена двумя большими потускневшими медными шишками. В
нижнем ящике — бисквитная коробка, завернутая в коричневую
351
бумагу. В остальном — комната без перемен: зола в камине, разрозненные листы бумаги
на столе, переполненная окурками стеклянная пепельница, горящая настольная лампа,
тяжелые, наглухо закрытые красные шторы.
За стеной — дождь. За стеной кто-то шагает под дождем, пригнув голову, загородив
ладонью глаза и все же глядя прямо перед собой, глядя на мокрый асфальт, несколько
метров мокрого асфальта. Сюда не проникает ни дождь, ни снег, ни ветер; и легкая
пыль, замутившая сиянье горизонтальных поверхностей — полированного стола, лощеного
паркета, мраморного камина, потрескавшийся мрамор комода,— эта пыль возникает в
самой же комнате, возможно, от щелей в полу, от кровати, от золы в камине или от
бархатных штор, вертикальные складки которых тянутся от пола до потолка, где
мушиная тень, напоминающая нить накаливания электрической лампочки, скрытой
усеченным конусом абажура, проползает сейчас вблизи тоненькой темной черточки,
различимой весьма условно, потому что она находится вне светового круга; в
полумраке, на расстоянии четырех-пяти метров от пола, виден сначала короткий прямой
сегмент длиною менее сантиметра, за ним — мелкие, зубчатые извилины... но все
расплывается в глазах, когда хочешь уточнить очертания этих извилин, так же как и
очертания мельчайшего рисунка, украсившего обои па стенах, или нечеткие границы
лоснящихся дорожек, проложенных в пыли войлочными тапочками, или, за дверью
комнаты, очертания темной передней, где к вешалке искоса прислонился зонтик-трость,
или — за входной дверью — вереницы длинных коридоров, спиральной лестницы, подъезда
с каменной приступкой и города в целом — у меня за спиной.
ДОРОГИ Ф/АНДРИИ
РОМАН
ПЕРЕВОД
LA ROUTE LES FLANDRES
Клод Симон родился в 1913 г. на Мадагаскаре. Учился в Париже, в Оксфорде,
Кембридже. В составе кавалерии принимал участие в военных действиях против
фашистской Германии. Попал в плен, из плена бежал. Занимался виноградарством на юге
Франции, потом переселился в Париж. Первый свой роман («Плут») начал писать
накануне войны (опубликован в 1945 г.). Война вошла в творчество К. Симона как
постоянный мотив, как важнейший элемент его мировосприятия, благодаря чему лучший
его роман «Дороги Фландрии» (1960) с полным правом может быть назван антивоенным.
Однако романы «Гулливер» (1952), «Священная весна» (1954), «Ветер» (1957), «Трава»
(1958), «Дворец» (1962), «История» (1967), «Фарсальская битва» (1969), «Тела-
проводники» (1971), «Триптих» (1973), «Урок вещей» (1975), «Геор-гики» (1981)
наглядно демонстрируют свойственную «новому роману» натуралистическую тенденцию,
ко-торая разрушает объективно существующую в обществе систему детерминант.
Социальная проблематика, все значение которой Симон как будто познал на своем
жизненном опыте, отходит на второй план, уступая место тому, что писатель считает
вечным, неизменным в жизни человеческого индивида в мире вещей, дающих ему
поучительные уроки. Сам писатель далек от других «новых романистов», он не
претендует на роль теоретика и глашатая истины: К. Симон принципиально эмпиричен.
Эмпиричность формирует метод писателя, чьи романы представляют собой, как правило,
натуралистическую копию элементарных состояний, фактов, событий, которые вступают в
сложные комбинации, причудливо складываются по внешним ассоциациям, повинуясь даже
игре слов, способной придать роману смысл, поскольку — по убеждению Симона —
писатель «говорит языком действительности, а не объясняет ее»%
9
Я думал, что учусь жить, а я учился умирать.
Леонардо да Винчи
руке у него было письмо, ои поднял глаза взглянул на меня потом снова на письмо
потом снова на меня, за спиной его проплывали рыжие красно-бурые охряные пятпа
лошадей которых вели на водопой, грязь была такой непролазной что мы увязали в ней
по самую щиколотку но той ночью я помню вдруг подморозило и Вак вошел в спальню
неся кофе и сказал Собаки слопали грязь, никогда прежде пе слышал я подобного
выражения, мне сразу представились эти собаки, какие-то мифические адские существа
их пасти с розоватой каемкой холодные белые волчьи клыки жующие в ночном мраке
черную грязь, быть может просто некое воспомипание, прожорливые собаки дочиста
вылизывающие площадь: сейчас она была серой и мы как всегда опаздывали на утреннюю
поверку, ноги на бегу то и дело подворачивались попадая в глубокие следы от копыт
затвердевшие точно камень, того и гляди вывихнешь лодыжку, помолчав немного оп
сказал Я получил письмо от вашей матушки. Значит она все-таки написала несмотря на
мой запрет, я почувствовал что краснею, он оборвал себя пытаясь изобразить на лице
некое подобие улыбки что явно было ему не под силу, не то чтобы не под силу быть
любезным (он наверняка стремился к этому) но преодолеть отчужденность: лишь слегка
растянулись жесткие тронутые сединой усики, кожа на лице у него была обветренная
как у тех кто много времени проводит на свежем воздухе и матовая, что-то в нем было
от араба, явно семя какого-нибудь мавра которого Карл Мартел по забывчивости не
прикончил, и возможно он притязал на то что ведет свой род по прямой линии не
только от своей ближайшей родственницы Девы Марии как все тарнские дворянчики
ж
356
его соседи но еще и от Магомета в придачу, он сказал Мы с вами кажется в некотором
родстве, но полагаю в применении ко мне «родственник» означало для него скорее
некое насекомое жалкую мошку, и я снова почувствовал что краснею от злости как и
тогда когда заметил в его руке это письмо, узнал конверт. Я ничего не ответил, он
конечно видел что я взбешен, смотрел я не на него а па письмо, мне так хотелось
отнять его, разорвать в клочки, он чуть шевельнул рукой державшей сложенный листок,
уголки захлопали в холодном воздухе точно крылья, ни враждебности, ни высокомерия в
его черных глазах, даже какая-то сердечность что ли но и отчужденность тоже; а
может оп просто был так же раздражен как и я, угадывая мое раздражение в то время
как мы продолжали разыгрывать маленькую светскую комедию и торчали здесь среди
замерзшей грязи, делая эту уступку традициям приличиям оба ради женщины которая на
мою беду доводилась мне матерью, и в конце концов он видно понял, потому что усики
его снова шевельнулись и он проговорил Не сердитесь на нее Вполне естественно что
мать Она поступила правильно Со своей стороны я буду весьма рад иметь возможность
если у вас когда-либо появится в том нужда, а я Благодарю вас господин капитан, а
он Если возникнут какие-либо трудности без стеснения обращайтесь прямо ко мне, а я
Хорошо господин капитан, он еще раз помахал письмом, в этот ранний утренний час
было верно минус семь или минус десять градусов, но казалось он даже не замечал
этого. Лошади возвращались с водопоя рысью, попарно, солдаты чертыхаясь бежали
рядом с ними забавы ради висли на поводьях, копыта звонко цокали по замерзшей
грязи, а он все твердил Если у вас возникнут трудности буду счастлив если смогу,
затем сложив письмо сунул его в карман опять удостоив меня тем что по его понятиям
должно было изображать улыбку просто еще раз растянулись тронутые сединой усики
потом он повернулся и ушел. А я после этого разговора стал проявлять еще меньше
служебного рвения чем прежде, упростив всю процедуру до крайности, спешившись
ослаблял подпруги, раза два оттянув морду лошади от воды отстегивал удила и одпим
махом снимал поводья, всякий раз почему-то окуная их в колоду из которой пила
лошадь, затем она сама возвращалась в конюшню, а я шел рядом готовый в любую минуту
схватить ее за ухо, сверх чего оставалось лишь пройтись тряпкой по металлу да время
от времени
357
протирать его наждачным лоскутком когда проступит ржавчина, но все это дела не
меняло поскольку репутация моя на сей счет уже давно установилась и никто мне
больше не докучал впрочем полагаю ему лнчно на все это было здорово наплевать так
что он делая смотр нашему взводу без особых усилий притворялся что вовсе меня не
замечает отдавая тем самым дань вежливости моей матери, конечно при том условии что
для него наведение глянца не являлось также неотъемлемой частью всех этих
незаменимых и бесполезных процедур, всех этих рефлексов и традиций атавистически
сохраняемых в Сомюре и закрепляемых военной службой, хотя если верить тому что
рассказывали она (то есть женщина то есть девочка на которой он женился вернее
которая его на себе женила) взяла на себя труд всего за какие-нибудь четыре года
замужества заставить его забыть или во всяком случае сдать в архив известное число
традиционных традиций, нравилось ему то или нет, но даже признавая что он отказался
от известного числа этих традиций (уступая быть может не столько любви сколько силе
или если угодно осиленный любовью) существуют вещи о которых даже при полнейшем от
них отречении отказе мы не в состоянии забыть как бы нам того ни хотелось и вещи
эти по большей часть самые нелепые самые бессмысленные именно те которых не
одолеешь ни разумом ни приказом, ну вроде того рефлекса повинуясь которому он
обнажил саблю когда по нему в упор из-за изгороди дали автоматную очередь: с минуту
я видел его с подъятой дланью потрясающего своим смехотворным бесполезным оружием
жестом унаследованным от конных статуй доставшимся ему возможно от целого поколения
рубак, свет падал ему в лицо и от этого темный силуэт его казался обесцвеченным
словно и конь и он сам отлиты были целиком из одного куска из одного материала, из
серого металла, солнце сверкнуло на обнаженном клинке потом всё вместе — человек
конь и сабля — разом рухнуло набок точно упал оловянный солдатик у которого начали
плавиться ноги и он стал клониться набок сперва медленно потом все быстрее и
быстрее, пока по-прежнему крепко сжимая саблю в вытянутой руке не исчез совсем за
остовом сгоревшего опрокинувшегося грузовика, непристойного точно скотина точно
сука на сносях волочащая по земле свое брюхо, продырявленные шины медленно опадали
распространяя запах жженой резины тошнотворный запах войны повисший в воздухе
358
лучезарного весеннего дня, плававший или вернее застоявшийся запах вязкий и
прозрачный но вроде бы уловимый для глаза как зацветшая вода где купались дома из
красного кирпича изгороди фруктовые сады; ослепительный солнечный блик, словно
вобрав втянув в себя в мгновение ока весь свет и славу, задержался на миг вернее
сгустился на девственной стали... Только вот девственницей она давным-давно уже не
была, но думаю не этого он от нее требовал не на это уповал в тот день когда решил
жениться, с этой самой минуты конечно же великолепно понимая что его ждет, заранее
принимая взвалив на себя переварив заранее если можно так выразиться эти Страсти, с
той разницей что местом средоточием их алтарем был отнюдь не Лысый холм, но это
сладостное и нежное и умопомрачительное и дремучее как чаща таинственное лоно...
Нда: распятый, агонизирующий на алтаре в омуте в логове... Но в конечном-то счете
разве и там тоже не было потаскухи, право можно подумать что потаскухи просто
необходимы в такого рода историях, женщины в слезах ломающие пальцы и кающиеся
потаскухи, можно также предположить что он никогда и не требовал от нее покаяния
или хотя бы ждал надеялся что она к этому придет станет другой не такой какой была
судя по ее репутации и следовательно не ждал от этой женитьбы чего-то иного а не
того к чему их брак логически должен был привести, возможно даже предвидя или во
всяком случае предусмотрев все вплоть до завершающего звена вернее итога, этого
самоубийства которое война позволила ему совершить весьма элегантно то есть не
мелодраматично в расчете на сенсацию не пошло как служанки бросающиеся на рельсы в
метро или как банкиры забрызгивающие кровью стены своего кабинета до самого потолка
но маскируясь под несчастный случай если только можно считать несчастным случаем
гибель на войне, так сказать корректно и своевременно воспользовавшись
представившейся оказией чтобы покончить с тем чему и начинаться-то незачем было
четыре года назад...
Я угадал это, угадал что с некоторых пор в нем жило одно желание одна надежда дать
себя убить и угадал это не только в ту минуту когда увидел его там застывшего
наподобие изваяния на своем скакуне которого он остановил словно напоказ прямо
посреди дороги даже не дав себе труда пусть хоть для вида притвориться что
направляет его к яблоне, а болван младший лейтенантишка по-
359
лагая что обязан поступать так же как он, без сомнения вообразив что это и есть
высший шик пес plus ultra 1 элегантности и хорошего тона для кавалерийского офицера
ни на минуту не заподозрил истинных причин подвигнувших капитана на подобный шаг
другими словами не заподозрил того что здесь речь шла вовсе пе о чести и не о
храбрости и уж никак не об элегантности но о проблеме чисто личного порядка которую
решал оп даже не с нею а с самим собой. Я мог бы объяснить это младшему лейтенанту,
а Иглезиа мог бы объяснить ему все это еще лучше меня. Но к чему. Думаю младший
лейтенант был убежден что совершает поступок воистину сенсационный да и зачем бы мы
стали выводить его из заблуждения раз таким путем оп обретал в смерти некое
удовлетворение и даже блаженство, поскольку умирал рядом с одним из де Рей-шаков и
точно такой же как тот смертью, так пускай себе верит в это пускай остается идиотом
не задаваясь вопросом что же скрывалось за этим чуточку раздраженным чуточку
нетерпеливым лицом когда делая уступку нам вернее уставу военно-полевой службы и
диспозиции предписывавших на случай пулеметного обстрела войск с бреющего полета
ждать пока самолеты удалятся и мы вылезем из окопов, он ждал слегка повернувшись в
седле с некоторым нетерпением но сдерживая себя демонстрируя нам свое по-прежнему
непроницаемое лицо не выражавшее ничего кроме простого ожидания когда же наконец мы
снова сядем на лошадей а самолеты тем временем превращались в крохотные точки
исчезали вдали на горизонте, потом едва мы успевали вскочить в седло ои трогал
лошадь еле заметно сжимая ей бока шенкелями, казалось будто лошадь сама
возобновляла свой ход и само собой как всегда шагом не слишком торопливо но и не
медленно но не лениво: просто-напросто шагом. Полагаю он не пустил бы ее рысью за
все блага мира, не пришпорил бы не посторонился бы перед пушечным ядром и тут
кстати будет заметить что существуют такие выражения как это попадающие в самую
точку: шагом значит, и это тоже должно было стать частью того плана на который он
решился и осуществлять который начал еще четыре года назад, и который сейчас был
близок к завершению то есть он старался довести его до конца невозмутимо,
бесстрастно (так же как, по словам Иглезиа, он вел себя всегда делая
1 В высшей степени, донельзя (лат.)щ
360
вид будто ничего пе замечает, никогда не выказывая пи малейшего чувства ревности
или гнева) продвигаясь по этой дороге которая была настоящей западней, другими
словами где подстерегала его не просто война по хладнокровное убийство, разбойничье
гнездо где вы и охнуть пе успеете как вас прикончат, где за изгородью илп
кустарником спокойненько точно в ярмарочном тире засели молодчики не спеша
целящиеся в вас, словом подлинная бойня и одно время я даже задавался вопросом не
рассчитывал ли оп что Иглезиа тоже оставит здесь свою шкуру, не желал ли он сводя
счеты с самим собой утолить также жажду долгожданной мести, но взвесив все
хорошенько я эту мысль отбросил я думаю в тот самый миг все стало ему безразлично
если даже допустить что он и был когда-нибудь зол на Иглезиа ведь в конце-то концов
он оставил его у себя на службе думаю в ту минуту оп столько же вернее столь же
мало беспокоился о нем как и обо мне или об этом болване младшем лейтенанте, на-
верпяка не чувствуя себя больше связаппым долгом пе только в отношении лично нас но
и в отношении собственной своей роли своих функций командира, полагая вероятно что
все что он может теперь сделать или не сделать в этом плане пе имеет уже ни
малейшей важности в том положении до которого мы дошли: следовательно он избавился
освободился так сказать отстранился от своих воинских обязанностей с той самой
минуты когда численный состав его эскадрона свелся к нам четвертым (тогда как его
эскадрон в свою очередь в конечном счете был почти все что осталось от целого полка
не считая может быть нескольких затерявшихся где-то на равнине спешившихся
кавалеристов) что однако не мешало ему по-прежнему прямо и твердо держаться в седле
столь же прямо и твердо как если бы ои дефилировал на параде Четырнадцатого июля а
пе в самый разгар отступления вернее разгрома вернее катастрофы среди этого
всеобщего распада словно не одна лишь армия но и весь мир целиком и не только в его
осязаемой реальности но даже в самом представлении какое способен составить о нем
разум (хотя возможно это тоже было следствием недосыпания, того обстоятельства что
в течение десяти дней мы практически не спали, только дремали в седле) весь мир
распадался сбрасывал ШКУРУ разваливался на куски уносился течением обращался в
прах, два или три раза кто-то крикнул ему чтобы он остановился (не знаю точно
сколько раз крикнули и
361
кто кричал: верно, раненые, или солдаты прятавшиеся по домам или во рву, или может
кто-то из гражданского населения из тех кто с непостижимым упорством брел
неизвестно куда волоча лопнувший чемодан или толкая перед собой детскую коляску с
наваленными на нее бесформенными тюками (даже не тюками: а просто какими-то вещами,
возможно и бесполезными: конечно единственно для того чтобы не уходить с пустыми
руками, чтобы сохранить ощущение иллюзию будто что-то уносишь с собой, чем-то
владеешь лишь бы цепляться хоть за это — за распоротую подушку за зонтик или
цветную фотографию дедушки с бабушкой — за это шаткое понятие ценности, сокровища)
как будто одно только и было важно шагать, все равно в каком направлении: но я и в
самом деле никого из них не видел, единственное что я мог видеть, еще способен был
опознать, словно некую мишень, ориентир, это худую костлявую твердую и очень прямую
спину над седлом, и саржевый мундир чуть сильнее блестевший на симметричных
выпуклостях лопаток, и уже давным-давно я перестал интересоваться — не мог больше
интересоваться — тем что происходило на обочине дороги); так вот, какие-то
нереальные хнычущие голоса что-то кричавшие (предупреждение, предостережение)
доходили до меня сквозь слепящий непроницаемый свет этого весеннего дня (словно бы
и самый свет был грязным, словно бы в незримом воздухе плавали во взвешенном
состоянии, как в нечистой мутной воде, эти пыльные и смердящие отходы войны), и он
(всякий раз когда он поворачивал голову мне было видно как под каской возникал тут
же исчезавший профиль краешек лица, сухой и жесткий рисунок лба, изгиб брови, и под
ней глазная впадина а дальше твердая сухая непреклонная линия прямо идущая от скулы
к подбородку) он глядел на них, его ничего не выражавший безучастный взгляд на
секунду задержался (но явно не видя) на ком-то (может быть не на ком-то
определенном, а лишь там, на той точке откуда долетал этот голос) кто его окликнул,
и не было даже в этом взгляде сурового и негодующего осуждение, даже не нахмурились
брови — просто отсутствие всякого выражения, интереса — самое большее может быть
удивление: некоторая озадаченность, нетерпение, как если бы кто-то неожиданно
подошел к нему в гостиной не будучи представлен или же прервал его на полуслове
каким-нибудь неуместным замечанием (ну скажем обратил бы его внимание на то что с
сигары которую он курит
362
вот-вот осыплется пепел или что кофе который он собирается пить почти совсем остыл)
и он возможно старается, принуждает себя, проявляет готовность быть терпеливым
любезным дабы понять причину или пользу этого замечания или надеется что оно вдруг
будет каким-то образом связано с тем о чем оп говорил, потом отказавшись от попытки
что-либо попять примиряется с этим без малейшего недоумения и досады несомненно
думая что это неизбежно что всегда и везде при любых обстоятельствах — будь то в
гостиной или на войне — встречаются тупые невоспитанные люди, и подумав так — то
есть напомнив себе об этом — начисто забывает о том кто его перебил, вычеркивая его
из своих мыслей переставая видеть прежде даже чем отведет взгляд, переставая и в
самом деле смотреть туда где ничего не было, и вскинув голову возобновляет с этим
младшим лейтенаптишкой неторопливую беседу какую ведут обычно два всадника едущие
рядом (будь то в манеже или на ипподроме) и где речь конечно идет о лошадях, о
товарищах по выпуску, об охоте или о скачках. И я как бы снова переношусь туда,
вижу все это: тенистую зелень и женщин в платьях из набивного шелка, которые стоят
или сидят в железных садовых креслах, и мужчин в светлых бриджах и сапогах которые,
слегка склоняясь над дамами, разговаривают, похлопывая стеком по сапогам, яркие
пятна (красно-бурые, сиреневые, розовые, желтые) лошадиных попон, женских платьев и
рыжей кожи сапог выступающие на пышной зелени листвы, и ту особую разновидность
женщин к которой не просто принадлежат но которую составляют исключив всех прочих
дочери полковников или дворянских фамилий: чуточку бесцветные, невыразительные и
хрупкие, с длинными и нежными обнаженными руками в коротких белых митенках как у
пансионерок и в платьях тоже как у пансионерок, долгое время (даже после
замужества, даже после рождения второго или третьего ребенка) сохраняющие этот
девический вид (до тех пор пока — годам этак к тридцати пяти — не произойдет в них
резкая перемена и в облике их появится что-то мужеподобное, лошадиное (нет, отнюдь
не кобылье: а именно лошадиное) теперь они курят и беседуют об охоте или скачках
как мужчины), и снова слышу легкое жужжание голосов повисшее в воздухе под тяжелой
листвой каштанов, голосов (женских или мужских) которые умеют всегда сохранять
благопристойность, оставаясь ровными и совершенно ничего пе вы-
363
ражающими употребляют ли они самые грубые даже солдатские выражения, обсуждают ли
случки (животных или людей), денежные вопросы или конфирмацию они неизменно звучат
все с той же неуместной галантностью и любезной непринужденностью, и жужжание этих
голосов сливается с непрекращающимся глухим скрипом сапог и перестуком высоких
каблучков по гравию, застаиваясь в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги, и я
опять вижу неосязаемое облачко золотистой пыльцы повисшее среди зелени этого
мирного вечера напоенного ароматом цветов, навоза, духов, и его...
«Нда!..» пробурчал Блюм (теперь мы лежали в темноте то есть громоздились
наслаивались подобно черепице друг на друга так что не могли рукой или ногой
пошевелить не наткнувшись вернее не спросив предварительного разрешения у чужой
руки или у чужой ноги, задыхаясь, обливаясь потом мы судорожно глотали воздух точно
рыбы выброшенные на песок, вагон в который уж раз остановился среди ночи, слышно
было только шумное дыхание легкие с отчаянными усилиями втягивали в себя густые
человеческие испарения тошнотворную вонь исходившую от всей этой груды тел словно
мы были уже мертвее мертвецов раз способны были осознать это словно бы темнота
потемки... Я чувствовал их угадывал их кишепие и то как медленно наползают они друг
на друга точно рептилии среди удушливого запаха испражнений и пота, и старался
припомнить сколько времени мы находимся в этом поезде один день и одну ночь или
одну ночь один день и еще одну ночь но это не имело никакого смысла поскольку время
не существует Который сейчас час спросил я можешь разглядеть? Черт побери отозвался
он что это тебе даст что это изменит вот когда рассветет и тебе непременно
захочется увидеть наши мерзкие рожи трусов и побежденных эахочется увидеть мою
мерзкую еврейскую рожу они Ну сказал я ладно ладно), Блюм повторил: «Нда. И тогда
прямо в упор по нему дали эту автоматную очередь. Может разумнее было бы с его
стороны
— Да нет: послушай... Разумнее! Черт тебя подери да что такое разум...
Послушай: однажды он уплатил за нашу выпивку. То есть, думаю, не так ради пас
самих: из-за лошадей. То есть решил что их должно быть мучает жажда ну и тогда в
свой черед...» А Блюм: «Уплатил за выпивку?», а я: «Да. Было такое... Послушай: все
вроде как на рекламной картинке одной из марок английского пива,
364
знаешь? Старинный постоялый двор, стены сложенные из темно-красного кирпича со
светлыми швами, забранные в мелкий переплет окна, выкрашенные белой краской рамы,
по двору с медным кувшинчиком в руке идет служанка и грум в желтых кожаных крагах с
язычками подобрав кудри поит лошадей и тут же группа кавалеристов в классической
позе: поясница изогнута, одна нога в сапоге выставлена вперед, согнутая рука с
зажатым в кулаке хлыстом упирается в бедро в то время как другая рука поднимая
кружку с золотистым пивом протягивает ее к окну второго этажа где можно заметить,
увидеть мелькнувшее за занавеской личико точно сошедшее с пастели... Да: с той лишь
разницей что всего этого и в помине не было вот только кирпичные стены, но и те
грязные, а двор скорее напоминал двор какой-нибудь фермы: задний двор трактира,
кабачка, с грудой пустых ящиков из-под лимонада и бродившими повсюду курами и
сохнувшим на веревке бельем, а вместо белого передничка с нагрудничком на
трактирщице было просторное полотпяное платье в мелкий цветочек какие обычно
продают на толкучке под открытым небом и шлепанцы на босу ногу и казалось она была
не так уж поражена нашим поведением, словно было делом самым обычным что, стоя
здесь в полном обмундировании, каждый из нас не спеша осушал бутылочку пива, он с
младшим лейтенантом как и подобает чуть в сторонке (я даже не знаю выпил ли он
пива, думаю что нет, просто пе представляю как бы это он стал пить прямо из
горлышка), в одной руке мы держали бутылку другая покоилась на крупе лошади которая
пила из колоды, и было это совсем рядом с той дорогой где через каждые десять
метров на обочине валялся труп мужчины (или женщины, или ребенка), или
опрокинувшийся грузовик, или сгоревшая машина, и когда ои расплачивался — потому
что расплачивался именно оп — мне видно было как рука его не спеша скользнула в
карман, под мягкую серо-зеленую ткапь элегантных бриджей, как на материи вздулись
два бугра от согнутых большого и указательного пальца которыми оп ухватил портмоне,
извлек его на свет божий и отсчитал монеты в ладонь трактирщице с той же
невозмутимостью как если бы он платил за оранжад или за какой-нибудь шикарный
напиток в баре на ипподроме Довилля или Виши...» И снова я как бы увидел все это:
четко вырисовываясь на фоне неповторимой, почти черной* деленц густых каштанов под
звон гонга выезжают жокеи готовя-
365
щиеся к заезду, обезьяноподобные, восседающие на изящных грациозных лошадях, в
солнечных пятнах проплывают друг за дружкой разноцветные жокейские камзолы, в таких
сочетаниях: Желтый камзол, перевязь и шапочка синие — на черно-зеленом фоне
каштанов — Черный камзол, синий Андреевский крест и шапочка белая — чер-но-зелепая
стена каштанов — Клетчатый сипе-розовый камзол, шапочка синяя — черно-зеленая стена
каштанов — Вишнево-синий полосатый камзол, шапочка небесно-голубая — черпо-зелепая
стена каштанов — Желтый камзол, желто-красные кольца рукавов, шапочка красная —
чернозеленая стена каштанов — Красный, простроченный серым, камзол, шапочка красная
— черно-зеленая стена каштанов — Голубой с черными рукавами камзол, шапочка и
полоска на рукавах красные — черно-зеленая стена каштанов — Гранатовый камзол с
гранатовой же шапочкой — черно-зеленая стена каштанов — Желтый камзол с зеленой
полосой на поясе и рукавах, шапочка красная — черно-зеленая стена каштанов — Синий
с красными рукавами камзол, полоска на рукавах и шапочка зеленые — черпо-зеленая
стена каштанов — Фиолетовый камзол с вишневым Лотарингским крестом, шапочка
фиолетовая — чернозеленая стена каштанов — Красный в синий горошек камзол, рукава и
шапочка красные — черно-зеленая стена каштанов — Каштановый с голубой полосой на
поясе камзол, шапочка черная... блестящие камзолы скользят на темно-зеленой стене
листвы, блестящие камзолы, танцующие солнечные пятпа, лошади с танцующими именами —
Карпаста, Миледи, Зейда, Нагаро, Романс, Примароза, Рисколи, Карпаччо, Вайлд-Риск,
Самарканд, Шишибю — молодые кобылки переступающие своими точеными ножками и сразу
же отдергивающие их точно обжегшись, танцуя, словно бы парящие, танцующие в
воздухе, не касаясь земли, гонг, звенящая медь, звенящая не переставая, и бесшумно
скользящие друг за дружкой переливающиеся разноцветные жокейские камзолы в этом
изысканном послеполуденном свете и не глядя на нее проезжает Иглезиа в розовом
камзоле за которым словно бы тянется благоухающий след аромат ее кожи, словно бы
она накинула ему на спину свое шелковое белье, еще теплое, еще хранящее запах ее
тела, и над ним желтый и печальный профиль хищной птицы, согнутые колени маленьких
ног высоко подняты, весь он как-то подобрался сидя на своей золотисто-рыжей
величаво ступавшей, роскошной кобыле,
366
с роскошными боками (и этот роскошный крутой круп, и ноги сотворенные не для того
чтобы плестись шагом а для того чтобы скакать галопом, и длинные задние поги,
которыми она перебирает с такой поразительной грацией, с такой высокомерной
небрежностью, и длинный более светлого тона хвост колышется, весь в солнечных
бликах), и вот последние камзолы теперь уже со спины (темносиний с красным
Андреевским крестом, коричневый в сипий горошек), исчезают за весами, за строением
с соло-меппой крышей, с ложнонормандскими балками, и нако-пец она (она которая тоже
головы не повернула, ничем не показала, что увидела его) сидевшая в тени листвы, в
этом железном садовом кресле, и может быть державшая в руке желтый или розовый
листок на котором написан последний курс (и на этот листок тоже не глядевшая), что-
то рассеянно говорившая (а может рассеянно слушавшая, или не слушавшая) одному из
этих странных персонажей, отставному полковнику или майору которых не увидишь
больше нигде кроме как в местах подобного сорта, в неизменных полосатых панталонах
и сером котелке (их наверняка убирают куда-то, вот так в полном параде, на всю
остальную неделю, и извлекают единственно по воскресеньям, наскоро стряхивают пыль,
разглаживают и выставляют здесь вместе с корзинами цветов на балконах и ступеньках
трибун, а сразу после окончания скачек снова аккуратно убирают в чемодан), наконец
Коринна с равнодушным видом поднимается и неторопливо — а ее вызывающее красное
воздушное платье колышется, бьется по ногам — направляется к трибунам...
Но сейчас не было ни трибун, ни элегантной публики которая смотрела бы на нас: по-
прежнему я видел впереди все те же темные, несмываемые силуэты (донкихотские
фигуры, обглоданные светом который обгрызал, разъедал их контуры) на фоне слепящего
солнца, их черные тени то скользили рядом по дороге как верные двойники, то
укорачивались, как бы стягиваясь даже сталкиваясь, карликовые и бесформенные, то
удлинялись, голенастые и растянутые, симметрично повторяя в ракурсе движения св§их
вертикальных двойников точно связанные с ними невидимыми нитями: четыре точки —
четыре копыта — попеременно отрываются и вновь сливаются вместе (совсем как водяная
капля когда она отрывается от крыши вернее разрывается надвое, одпа половинка
остается висеть па копчике водосточной трубы (этот феномен можно
367
разложить следующим образом: капля под тяжестью собственного веса вытягивается
принимая грушевидную форму, деформируется, потом как бы препоясывается посередине,
нижняя ее часть — более увесистая — отделяясь, падает, а верхняя часть как бы
подтягивается, вбирается внутрь, как бы всасывается изнутри сразу же после разрыва,
потом опа сразу же вновь разбухает едва поступает новая порция воды, так что через
мгновение кажется что, на том же самом месте, висит все та же капля, и снова
пухнет, п так без конца, словно стеклянный шарик пляшет на конце резинки вверх
вниз), и, вот так же, нога лошади и тень этой ноги разделяются и снова сливаются,
без конца соединяясь друг с другом, когда копыто поднимается тень подобно щупальцу
осьминога втягивается внутрь, нога описывает естественную кривую, дугу, а под ней и
чуть позади черное пятно лишь немножко отступает, сжимаясь, и снова возвращается,
прилипает к копыту — и оттого что солнечные лучи падают косо, скорость с которой
тень вновь так сказать попадает в цель все возрастает, медленно беря разгон она в
конце летит подобно стреле, устремляясь к точке касания, соединения) точно в силу
явления осмоса, четырехкратное двойное движение, четыре копыта и четыре
сталкивающиеся тепи разъединяются и снова соединяются в некоем недвижном колебании
взад-вперед, в равномерном топтапии на месте, а под ними тянутся пыльные обочины,
замощенные или заросшие травой, словно бы чернильная клякса со множеством подтеков
расплывается и снова стягивается, скользят не оставляя Следа на грудах мусора,
трупах, на этой вот дорожке из нечистот, шлейфе отбросов которые оставляет в своем
фарватере война, и должно быть там-то я и увидел это в первый раз, чуть впереди или
позади того места где мы остановились чтобы напиться, и вдруг обнаружили это,
уперлись взглядом пробившимся сквозь полудрему, сквозь эту коричневую тину в
которой я так сказать увяз, заметили возможно еще и потому что вынуждены были
сделать крюк чтобы не наткнуться на то что мы скорее угадывали чем видели: то есть
(как и все что словно вехи громоздилось на обочинах дороги: грузовики, автомашины,
чемоданы, трупы) нечто непристойное, нереальное, некий гибрид, поскольку то, что
когда-то было лошадью (то есть fco что ты знал, что мог признать, определить как
бывшее $согда-то лошадью) ныне уже превратилось в бесформенную груду конечностей,
копыт, шкуры и слипшейся шер-
368
сти, на три четверти покрытых слоем грязи — Жорж спросил себя по сути даже не
спрашивая, а попросту констатируя с тем безмятежным или скорее притупившимся
удивлением, иссякшим и даже почти полностью атрофировавшимся за эти десять дней за
время которых он постепенпо совсем разучился удивляться, раз и навсегда отказавшись
от этой тяги вечно искать причину или логическое объяснение тому что видишь или
тому что с вами происходит: так вот не спрашивая себя как это произошло, а попросту
констатируя что хотя дождя давпо уже не было — во всяком случае на его памяти —
лошадь вернее то что некогда являлось лошадью была почти целиком — точно ее окупу-
ли в чашку кофе с молоком, а потом вытащили — покрыта слоем жидкой серо-бежевой
грязи, видимо уже наполовину впитавшейся в землю, словно бы земля исподволь тайком
снова завладевала тем что вышло из нее, существовало лишь благодаря ее соизволению
и ее посредничеству (то есть благодаря траве и овсу которыми кормилась лошадь) и
чему предназначено было в нее вернуться, снова раствориться в ней, и она покрывала
лошадь, обволакивала ее (вроде тех рептилий которые прежде чем заглотать добычу
смазывают ее слюной или желудочным соком) этой жидкой грязью которую секретировала
и которая казалась уже некой печатью, отличительным знаком удостоверявшим ее
принадлежность, до тех пор пока недра земли не поглотят ее медленно и бесповоротно
наверняка с неким всасывающим звуком: однако (хотя и казалось что, подобно тем
окаменелостям животного и растительного мира которые вернулись в царство минералов,
она лежала здесь испокон века, сложив передние ноги наподобие передних лапок
богомола как зародыш во чреве матери в коленопреклоненной молитвенпой позе, вытянув
не-гнущуюся шею, откинув негпущуюся голову с отвисшей нижней челюстью позволявшей
видеть фиолетовое пятно нёба) убили ее совсем недавно — может быть во время
последнего воздушного налета? — потому что кровь была еще свежей: ярко-красное
запекшееся пятно, блестевшее точно лакированное, широко растеклось по вернее за
коркой грязи и слипшейся шерсти словно кровь эта вытекала не из животного, не из
обыкновенной убитой скотины, а из неискупленной раны нанесенной кощунственной рукой
человека глинистому боку земли (подобно тому как, в легендах, вода или вино бьют
ключом из скалы или горы кУДа ударила палка); Жорж разглядывал ее, машинально
369
заставляя своего скакуна объезжать ее описывая широкий полукруг (конь послушно
подчинялся не шарахаясь не ускоряя шага не вынуждая всадника укрощать его натягивая
поводья), Жорж думал о том беспокойстве, своего рода мистическом ужасе который
овладевал лошадьми всякий раз когда, отправляясь на учения, случалось проезжать
мимо тянувшейся в конце скакового круга стены живодерни, и вспоминая ржание,
звяканье удил, ругань наездников цеплявшихся за лошадиный круп, оп думал: «Ведь там
был только запах. А теперь вот даже вид своего мертвого сородича пе производит на
них впечатления, и наверняка они даже прошли бы по ней, единственно ради того чтобы
сделать на три шага меньше», и еще подумал: «Да впрочем и я тоже...» И так она
медленно поворачивалась перед ним вокруг своей оси, словно помещена была на
вращающуюся платформу как при киносъемках (сначала на переднем плане, голова
откинута назад, выступает нижняя часть морды, застывшая, с негнущейся шеей, потом
незаметно вперед выдвигаются сложенные передние ноги, закрывая голову, потом на
переднем плане уже бок, рана, потом вытянутые задние иоги, прижатые одна к другой,
словно стреноженные, и тогда снова возникает голова, там позади, вырисовываясь в
удаляющейся перспективе, очертания беспрестанно меняются, то есть происходит
разрушение и одновременно пересоздание линий и объемов, по мере того как
перемещается угол зрения (одни выпуклости постепенно опадают, тогда как другие как
бы взбухают, выступают резче, потом в свою очередь опадают и исчезают), в то же
время казалось все движется вокруг некоего созвездия — вначале он видел только
какие-то неопределенные пятна — созвездия из самых разнообразных предметов (и также
в зависимости от угла зрения расстояния между ними то сокращались то увеличивались)
расшвырянных в беспорядке вокруг лошади (несомненно вещи нагруженные на повозку
которую она тащила но самой повозки нигде не было видно: быть может сами люди
впряглись в нее чтобы двигаться дальше?), Жорж спрашивал себя как могла война
раскидать (потом ои увидел чемодан с распоротым брюхом из которого, подобно
внутренностям, вываливались матерчатые кишки) такое невероятное количество белья,
чаще всего черного и белого (хотя было тут и одно облезло-розовое, прицепившееся
или наброшенное на живую изгородь из боярышника, как будто его повесили там для
просушки), словно бы люди
370
самым драгоценным считали всякие тряпки, лоскутья, простыни, разодранные или
скрученные, тянувшиеся как бинты, рассеянные как корпия по зеленеющему лику
земли...
Потом он перестал спрашивать себя о чем бы то ни было, перестав в то же время что-
либо видеть хотя и делал над собой усилия, чтобы глаза оставались открытыми и чтобы
как можно прямее держаться в седле но та темная тина в которой как ему казалось он
ворочался становилась все гуще, и вот уже сделалось совсем темно, и теперь он не
воспринимал ничего кроме шума, монотонного цоканья множества копыт по дороге все
нараставшего, множащегося (теперь уже сотни, тысячи копыт) достигавшего такого
предела (подобпо барабанящему стуку дождя) когда он словно исчезал, сам себя
уничтожал, порождая этой своей непрерывностью, однообразием как бы высшую ступень
тишины, нечто величественное, монументальное: точио то была сама неотвратимая
поступь времени, то есть печто невидимое нематериальное не имеющее ни начала ни
конца ни ориентира, в недрах коего он казалось ему застыл, заледенел, одеревенел на
своем скакуне тоже невидим во мраке, среди призрачных всадников чьи невидимые
высокие силуэты в своем горизонтальном скольжении покачивались, вернее слегка
переваливались в такт тряскому ходу лошади, так что чудилось будто эскадрон, весь
полк продвигался вперед не сходя с места, как бывает в театре когда движутся одни
лишь ноги актеров имитирующие ходьбу а сами они остаются на месте и за их спиной
разматывается чуть подрагивая полотно задника на котором нарисованы дома деревья
облака, но с той лишь разницей что здесь задником служит только ночь и тьма, а
потом начал накрапывать дождик, тоже монотонный, нескончаемый и темный, и он не то
чтобы излился на них но, как и сама тьма, принял в свои недра людей и лошадей,
присоединяя примешивая свой неуловимый шорох к этому чудовищному терпеливому и
грозному топоту многих тысяч лошадей идущих по дорогам, похожему на хруст
издаваемый тысячами прожорливых насекомых грызущих мир (впрочем разве и в самих
лошадях, в старых армейских клячах, этих древних одрах незапамятных времен
плетущихся под ночным дождем вдоль дорог, потряхивая своей тяжелой башкой в броне
металлических пластинок, разве и в них тоже не чувствовалось этой жесткости
панцирных, разве не похожи они на чуточку смеш-
371
пых чуточку испуганных кузнечиков, их жесткие негну-щисся ноги, торчащие мослы,
резко выступающие кольца ребер вызывают в памяти образ какого-то геральдического
животного созданного не из мяса и мускулов, но скорее похожего — всё вместе и
животное и доспехи — на те старые ржавые обитые железом, дребезжащие колымаги, кое-
как починенные с помощью обрывков проволоки и каждую минуту грозящие развалиться на
куски?), этот шум в сознании Жоржа в конце концов слился с самим представлением о
войне, монотонное топтание заполнявшее ночь похожее на бряцание костей, воздух
черный и твердый словно железный колол лица, и ему казалось (припоминая все
рассказы об экспедициях на полюс где как говорят кожа примерзает к ледяному железу)
он ощущал как липла к его телу отвердевшая холодная тьма, словно бы воздух, само
время были одной монолитной замерзшей стальной глыбой (подобно тем мертвым мирам,
угасшим много миллиардов лет назад и покрытым льдами) в толщу которой они были
заключены, вмерзли навеки, вместе со своими старыми унылыми клячами, со своими
шпорами, саблями, стальным оружием: вмерзли целиком и полностью во весь рост, точно
так как они предстали бы в свете грядущего дня сквозь прозрачную толщу цвета
морской волны, подобно армии на марше застигнутой катаклизмом которую изрыгнул
обратно, изблевал медлительный незаметно продвигающийся ледник сто или двести тысяч
лет спустя, вперемешку со всеми ландскнехтами, рейтарами и кирасирами былых времен,
и они полетели бы кувырком, раскалываясь на куски с тоненьким стеклянным
звяканьем...
«Хоть бы все это сразу не загнило и не завоняло, подумал он. Как те мамонты...»
Потом вдруг он очнулся (без сомнения из-за того что лошадь переменила ход, то есть
хоть она как и прежде продвигалась шагом, покачивания крупа сделались резче, и тело
седока соскальзывало к передней луке седла, явное свидетельство того что дорога
теперь шла^юд уклон): но вокруг по-прежнему была все та же тьма, и как ни таращил
он глаза он ничего не мог различить, однако он решил (по изменившемуся, более
гулкому теперь, стуку копыт и по изменившейся также вокруг них в какой-то миг
тишине, по изменившейся темноте, не то чтобы более влажной или более прохладной —
потому что все тот же дождь моросил по-прежнему — но если можно так выразиться
текучей и движущейся) что
372
они верно едут по мосту; потом снова цоканье копыт стало глуше дорога пошла в гору.
Терпеливая водяная струйка просочилась между коленом и переметной сумой, и в том
месте где бриджи терлись о седло насквозь промочила сукно, так что он кожей ощущал
холод намокшей ткани, дорога явно петляла поднимаясь в гору потому что теперь
монотонный хруст раздавался со всех сторон: не только сзади и спереди но еще и
справа вверху и слева внизу, и, глядя в темноту широко раскрытыми глазами, почти
ничего больше не чувствуя (бросив стремена, склонившись над передней лукой седла,
положив ноги на переметные сумы чтобы дать отдых коленям, мешком болтаясь в седле)
он казалось ему слышит как топчутся все эти лошади, люди, катятся вагоны вслепую
наугад в этом самом мраке, в этой самой чернильной тьме, не ведая куда к какой
цели, весь старый некогда такой прочный мир содрогался, копошился, гудел в потемках
с адским грохотом сталкивающегося металла точно полое бронзовое ядро, и он подумал
о своем отце сидевшем в беседке с цветными стеклами в самом конце дубовой аллеи где
он обычно проводил послеобеденные часы за работой, покрывая бисерным почерком со
множеством поправок и помарок бесчисленные листы бумаги которые он повсюду таскал с
собой с одного места на другое в старой рубашке с завязанными узлом концами, точно
некое неотъемлемое дополнение себя самого, некий добавочный орган несомненно
изобретенный чтобы восполнить слабость других частей его тела (мускулов, костей,
изнемогавших под чудовищным грузом жира непомерно разросшейся плоти, материи
которой не по силам стало самой удовлетворять свои собственные потребности и она
вроде бы изобрела, секретировала как некий побочный продукт, некий заменитель,
шестое искусственное чувство, всемогущий протез функционирующий благодаря чернилам
и деревянной ручке); но в тот вечер, на плетеном столе поверх рубашки все еще были
как попало разбросаны утренние газеты, а его драгоценные бумаги которые он как
всегда принес с собой все еще оставались лежать на том самом месте куда он их
положил придя сюда в первом часу дня, в полумраке беседки наваленные в беспорядке
скомканные читаные и перечитанные газеты все еще удерживали свет летних сумерек
наполненных мирным пыхтением трактора, арендатор заканчивал косьбу на большом лугу,
мотор гудел натужно, надрывно когда трактор, с беше-
373
ным ревом, заглушавшим их голоса, карабкался по склону холма, потом, наверху, мотор
внезапно стихал и когда исчезая за бамбуковой рощей спускаясь по склону трактор еще
раз поворачивал и полз у самого подножия холма, почти совсем глох, потом тягач,
казалось выжимая все из мотора, снова устремлялся, бросался на штурм холма, и Жорж
уже знал что скоро силуэт его постепенно начнет вырастать перед ним, поднимаясь,
взбираясь вверх с той непреодолимой медлительностью какая свойственна всему
вступающему в тесное или отдаленное соприкосновение с землей — будь то люди,
животные или механизмы,— неподвижный торс арендатора неуловимо сотрясаемый
вибрацией постепенно возникал в сумерках на фоне холмов, выступал за их пределы,
наконец отрывался от них, темный, на бледном небе, а отец сидел в плетеном кресле
поскрипывавшем под его тяжестью при каждом движении, взгляд его терялся в пустоте
за бесполезными стеклами очков в йоторых Жорж мог разглядеть дважды отраженный
крошечный силуэт словно вырезанный на закатном небе пересекающий (вернее медленно
скользящий по) выпуклую поверхность стекол последовательно проходя все фазы
деформации порожденные кривизной линз — сначала вытягиваясь в высоту, потом
уплощаясь, потом снова удлиняясь, нитевидный, когда он медленно поворачивался
вокруг своей оси и исчезал,— так что слушая доходивший до него в потемках усталый
голос старого человека Жорж как бы созерцал этот непобедимый образ крестьянина
который не просто пересекал из конца в конец каждую из двух лунных сфер но
(наподобие всадников на карусели) появлялся, вырастал, приближался и снова
уменьшался, словно неистребимый, чуть подрагивающий, невозмутимый, обегал круглую и
ослепительную поверхность планеты.
А отец все говорил и говорил, словно сам с собой, говорил об этом как бишь его
философе который сказал что человеку ведомы лишь два способа присваивать себе что-
то принадлежащее другим, война и торговля, и что обычно он выбирает сначала первый
поскольку это представляется ему наиболее легким и быстрым а уж потом, но только
когда обнаружит все неудобства и опасности первого, второй способ, то есть торговлю
которая является не менее бесчестным и жестоким способом зато более удобным, и что
в конечном счете каждый народ непременно проходил через обе эти фазы и каждый в
свой черед предавал Европу огню и мечу прежде чем превращался в акционерное об-
374
щество коммивояжеров как например англичане но что и война и торговля всегда были
пе чем иным как выражением алчности людей а сама эта алчность есть следствие
первобытного ужаса перед голодом и смертью, поэтому-то убивать воровать грабить и
продавать в сущности одно и то же простая потребность индивидуума вселить в себя
уверенность, как скажем делают мальчишки которые нарочно громко свистят или поют
чтобы придать себе мужества если приходится ночью идти через лес, и это объясняет
почему хоровое пение наряду с умением обращаться с оружием или стрельбой по мишени
входит в программу военного обучения поскольку нет ничего хуже тишины когда, и тут
Жорж в бешенстве бросил: «Ну еще бы!», а отец все так же устремив невидящий взгляд
на чуть трепещущую в сумерках осиновую рощицу, на ленту тумана медленно сползавшую
на дно долины, окутывая тополя, на холмы погружавшиеся во мрак, спросил: «Что это с
тобой?» а он: «Ничего ровным счетом ничего Просто нет желания без конца выстраивать
слова и еще слова и ещо слова В конце концов может и с тебя тоже хватит?» а отец:
«Чего?» а он: «Да этих разглагольствований Нанизывания этих...», и внезапно умолк,
вспомнив что завтра уезжает, сдержался, отец теперь молча смотрел на него, потом
отвел взгляд (трактор уже закончил работу и пыхтя проползал позади беседки, в
густой темноте под деревьями выделялось одно только светлое пятно рубашки
арендатора взгромоздившегося, взобравшегося на высокое сиденье, скользившее, ни к
чему не прикрепленное, призрачное пятно, удалявшееся, исчезнувшее за углом риги,
вскоре шум мотора заглох, и тогда все затопила тишина); он уже не мог разглядеть
лицо старика, различал только какую-то смутную маску повисшую над огромной
расплывчатой массой тяжело осевшей в кресле, и думал: «Да ведь у него горе и он
старается скрыть его тоже придать себе мужества Оттого-то он столько говорит Ведь
ничего другого в его распоряжении и нет только это тяжеловесное упрямое и
педантичное легковерие — скорее даже вера — в абсолютное превосходство знания
добытого через то что написано, через эти слова которые его собственный отец
простой крестьянин так и не научился расшифровывать, и поэтому придавал им, наделял
их некой таинственной, магической силой...»; голос его отца, как бы отзвук той
грусти, того неуступчивого и нерешительного настойчивого желания с которым тот
пытался убедить себя самого
375
если не в пользе или правдоподобии того что он говорил, то хотя бы в пользе верить
в пользу того что говорит, упорствуя в этом для себя одного — как свистит ребенок в
темноте пробираясь через лес,— голос этот и сейчас еще доходил до него, по уже пе в
темноте беседки пе в застойном зное августа, гниющего лета когда что-то
окончательно и бесповоротно протухало, воняло уже, разбухало точно кишащий червями
труп и в конце концов подыхало, оставляя после себя лишь жалкие отбросы, груду
смятых газет в которых давно уже нельзя было ничего разобрать (даже букв, таких
знакомых знаков, даже крупных сенсационных заголовков: разве что пятно, тень чуть
более серую на се-роватости бумаги), теперь они (голос, слова) долетали в холодной
тьме где казалось с незапамятных времен бесконечно растянулась длинная вереница
невидимых лошадей на марше: словно бы его отец все это время не переставал
говорить, Жорж поймав на ходу одну из лошадей вскакивал в седло, так словно просто
поднялся с плетеного кресла и сел верхом на один из призраков бредущих по дороге с
бесконечно давних времен, а старик все продолжал говорить обращаясь к пустому
креслу и в то время как сам Жорж все удалялся, исчезал, упорствовал одинокий голос,
носитель пустых и бесполезных слов, сражался пядь за пядью против того что кишело
наполняло осеннюю ночь, затапливало ее, погребало в конце концов под своим
равнодушным державным топотом.
А может он просто закрыл глаза и тотчас открыл их, его лошадь чуть было не
наскочила на идущую впереди, и тогда проснувшись окончательно, он понял что стук
копыт теперь смолк и вся колонна остановилась и уже не слышно было ничего кроме
шелеста дождя вокруг них, а ночь все такая же черная, пустынная, лишь порой
фыркала, храпела лошадь, потом шум дождя снова покрыл все звуки и через некоторое
время послышались приказы выкрикиваемые в голове эскадрона и взвод их в свой черед
тронулся с места чтобы пройдя несколько метров снова остановиться, кто-то проехал
крупной рысью вдоль колонны от головы к хвосту, и при каждом поскоке легко
подкованной лошади раздавалось звонкое, металлическое цоканье, и вот, черный на
черном, из небытия возник силуэт, проследовал мимо в шорохе мускулов бегущего
скакуна, похрустывании сбруи, упряжи, позвякивании металла, темный торс наклоненный
вперед к холке лошади, без лица, в каске, апокалипсический, точно сам призрак войны
в полном
376
вооружении возник из темноты и снова погрузился в нее, прошло еще довольно много
времени пока наконец поступил приказ снова трогаться в путь и почти сразу же они
различили первые дома, все еще чуточку темнее чем небо.
Потом они оказались в хлеву, и эта девушка, похожая на некое видение, держала лампу
в высоко поднятой руке: все это напоминало одну из старых картин темно-табачных
тонов: коричневых (скорее даже битумных) и теплых, не столько так сказать
изображавших интерьер какого-нибудь строения сколько, казалось бы, проникавших
(проникая одновременно в эту атмосферу острых запахов животных и сена) в некое
органическое, утробное пространство, Жорж, слегка оглушенный, слегка обалдевший,
часто моргал глазами, у него жгло веки, он стоял, неуклюжий, окоченевший в
погнувшейся тяжелой от дождя одежде, в негну-щихся сапогах, раздавленный
усталостью, и эта тонкая пелена воздвигнутая грязью и бессонницей между его лицом и
окружающей атмосферой была как некий неосязаемый потрескавшийся ледяной пласт, так
что ему казалось он мог одновременно чувствовать ночной холод — теперь скорее
предрассветный — внесенный, ворвавшийся сюда вместе с ним, все еще сковывавший его
(и, подумал он, несомненно помогавший, подобно корсету, держаться на ногах, и еще
он смутно подумал что надо поскорее расседлать лошадь и лечь прежде чем он начнет
оттаивать, распадаться) и, с другой стороны, ощущать эту разновидность так сказать
утробной теплоты в лоне которой нежилась она, нереальная и полунагая, едва или
полупробу-дившаяся ото сна, глаза, губы, все ее тело полно было еще этой ласковой
сонной истомой, полуодетая, с голыми икрами, в грубых незашнурованных мужских
башмаках на босу ногу несмотря на холод, в какой-то лиловой вязаной шали накинутой
на молочно-белое тело, молочно-белую безупречную шею выступавшую из выреза грубой
ночной сорочки, окутанная пеленой желтоватого света падавшего от лампы казалось
растекавшегося по ее телу из поднятой вверх руки подобно фосфоресцирующей краске,
пока наконец Ваку не удалось зажечь фонарь, и тогда она задула лампу, повернулась и
вышла в голубоватый рассвет похожий на бельмо на слепом глазу, еще мгновение ее
силуэт вырисовывался на сумрачном фоне пока она была здесь в темноте хлева, потом,
едва она переступила порог, казалось испарился, хотя они продолжали следовать за
ней взглядом не удалился нет но, так сказать, растворился,
377
растаял в этой по правде говоря скорее сероватой чем голубоватой дымке которая без
сомнения и была рассветом, потому что надо полагать он все-таки наступил, но явно
лишенный всякой силы, всех присущих рассвету качеств, правда можно было смутно
различить стенку по ту сторону дороги, ствол толстого ореха, а за ним деревья
фруктового сада, но все было одного тона, лишенное красок и валёров, словно бы
стенка, орех и яблони (молодая женщина теперь уже исчезла) превратились так сказать
в окаменелости, а здесь сохранился лишь их отпечаток на этой непрочной, пористой и
однообразно серой субстанции, которая теперь понемногу просачивалась в хлев, когда
Жорж обернулся серой маской выступило лицо Блюма, разорванным листком бумаги с
двумя дырками для глаз, и с таким же серым ртом, Жорж произносил еще начатую фразу
вернее слышал как собственный его голос произносил ее (наверняка что-то вроде:
Скажи-ка ты видел эту девицу, она...), потом голос его оборвался, губы возможно еще
упорно шевелились среди полного молчания, потом и они тоже перестали двигаться а он
все глядел на этот бумажный лик, и Блюм (он снял каску и теперь его узкое девичье
лицо казалось еще более узким от прижатых к голове ушей, лицо с кулачок, на
девичьей шее торчавшей из жесткого и мокрого ворота плаща словно из скорлупы, такое
страдальческое, печальное, женственное, упрямое) спросил: «Какая девица?», а Жорж:
«Какая... Да что с тобой?», лошадь Блюма была еще не расседлана, даже не привязана,
а сам он стоял прислонившись к стене словно боялся упасть, карабин его все так же
висел на ремне за Спиной, у него даже не хватило духу скинуть свое обмундирование,
и Жорж во второй раз спросил: «Да что с Фобой? Ты болен?», а Блюм пожав плечами,
оторвавшись от стены, стал отстегивать подпругу, а Жорж: «Черт побери, да оставь ты
лошадь в покое. Иди ляг. Ведь тебя только тронь ты и завалишься...», он и сам почти
что стоя спал, но Блюм даже не противился, когда он отстранил ©го: шерсть на медных
лошадиных крупах слиплась от дождя, потемнела, и под седлом тоже была мокрой и
слипшейся, от них шел острый, кислый запах, и пока он размещал их с Блюмом поклажу
вдоль стены ему все чудилось будто он видит ее, на том самом месте где она стояла
за минуту до этого, вернее чувствует, воспринимает ее как некий стойкий, нереальный
отпечаток, сохранившийся даже не на сетчатке глаз (он так мало, так плохо видел
378
ее) а, так сказать, в нем самом: что-то теплое, белое как молоко которое она как
раз надоила когда они заявились сюда, некое видение озаренное не этой поднятой
вверх лампой но само светоносное, словно бы кожа ее была источником света, словно
бы этот бесконечный ночной переход не имел иной причины, иной цели как открыть для
себя в конце пути эту светопроницаемую врезанную в толщу ночи плоть: не просто
женщину но само понятие, символ всякой женщины, то есть (но держался ли он еще на
ногах, машинальными жестами отстегивая ремни и пряжки, или уже лежал, засыпая,
утопая в одуряющем запахе сена, а его окутывал, обволакивал тяжелый сон).., наспех
вылепленные из мягкой глины бедра живот груди округлая колонна шеи и в потайной
глубине как в центре у этих примитивных статуй изваянных во всех деталях
сокровенные уста как бы заросшие травой нечто названием похожее на животное, на
термин из естественной истории — улитка моллюск пульпа вульва — приводящее на
память эти морские плотоядные организмы слепые но снабженные ртом и ресничками: зев
этой полости первородное горнило которое чудилось он прозревал в утробе мира,
подобное тем формочкам в которых ребенком оп научился штамповать пехотинцев и
кавалеристов, надо было только чуть примять большим пальцем месиво, горнило откуда
лезло это отродье бесконечными рядами как в легенде в полном вооружении и в касках
оно кишело умножалось растекалось по поверхности земли наполняя воздух бесконечным
гулом, бесконечным топотом армии на марше, бесконечной вереницы черных мрачных
лошадей печально покачивавших мотавших башкой, следовавших одна за другой
проходивших нескончаемой процессией в монотонном цоканье копыт (он не спал,
сохранял полную неподвижность, и теперь это был уже не хлев, не тяжкий пыльный дух
пересохшего сена, загубленного лета, но неосязаемое, наводящее тоску, неотвязное
истечение самого времени, мертвых лет, и он паря в потемках вслушивался в тишину,
ночь, покой, еле уловимое дыхание женщины рядом с собой, спустя некоторое время он
различил второй прямоугольник обозначенный зеркалом гардероба в котором отражался
темный свет льющийся из окна — всегда пустого гардероба гостиничного номера с
двумя-тремя пустыми плечиками, висящими внутри, гардероба (с треугольным фронтоном
обрамленным двумя сосновыми шишками) сработанного из того самого желтого цвета мочи
дерева с
379
красноватыми прожилками что кажется используют лишь для этих вот сортов мебели
обреченных никогда не заключать в себе ничего кроме собственной пыльной пустоты,
стать пыльным саркофагом для отраженных призраков многих тысяч любовников, тысяч
нагих тел, потных и яростных, тысяч объятий накопленных, собранных в зе-леновато-
синих глубинах девственного, невозмутимого и холодного стекла,— и он вспоминал:)
«...Пока я наконец не понял что это были вовсе не лошади а дождь барабанящий по
крыше сарая, и тогда открыв глаза заметил узенькие полоски света просачивающегося
сквозь щели между досками перегородки: было должно быть поздно однако еще стоял все
тот же белесовато-грязный рассвет в котором она растворилась, который поглотил ее,
вобрал так сказать как губка в набухшую водой зарю, вернее насыщенную пропитанную
влагой подобно тряпке подобно нашей одежде в которой мы спали и от которой шел
запах намокшей шерсти промокаемого сукна, и теперь еще пе совсем проснувшиеся мы
тупо глядели в осколок зеркала прикрепленного над матерчатым ведром полным до краев
ледяной воды, глядели на свои серые и тоже грязные лица осунувшиеся от недосыпания
бледные с плохо выбритыми щеками с всклокоченными волосами в которых застряла
солома с ярко-розовыми веками и с застывшим выражением удивления беспокойства
отвращения (подобного тому какое испытываешь при виде трупа словно бы опухоль
порожденная разложением уже заранее угнездилась начала свою работу в тот самый день
когда мы снова надели эти безликие солдатские мундиры, надев вместе с ними, как
некое клеймо, эту единую форму грязную маску усталости и отвращения) и тут я
отстранил зеркало, мое или вернее медузье лицо закачалось улетая словно бы втянутое
сумрачной каштановой глубиной хлева, исчезая с той молниеносной быстротой которую
сообщает отраженным образом малейшее изменение угла зрения и вместо него я увидел
этих троих в другом конце конюшни, разглагольствующих вернее безмолвных то есть
обменивающихся молчанием как другие обмениваются словами то есть некой
разновидностью молчания понятного им одним и для них несомненно более
красноречивого чем все речи, все трое по виду крестьяне, из тех неразговорчивых
недоверчивых скрытных солдат составлявших большую часть личного состава полка,
окружили лежавшую на боку лошадь с каким-то непостижимо скорбным выражением на
преждевременно избо-
880
рожденных морщинами лицах где залегла тоска по своим нолям по уединению по своей
скотине по своей черной скупой земле, и я спросил Что случилось что там такое? но
они даже пе ответили мне, полагая без сомнения что это бесполезно или возможно что
мы говорим на разных языках тогда я подошел и в свою очередь с минуту смотрел на
тяжело дышавшую лошадь. Иглезиа тоже находился здесь но как и остальные он казалось
не слышал меня хотя между ним и мной как я думаю надеюсь могла бы по крайней мере
существовать возможность контакта, но конечно быть жокеем значит вроде бы быть
также немножечко крестьянином, несмотря на то что по его внешнему виду можно
решить, коль скоро он жил в городах или по крайней мере в тесном контакте с
городом, позволительно предположить что он все же несколько отличен от крестьянина,
раз он держит пари играет и даже пожалуй лишен предрассудков как это часто
свойственно жокеям, да и в детстве он пе пас гусей и не гонял на водопой коров а уж
конечно таскался по улицам по мостовым городов, но надо думать дело тут не столько
в деревне сколько в скотине в обществе в контакте с животными, потому что был он
почти таким же скрытным неразговорчивым таким же замкнутым как и любой крестьянин и
так же как они вечно занят поглощен (словно бы он ни минуты не способен был
оставаться без дела) какой-нибудь неспешной кропотливой работой которую они всегда
умеют себе придумать: с того места где я находился (чуточку позади него а он сидел
на старой тележке повернувшись ко мне на три четверти спиной, плечи его слегка
ходили, он конечно уже надраивал свою или рейшаковскую амуницию, начищал медные
пряжки натирал уздечку желтым воском, казалось он возил с собой целый его склад)
мне был виден его большой нос, голова клонящаяся вниз словно под тяжестью этого
клюва, этой накладной карнавальной штуковины словно приставленной к его лицу в виде
лезвия ножа какие несомненно больше пе делают со времен этих бретеров итальянского
Возрождения закутанных в плащ убийцы откуда как раз и высовывался торчал вперед
этот орлиный нос придававший ему одновременно устрашающий и несчастный вид птицы
обремененной этим... Где же я читал эту историю думаю в сказке Киплинга где же еще,
про животное обремененное клювом, этаким носищем «Врежь в яблочко» говорил он* или
«Твой зад видать богат» жокейское выражение означающее «повезло» но даже намека на
вульгарность не было
381
в его голосе, скорее уж какая-то чистота, наивность, удив^ ление и еще возмущенное
неодобрение как тогда когда он увидел как была оседлана лошадь Блюма и то что
несмотря на это она не набила себе холку после столь долгого перехода, его хриплый
надтреснутый глухой голосок звучал до странности нежно, чего никак нельзя было
ожидать и даже как-то по-детски смиренно что казалось отвергало как некий парадокс
эту костлявую морщинистую карнавальную маску если не брать в расчет что по годам он
лет на пятнадцать превышал средний возраст нашего полка, и оказался здесь
окруженный мальчишками единственно потому что де Рейшак так все устроил, пустил
верно в ход свои связи чтобы его прикомандировали к нашему полку и он мог бы
оставить его при себе в качестве денщика, да и в самом деле они так сказать пе
могли обойтись друг без друга, он без де Рейшака точно так же как и тот без него,
нечто вроде высокомерной привязанности хозяина к своей собаке и благоговейной
преданности собаки своему хозяину не стремясь узнать достоин этого хозяин или нет:
просто принимая, признавая ни на секунду не подвергая сомнению существующее
положение вещей, преисполненный к нему почтения о чем свидетельствовало буквально
все например эта его привычка скорее даже мания не уставая поправлять с упорством и
верностью слуги тех кто коверкал имя хозяина произнося его как оно пишется: де
Рейксаш, а он: «Рейшак тысяча чертей ты все никак в толк не возьмешь: шак «икс» как
«ш-ше» а «ше» на конце как «ка» Черт побери богом клянусь ну до чего ж тупица раз
десять ему втолковывал значит никогда ты олух этакий на скачках не был вроде бы
имечко-то известное...» Гордился этим именем, тем что им присвоены определенные
цвета, камзол из блестящего шелка который он носил, розовый с черной перевязью а
шапочка черная на зеленом бильярдном фоне ипподрома, гордился этой своей ливреей,
однако когда автоматная очередь в упор прошила того другого и я спустя минуту
предложил вернуться, посмотреть умер он или нет, Игле-зиа кинув на меня
внимательный взгляд (так же как незадолго перед тем когда де Рейшак заставил
отставшего солдата слезть с запасной лошади на которой тот молил нас^разрешить ему
ехать, Иглезиа спокойно сказал мне минуту спустя: Это был шпион, а я: Кто? а он,
пожимая плечами: Тот тип, а я: Шпи... Да с чего ты взял? а он тогда посмотрел на
меня своими рачьими глазами, таким же
*84
озадаченным взглядом слегка осуждающим с мягкой укоризной и в то же время взглядом
удивленным словно бы он силился понять меня, снисходя к моей глупости, явно
ошеломленный и шокированный как если бы вдруг услышал что кто-то проклинает
офицеров и посылает, отправляет к дьяволу его де Рейшака который теперь-то уже
наверняка попал туда — к дьяволу — уж наверняка), он видно пытался пробиться сквозь
эту пленку корку как я чувствовал сковывавшую мое лицо точно парафином,
растрескавшуюся морщинами, непроницаемую, отгородившую меня от всего, сотканную из
усталости сна пота и пыли, его собственное лицо сохраняло все то же недоверчивое
неодобрительное и мягкое выражение, когда он сказал: «Что посмотреть-то?», а я:
«Умер он или нет. Ведь в конце-то концов даже стреляя вот так в упор этот мерзавец
мог и промазать, может он только ранил его или только убил под ним лошадь потому
что лошадь упала а мы видели как он выхватил саблю и...», тут я умолк поняв что
понапрасну теряю время, что для него и вопроса-то не возникало вернуться и
посмотреть, не из трусости вовсе просто он наверно спрашивал себя почему во имя
чего (и не находил и впрямь ответа) станет он рисковать своей шкурой и совершать
нечто такое за что не было ему заплачено и что не было ему недвусмысленно
приказано, задача эта несомненно была выше его разумения: вот наводить лоск на
сапоги де Рейшака начищать до блеска его амуницию ходить за его лошадьми и
выигрывать на скачках это было его работой и он выполнял ее с той старательной
дотошностью доказательства коей давал в течение пяти лет объезжая для него, и не
одних только лошадей как рассказывали, седлая вскакивая также и на его... по чего
только не рассказывали о нем о них...»
И он (Жорж) пытался вообразить себе: эти сцены, эти мимолетные картины весенние или
летние, как бы захваченные врасплох, всегда издалека, сквозь дыру в изгороди или в
просвет между двумя кустами: пеизменно ослепительно зеленые лужайки, белые барьеры,
и Коринна и он лицом к лицу, он ниже ее ростом, крепко стоит на своих коротких
ногах колесом, в мягких сапожках с отворотами, в белых рейтузах и сверкающем
шелковом камзоле цвета которого выбирала она сама и который (сшитый из той же самой
блестящей атласной материи из какой шьют дамское белье —■ бюстгальтеры грации и
черные пояса для резинок) казался каким-то шутовским, вызывающей и сладо-
383
страстной костюмировкой: подобно тем уродливым карликам которых в прежние времена
обряжали в цвета королев и принцесс, нежных причудливых топов, и он итальянская
карнавальная маска, со своим костлявым, аскетичным лицом, обтянутым желтой кожей, с
носом в форме ветролома, с большими рачьими глазами, с этим безучастным
(несчастным), задумчивым и страдальческим видом (возможно особенно это подчеркивала
специфическая для жокеев посадка головы, офицерский ворот камзола с повязанным под
ним платком похожим на компресс сковывающий шею, придававший фигуре его некоторую
напряженность, голова была наклонена вперед, как у человека страдающего от нарыва
на затылке или от фурункулеза), и она стоящая напротив него (по всей видимости
просто-напросто почтительный жокей терпеливо выслушивает приказания своей хозяйки,
машинально сжимая в руках хлыст и ничего больше) в пестром газовом платье совсем
прозрачном в солнечном свете от которого на лужайку ложатся длинные тени, или же в
красном платье словно нарочно созданном чтобы гармонировать с цветом ее волос,
косые лучи солнца очерчивали контуры ее тела (развилку ног) внутри этой
прозрачности и оно отчетливо выделялось в темнокрасном воздушном газовом облаке,
точно она была голой, так что начинаешь думать (да не думать вовсе, думаешь не
больше чем собака когда она слышит контрольный звонок и срабатывают рефлексы: так
вот не думаешь вовсе, скорее это что-то другое вроде выделения слюны) о чем-то
напоминающем леденцы (и сироп, и миндальное молоко, слова тоже подходящие для нее,
для всего этого), эти конфеты завернутые в целлофановые бумажки каких-то кислых
тонов (бумажки чье звонкое шуршание, один только цвет, сама субстанция, с этими
трещинками там где парафин выступает тонкой сеточкой пересекающихся серых линий,
уже вызывают физиологический рефлекс). Жоржу видно было как шевелились их губы, но
слов не было слышно (слишком это было далеко от него, прятавшегося за своей
изгородью, за пластами времен, и при этом еще он слушал (позднее, когда Блюму и ему
удалось немного его приручить) как Иглезиа рассказывал им одну из своих
бесчисленных историй о лошадях, ну хоть к примеру про ту трехлетку что страдала
лимфангитом и на которой он однако столько раз брал призы... Жорж спрашивал: «А она
что...», а Иглезиа: «Она приходила проследить как я прикладываю эти отвлекающие
средства, Рецепт-то мне дал
384
КОГда-то еще первый хозяин, но тут надо было быть очень осторожным, чтобы...», а
Жорж: «А когда она приходила, ты-то верно... я хочу сказать: вы верно...», но
Иглезиа отвечал по-прежнему уклончиво); впрочем какое это имело значение: ему вовсе
не требовалось знать что произносили эти уста, эти подкрашенные еле заметно
шевелившиеся губы, ни что отвечали им толстые потрескавшиеся, твердые губы
карнавальной маски, это несомненно были, только и могли быть, слова лишенные
значения, вполне безобидные слова (возможно, и он и она говорили об отвлекающих
средствах или о порванном сухожилии, как с простодушной наивностью рассказывал он);
возможно так оно и было: то есть никакая не идиллия, не развертывающийся
многословный, методичный, общепринятый роман, который завязывается, крепнет,
развивается, следуя гармоничному и разумному крещендо прерываемому необходимыми
остановками и ложными маневрами, пока наконец не наступает кульминация, а после
этого возможно некий постоянный уровень, а после этого еще неизбежный спад: нет,
ничего упорядоченного, логичного, никаких подготовляющих слов, речей, никаких
деклараций и никаких уточнений, только вот это: несколько немых картин, едва
оживших, которые наблюдаешь издали: она отдает ему приказания у весов ипподрома,
или еще другая: он забрызганный и перепачканный грязью, со следами глины или
зелено-желтыми пятнами от травы на рейтузах, может быть слегка прихрамывающий,
держа на плече свое крохотное почти кукольное седло со свисающими стременами
ударявшимися друг о друга с серебряным звоном, шагает рядом с ней к весам за своей
лошадью которая вся в мыле и от нее валит пар а ее ведет в поводу мальчишка-конюх с
чересчур длинными грязными волосами, в потрепанной одежде, с бледным шпанистым
лицом; или еще одна: солнечное утро, перед конюшней, он в заштопанных рабочих
рейтузах и старых потрескавшихся сапогах, в одной рубашке, присев на корточки,
намыливает и разминает подколенок у лошади, как вдруг, на мокром асфальте перед
конюшней, возникает ее тень, она в простеньком, светлом, утреннем платьице, или
может в костюме для верховой езды, тоже в сапогах, похлопывает хлыстиком по голени-
Щу, а он все так же сидя на корточках, не оборачиваясь, продолжает массировать
больное сухожилие пока она наконец не обратится к нему, и тогда он поднимается, и
снова стоит перед ней, чуть наклоняя корпус вперед, руки у
13 м. Бютор и др.
385
него до самых локтей в мыльной пене, по тому как оба они покачивают головой, по
тому как он протягивает руку, понимаешь что говорят они о лошади, о наложенном
пластыре, и ни о чем больше (если не считать двусмысленного взгляда которым
обмениваются между собой конюхи, да того как посматривает исподтишка на нее один из
тщедушных, оборванных, порочных мальчишек с мордашкой полуголодной шпаны, с
распутным и жалким видом которые повисая на трензельной уздечке проводят мимо
лошадей с лоснящейся шерстью, в электрическом полыхании гривы, мускулов,
переливающихся попон), и значит речь меньше всего шла о любви, если только не
предположить что любовь — или скорее страсть — именно такова и есть: нечто
бессловесное, эти порывы, это отталкивание, эта ненависть, всё невыраженное — и
даже невыразительное,— и значит за этой простой чередой жестов, слов, ничего не
значащих сцен скрывается этот штурм, без всякой подготовки, эта торопливая
рукопашная схватка, стремительная, дикая, неважно даже где, может в самой конюшне,
на охапке соломы, юбки ее высоко задраны, над чулками с подвязками на ляжках
сверкает полоска ослепительной кожи, оба яростные, задыхающиеся, верно охваченные
страхом что будут застигнуты, она выворачивая шею безумным взглядом следит поверх
его плеча за дверью конюшни, а вокруг них аммиачный запах подстилки, шорох и возня
животных в стойлах, и сразу же потом лицо его опять костлявая обтянутая кожей маска
неизменная, непроницаемая, печальная, безмолвная, и безучастная, и угрюмая, и
подобострастная...
Вот так. А в довершение, в качестве так сказать филигранной отделки, эта пошлая
навязчивая болтовня ставшая в конце концов, для Жоржа, не просто неотъемлемой
частицей его матери хотя однако же отдельной от нее (как поток, вырывающийся из
нее, продукт который она секре-тирует), но так сказать как бы самим олицетворением
его матери, словно бы составляющие ее элементы (огненнооранжевая шевелюра, пальцы
унизанные бриллиантовыми кольцами, слишком прозрачные платья которые она упорно
продолжала носить не просто вопреки возрасту, но, казалось бы, в прямо
пропорциональной зависимости от него, ибо число их, блеск, яркость красок
возрастали вместе с числом ее лет) создавали лишь блестящую и кричащую опору для
этого неиссякаемого и универсального пустословия, где среди всевозможных историй о
прислуге,
386
портнихах, парикмахерах и о бесчисленных связях и знакомствах, явились ему де
Рейшаки — то есть не только Коринна и ее муж, но все потомство, племя, каста,
династия де Рейшаков — прежде даже чем он приблизился хотя бы к одному из них,
явились в ореоле некоего сверхъестественного обаяния, неприступности тем более
незыблемой что зиждилась она не только на владении чем-то (как например обычное
богатство) что может быть приобретено, и, следовательно, надежда или возможность
(даже чисто теоретическая) в один прекрасный день самому завладеть этим лишают его
большей части обаяния, но сверх того (то есть в придачу, или вернее предваряя само
состояние, несравненно возвышая это состояние) на этой частице, на этом титуле, на
этой крови, которые очевидно для Сабины (матери Жоржа) представляли собой ценность
исполненную тем большего обаяния что не только они не могли быть приобретены
(поскольку по сути дела утверждались чем-то что не может быть даровано, подменено
никакой властью: древностью, временем) но еще и рождали в ней мучительное,
нестерпимое ощущение личной утраты, незаконного лишения коль скоро сама она была
(но увы, только по матери) одной из де Рейшаков: отсюда несомненно то упорство, то
уязвленное ноющее постоянство с каким она без конца напоминала (и это — наряду с ее
патологической ревностью, страхом состариться и всеми проблемами связанными с
кухней и буфетной — являлось одной из трех или четырех тем вокруг которых вертелась
ее мысль с однообразной, упрямой и яростной настойчивостью роящихся в сумерки
насекомых, летающих, кружащих без остановки вокруг невидимого — и ни для кого,
кроме них, не существующего — эпицентра), без конца напоминала о тех неоспоримых
узах родства кои связывали ее с ними, узах впрочем признанных, как о том
свидетельствовало присутствие на ее свадебной фотографии одного из де Рейшаков в
довоенной — до войны четырнадцатого года — форме драгунского офицера и
подкрепленных сверх того принадлежавшим ей семейным особняком который, взамен имени
и титула, она унаследовала в результате целой цепи разделов и завещаний во всех
подробностях которых без сомнения она единственная и разбиралась, так же как без
сомнения она была единственной помнившей наизусть всю нескончаемую череду былых
альянсов и мезальянсов, и рассказывавшей со всеми подробностями как такой-то
отдаленный предок де Рейшаков был лишен всех дворянских
13*
387
привилегий за то что преступил законы своей касты занимаясь торговыми операциями, и
как другой предок на портрет которого она показывала... (коль скоро она
унаследовала также портреты — во всяком случае многие портреты — из богатейшей
галереи вернее сказать коллекции предков, вернее прародителей. «Или вернее
жеребцов-производителей, говорит Блюм, поскольку я полагаю в подобном семействе
именно так их и следует именовать? Разве благодаря этому семейству армия не
получила племенного рассадника заслужившего высокую репутацию, настоящий конный
завод. Разве не это называют тарбской породой, со всякими разновидностями...—
Ладно, ладно, говорит Жорж, пусть будут жеребцы, но он...— чистокровные,
полукровки, невыхолощенные, мерины...— Ладно, говорит Жорж, но он-то чистокровный,
он...», а Блюм: «Оно и видно. Мог бы мпе этого не говорить. Несомненно тарбо-
арабское скрещиваиие. Или тарно-арабское. Хотелось бы мне хоть разок посмотреть на
него без сапог», а Жорж: «Зачем?», а Блюм: «Просто чтобы посмотреть не копыта ли у
него вместо ступней, просто чтобы узнать к какой породе кобыл принадлежала его
бабушка...», а Жорж: «Ладно, идет, твоя взяла...») И он словно бы въяве увидел эти
листки, пожелтевший бумажный хлам который как-то показала ему Сабина, благоговейно
хранимый в солдатском сундучке какие порой еще можно обнаружить на чердаках, и он
тогда, поминутно сморкаясь потому что от пыли у пего свербило в носу, целую ночь
рылся в этих бумагах (нотариальных актах, где чернила совсем выцвели, брачных
контрактах, дарственных, актах
о покупке земли, завещаниях, королевских грамотах, мандатах, декретах Конвента,
письмах со взломанными сургучными печатями, пачках ассигнаций, счетах за купленные
драгоценности, перечнях феодальных повинностей, военных донесениях, инструкциях,
свидетельствах о крещении, извещениях о похоронах, о погребениях: шлейф уцелевших
обломков, клочков, пергаментов похожих на чешуйки эпидермиса при соприкосновении с
которыми ему казалось он касается в то же время — немного заскорузлых и иссохших
как веснушчатые руки стариков, таких же легких, хрупких и невесомых, казалось,
готовых разбиться, рассыпаться в прах едва их схватишь, но все же живых — касается
через годы, преодолевая время, как бы самой эпидермы честолюбий, мечтаний,
тщеславий, страстей ничтожных и нетленных) и среди этих бумаг ему по-
388
палась пухлая потрепанная тетрадь в синей обложке, перевязанная оливково-зеленой
лентой, на страницах которой одним из его далеких предков (или прародителей или
жеребцов-производителей как на том настаивал Блюм) была собрана удивительная смесь
стихов, философических размышлений, планов трагедий, описаний путешествий, Жорж
помнил слово в слово некоторые названия («Букет посланный Пожилой Даме которая в
молодости не будучи красивой предавалась страстям»), и даже некоторые страницы, как
вот например эту, переложенную кажется с итальянского, если судить по выписанным на
полях словам:
Двадцать восьмая Гравюра и три прочих сходных столь же прекрасны morbidezza и
столь же благородны как одни так
мягкость и прочие и выполненными кажутся
податливость тою же самою рукой все в женщине
нежность Кентаврессе изящно, и нежно, и все
весьма достойно внимания Будучи Candido рассмотрены с особливым тщанием
белый мускулы и сочления где тело челове-
белого цвета ческое переходит в лошадиное без-
блестящий условно восхитительны глаз разли-
чает нежность белой плоти у жеп-attegiamento щины и чистоту блестящей светло-
жест гнедой шерсти у животного но впо-
положение следствии ежели пожелаешь опреде-
лить Границы путаешь Положение carnagione руки коей она касается до струн ли-
цвет кожи ры прелестно равно как и то где она
как бы намеревается ударить одной oltimo кимвальной тарелкой каковую дер-
превосходное жит в правой руке о другую коею
живописец побуждаемый воистину otremodo благородным (эти два слова зачерк-
ипаче нуты) замыслом картииы и весьма
красочным поместил в правой руке controversia Молодого человека каковой тесно
диспут прижимает ее к себе просунув под
правую руку сей женщины левую свою руку так что она выступает из-под ее плеча
платье молодого человека фиолетовое а плащ свободно ниспадающий на руку женщины
389
Кентаврессы желтый: надобно еще рассмотреть Прическу, браслеты и Колье nottapoi
l’attenenza che hanno
i centauri con Bacco equilimente, e con Venere...1
Жорж подумал: «Да, только жеребец и мог написать это», без конца повторяя: «Ладно.
Превосходно. Жеребец-производитель», думая обо всех этих загадочных покойниках
которые пристально смотрели на своих потомков взглядом задумчивым и отчужденным,
торжественные, застывшие в своих позолоченных рамах, почетное место среди них
занимал тот портрет который в течение всех его детских лет разглядывал он со
смутной тревогой и страхом, потому что на лбу у него (у этого далекого прародителя-
производителя) была красная дырка откуда длинной извилистой струйкой стекала кровь,
огибала висок, скулу и капала на отворот темно-голубого охотничьего кафтана словно
бы — для иллюстрации, увековечивания той туманной легенды которой был окружен этот
персонаж — портрет писали с него когда он обагренный кровью лежал тут после
выстрела оборвавшего его дни, безучастный, лошадиноподобный и благопристойный в
самом средоточии некоего неизбывного ореола тайны и насильственной смерти (как
другие — все эти напудренные маркизы, багроволицые генералы Империи в расшитых
золотом мундирах, их супруги разукрашенные муаровыми лентами — в ореоле чванства,
честолюбия, мелкого тщеславия или ничтожества) и это в какой-то степени подготовило
Жоржа заранее гораздо раньше чем он услышал рассказ Сабины (движимой несомненно тем
самым двойственным побуждением которое заставляло ее также лишний раз упомянуть о
разорении оптового торговца, то есть воодушевляемой весьма противоречивыми
чувствами, и несомненно толком сама не зная желала ли она, передавая все эти
скандальные, или комические, или бесчестящие, или кор-нелевские истории, умалить
этот аристократический род, этот титул, не унаследованный ею, или наоборот придать
ему лишний блеск, дабы можно было еще больше гордиться своей родней и излучаемым ею
обаянием) о том как этот вот де Рейшак сам так сказать отрекся от своего
дворянского достоинства во время знаменитой ночи на чет-
1 Надобпо потом отметить родство кентавров с Вакхом и Венерой ( ит.)%
390
вертое августа, как позднее он заседал в Конвенте, голосовал за смерть короля,
потом, несомненно благодаря незаурядным познаниям в военном деле, был направлен в
армию где в конце концов позволил испанцам разбить себя и тогда, во второй раз
отрекшись от всего на свете, разнес себе череп выстрелом из пистолета (а не из
ружья как это вообразил себе ребенок глядя на охотничий костюм в котором тот велел
себя изобразить, на ружье небрежно покоившееся у него на сгибе локтя, и точно так
же кровавый след идущий на портрете ото лба был на самом деле лишь коричнево-
красной грунтовкой полотна которую обнажила длинная трещина), перед камином в своей
спальне которая теперь стала спальней Сабины и где, долгое время, Жорж не в силах
устоять перед искушением старался обнаружить на стене или потолке след огромной
свинцовой пули снесшей его предку полчерепа.
И вот, сквозь эту раздражающую женскую болтовню, проступали де Рейшаки, так что
Жоржу даже не было нужды встречаться с ними, семейство де Рейшаков, потом сам де
Рейшак собственной персоной, одип-одинешенек, а за спиной его теснилась целая толпа
предков, призраков окруженных легендами, альковными историями, пистолетными
выстрелами, нотариальными актами и бряцапием шпаг, они (призраки) смешивались друг
с другом, наслаивались один на другого в битумной сумрачной глубине старых
потрескавшихся картин, потом супружеская чета, де Рейшак со своей женой, девицей на
двадцать лет моложе его на которой он женился за четыре года до этого под шепоток
скандала и шушуканья за чашкой чая, вызвав взрыв негодования, утробной ярости,
ревности и похоти что неизбежно сопровождает подобного рода события: и так оба в
ореоле (зрелый мужчина, сухой, прямой — и даже жесткий,— непроницаемый, и
восемнадцатилетпяя молодая женщина которых можно было увидеть, ее, в светлых
нескромных туалетах, с роскошной шевелюрой, гибким телом и такой нежной кожей
словно выделана опа из той же драгоценной, почти нереальной и почти столь же
безгрешной материи что и шелка и духи которыми она была окутана, и его в красном
для верховой езды сюртуке (она заставила его выйти в отставку с военной службы),
увидеть во время ежегодных конных состязаний, или же, совершенно неприступных,
проезжавших в этом громадном черном автомобиле, почти таком же громадном и таком же
внушительном как катафалк (и который она за-
391
ставила его купить, так же как заставила бросить военную службу, взамен безликой
серийной машины какой ои до этого пользовался), или же ее одну за рулем гоночною
автомобиля который ои подарил ей (правда это продолжалось недолго, должно быть
быстро ей наскучило), и в самом деле оба такие недоступные, такие нереальные и тот
и другая словно они уже принадлежали к этой их (во всяком случае к его собственной)
коллекции легендарных прародителей-производителей заключенных навеки в потускневшее
золото рам), и так оба в своем ореоле...
«Но ведь ты даже не был с ней знаком! сказал Блюм. Ты говорил мне что они там
никогда не бывали, вечно то в Париже, то в Довилле, то в Каннах, что и видел-то ты
ее всего один-единственный раз, да и то мельком, в просвете между лошадиным крупом
и одним из тех чучел одетых точно фигуранты венской оперетки, в визйтке, сером
котелке, с моноклем в глазу и пышными генеральскими усами... Вот и все что ты
видел, а ты...» Лицо Блюма тоже было похоже на лицо утопленника который еще не
совсем очнулся, не ожил: оп умолк и пожал плечами. Снова заморосил дождь, вернее
снова весь этот край, дорога, огороды и сады стали медленно, беззвучно таять,
растворяться, тонуть в мелкой водяной пыльце бесшумно скользившей и словно
размазывавшей по стеклянной пластинке деревья и дома, Жоря* и Блюм стояли теперь на
пороге хлева, укрывшись в углублении стены, и наблюдали борьбу де Рейшака с толпой
жестикулирующих, распаленных, оскорбляющих друг друга мужчин, голоса сливались в
один нестройный, беспорядочный хор, некую многоязычную перебранку, как бы
отягченную грузом проклятия, какую-то пародию на язык человеческий который, с
коварной непреклонностью всего что сотворил или поработил человек, обращается
против него же и мстит ему с тем большим вероломством и тем более успешно что
внешне как будто покорно исполняет свою функцию: в этом-то и состоит главная помеха
для всякого контакта, для всякого понимания, теперь голоса повышались словно бы
простая модуляция звуков оказалась бессильной и единственный выход был форсировать
голоса, поднять до крика, каждый старался взять верх над другим, превзойти его...
Потом они вдруг разом сникли, все одновременно, уступив одному голосу^
высокопарному, исполненному пафоса, потом и этот тоже смолк и тогда стал слышен
голос де Рейшака, только один его голос, почти шепот, говорил он нетороп-
392
лнво, спокойно, бледное его лицо (его гнев, скорее ожесточение или просто-напросто
досада давали себя знать — как и в голосе его, невыразительном, тусклом, слишком
тихом — так сказать ослаблением тона, как бы негативным изменением, и матовая его
кожа еще больше побледнела — если только бледность эта, еле слышный голос пе были
просто следствием усталости, хотя он по-прежнему держался в седле так же прямо, не
сгибаясь, и сапоги его уже сверкали хотя Иглезиа не мог успеть надраить их нынче
утром, и значит он надраивал их сам, с педантичной бесстрастностью, с такой же
тщательностью с какой дочиста брился, чистил щеткой одежду и завязывал узел
галстука, словно бы находился не в затерянной где-то в Арденнах деревушке, словно
бы не шла война, словно бы он не провел, как и все мы, целую ночь в седле под
дождем), так вот бледное его лицо, даже не порозовевшее от волнения или холода,
резко выделялось рядом с темнобагровой, почти фиолетовой, физиономией маленького
чернявого человечка стоявшего перед ним на пороге своего дома, в каскетке с кожаным
козырьком, в залатанных резиновых сапогах, и угрожающе потрясавшего охотничьим
ружьем, когда тот сделал шаг вперед, оторвался от двери, Жорж и Блюм заметили что
он хромает, Жорж сказал: «Да я ее хорошо разглядел и знаю что она вся словно бы
молочная. Мне хватало света от лампы. Черт побери: вот именно словно бы молочная,
словно сливками облитая...», а Блюм: «Как? Как?», а Жорж: «Ты ведь не совсем тогда
окочурился мог бы и сам заметить, верно? Да тут и покойник... Прямо так и подмывало
подползти и лизнуть, так и...» и в эту самую минуту чернявый человечек крикнул:
«Если ты сделаешь еще шаг пристрелю!», а де Рейшак: «Полноте, послушайте», а
человечек: «Господин капитан: если он двинется с места, я его пристрелю», а де
Рейшак опять: «Полноте». И шагнув в сторону он снова встал между двумя мужчинами,
тем что размахивал ружьем и другим державшимся теперь за спиной де Рейшака вместе с
двумя унтер-офицерами и казавшимся, кроме неуловимого оттенка, точной копией
фермера, как и тот он был в черных резиновых сапогах усеянных заплатами, одет,
правда, не в рабочий комбинезон а в серый потерявший форму костюм, у ворота рубашки
болталось даже что-то вроде галстука, и вместо каскетки на голове мягкая фетровая
шляпа, как у горожанина, а в руке зонтик: тоже крестьянин, ио все-таки чем-то
отличный, вдруг он быст-
393
ро зыркнул глазами вверх, и Жорж тоже посмотрел туда куда смотрел он поверх головы
капитана, но видимо недостаточно быстро потому что успел лишь заметить как в окне
дома на втором этаже снова опустилась дешевенькая тюлевая занавеска из тех что
продаются на ярмарке и на которой был изображен павлин с длинным свисающим вниз
хвостом обрамленный ромбом наклонные грани которого ступенчато спускались по
клеткам тюля, хвост павлина качнувшись раз-другой застыл, в то время как внизу под
ним (но Жорж больше не смотрел туда, он только жадно следил за серовато-белой
тюлевой занавеской теперь совершенно неподвижной где замерла декоративная
причудливая птица за почти неосязаемой сеткой моросящего дождя который все шел и
шел, бесшумный, терпеливый, неустанный) с новой силой поднялся галдеж, какофония,
путаница голосов, бурно, бессвязно, пылко: «...прикончу его это так же верно как то
что я здесь стою Входите если угодно господин капитан но этот человек не переступит
порога дома не то я прикончу его я — Послушайте мой друг Господин помощник мэра
хочет только убедиться что комната эта — Да и потом почему бы ему не поместить их у
себя дом у него вон какой большой и комнат пустых полно почему бы ему — Но
послушайте не могу же я входить во все эти соображения мы — Я сам могу проводить
ваших унтер-офицеров в комнату Я вовсе не отказываюсь разместить их здесь да только
у некоторых в деревне по три-четыре комнаты и там никто не живет вот мне и хотелось
бы знать почему это он И кончай насмехаться ты не то я тебя прикончу прямо тут же
на месте понял черт тебя...», прижав винтовку к плечу, он прицелился, тот другой
живо скользнул за спины унтер-офицеров, но даже и тогда павлин не шелохнулся ничто
там не шелохнулось, фасад словно вымер, все в доме слов-по вымерло, только откуда-
то изнутри доносился какой-то ритмичный, монотонный, трагический стон, несомненно
вырывавшийся из горла женщины, но кричала это не Она: какая-то старуха, и хотя они
не могли видеть ее они представляли как сидит она в кресле, слепая, черная, прямая,
и стонет раскачиваясь взад и вперед. Тот еще некоторое время побрыкался но в конце
концов они его укротили. «Полноте!» говорил де Рейшак. Он видимо сдерживался чтобы
не повысить голоса. А может ему и не приходилось делать над собой пикаких усилий,
просто он был вне всего этого, по-прежнему держался несколько отчужденно (а во-
394
все не высокомерно: не было в нем никакого высокомерия, презрения — просто
отчужденность, вернее он словно бы отсутствовал), когда говорил: «Уберите же ваше
ружье, вот так и совершаются глупости», а тот: «Глупости? Вы называете это
глупостями? Мерзавец пользуется тем что ее мужа здесь нет и теперь уж пытается
среди бела дня проникнуть в дом который он... А ну! заорал он, Убирайся отсюда!», а
другой: «Господин капитан! Вы свидетель что ои...» — «Полноте, сказал де Рейшак.
Идите».— «Вы все свидетели что он...» — «Идите же, сказал де Рейшак. Ведь он заявил
что согласен разместить их здесь».
Но Жорж зря прождал несколько минут, она больше не появлялась в окне, только
неподвижный павлин застыл на серовато-белой занавеске, да по-прежнему из дома
доносился, хотя дверь теперь была закрыта, жалобный голос старухи и по-прежнему
казалось сами лезут в уши эти монотонные, ритмичные причитания, напоминавшие
напыщенную, нескончаемую декламацию, стенания античных плакальщиц, точно все это
(эти крики, этот накал страстей, необъяснимая безудержная вспышка ярости)
происходило не в эпоху ружей, резиновых сапог, каучука и готового платья но в
далекие-далекие времена, или во все времена, или вообще вне времени, а дождь все
моросил не переставая может быть с незапамятных времен, и все капало и капало с
ореховых и фруктовых деревьев: и заметить его можно было только на фоне какого-
нибудь темного предмета, или в том месте куда падала тень, у края крыши, быстрые
капли расчерчивали неуловимыми штрихами точно тирешками темный фон перекрещивая его
серыми линиями порой особенно крупная капля пригибала былинку которая тотчас же
вновь распрямлялась резким толчком и казалось по недвижному лугу то тут то там
пробегает мелкая дрожь; смутно вырисовывались дома и сараи образуя три стороны
неправильного прямоугольника вокруг водопойного желоба и какого-то каменного корыта
где в ледяной воде Жорж пытался простирнуть свое белье окоченевшими ледяными
пальцами натирая мылом выщербленный борт колоды к которому прилипала серая как
небосвод мокрая ткань под ней образовывались воздушные мешки надувались пузырями
линиями рельефами более светлого серого тона, проводя по ним мылом оп давил их и
они собирались в параллельные извилистые складочки когда он полоскал по воде
растекалось голубоватое облако, голубоватые пузырьки теснились
395
сливались медленно уплывали прокладывая себе изгибистую дорогу сквозь черную
истоптанную лошадьми грязь, скользя по ней вода струилась от одного отпечатка
копыта к другому, и в конце концов белье оказывалось почти таким же серым как и до
стирки, и Блюм сказал: «Почему ты не попросил ее постирать тебе белье? Боялся что
муж пальнет из ружья?» — «Да он ей вовсе не муж», сказал Вак и замолчал словно
жалея что заговорил, и снова склонил свое лицо неприязненного и молчаливого
эльзасского крестьянина над ведром где он начищал стремена и удила мокрым песком, а
Жорж: «А ты-то откуда знаешь?», а Вак продолжая надраивать стальную уздечку ничего
не ответил, Жорж повторил: «А ты-то откуда знаешь? Что тебе об этом известно?», Вак
по-прежнему не поднимал головы, склонив — скрыв — лицо над ведром, но в конце
концов недовольно буркнул, раздраженным тоном: «Знаю и все тут!», а Мартэн
насмешливо сказал: «Да он им сейчас помогал картошку копать. Работник их и сказал
ему: это просто его брат», а Блюм: «Ну а муж-то где? Загулял верно в городе?», а
Вак повернувшись к нему всем корпусом, сказал: «Загулял как и ты, сука поганая: с
каской на башке!», а Блюм: «Ты позабыл назвать меня грязным жидом. Я не сука
поганая: я жид. Тебе все-таки следует это помнить», а Жорж: «Хватит!», а Блюм:
«Оставь. Положил я на это знаешь», а Жорж: «Так значит, вот как, ты помог им копать
картошку и работник все тебе рассказал?», голоса их вырывались, вернее прорывались
сквозь серый моросящий дождик, нудный, терпеливый (подобный все множащемуся и
таинственному хрусту невидимых насекомых незаметно пожирающих дома, деревья, всю
землю без остатка) позвякивали по временам звонко и чисто стремена и уздечки:
только голоса солдат усталые и тоже монотонные взмывали вверх один за другим
чередуясь сталкиваясь но так как обычно говорят солдаты, то есть так же как они
спят или едят так же терпеливо безучастно скучающе словно бы они вынуждены были
изобретать искусственные причины для спора или просто повод для разговора, в сарае
все так же пахло мокрым сукном сеном, и всякий раз как кто-нибудь открывал рот
вырывалось облачко серого пара которое почти тотчас же таяло.
с чего это ему так не терпелось пострелять из ружья может оттого что идет война, и
все как же все
396
но он ведь колченогий его и пе забрали дьявольское везение чего бы я не дал чтобы
тоже быть колченогим и не идти
уж он-то наверняка так пе думает похоже ружье ему по сердцу и ему охота пустить его
в ход может оп невесть что отдал бы чтобы а другой какой другой ну тот с зонтиком
ты хочешь сказать помощник мэра
только пе вздумай меня уверять что в этой дыре где всего-то четыре дома имеется мэр
и помощник мэра может еще и епископ в придачу вот церкви-то я не видел так значит
она не может ходить к исповеди но может быть
ни кюре ни аптекаря ни водопровода Тут уж все па виду никуда не денешься Верно
поэтому он и сторожит ее с винтовкой на изготовку
да чего вы тут болтаете сволочь всякие мерзости и гнусности
гляди-ка Вак очнулся А я-то думал ты оглох Думал не желаешь разговаривать с грязным
жидом вроде меня хватит
положил я на это ясно а если положил он может называть меня как ему
черт побери прекрати наконец Да что же такое в конце концов с этой клячей
Они взглянули на лошадь по-прежнему лежавшую на боку в глубине конюшни: сверху на
нее была накинута попона из-под которой торчали только вытянутые прямые ноги,
неправдоподобно длинная шея с бессильно свисавшей головой которую она уже не могла
поднять, костлявой, слишком большой башкой вроде бы в каких-то уступах, с мокрой
шерстью, длинные желтые зубы виднелись из-под вздернутой губы. Только глаз казалось
жил еще, огромный, печальный, и в нем, на выпуклой блестящей ого поверхности, они
могли видеть самих себя, свои изогнутые скобкой силуэты выделявшиеся на светлом
фоне двери подобно голубоватому туману, пелене, бельму которое казалось уже
затягивало, застилало влагой этот ласковый взгляд циклопа, влажный и обвиняющий,
приходил ветеринар пускал ей кровь уж я-то знаю что с ней
397
Вак всегда все знает он ох кончай
это все Мартэн молотил ее каской по башке всю дорогу колошматил всю ночь я сам
видел готов биться об заклад он что-то ей повредил
раз нет другого способа заставить ее идти побыстрее не плестись рысцой
пришпорил бы ее хорошенько она бы да разве шпорами заставишь такую лошадь не
плестись рысцой от этого она еще больше очумеет
все равно разве позволено так обращаться с животным
а с человеком так обращаться позволено Шестьдесят километров не останавливаясь
скакать точно мячик да так и свихнуться недолго
все равно можно было еще что-то придумать а не дубасить ее каской сказал Иглезиа а
я не жокей я слесарь
раз уж ты такой ловкий и так любишь кляч чего ж ты с ним не поменялся вот и ехал бы
на ней он бы тебе ее уступил за милую душу знаешь он
какой с нее спрос с бедной животины если она плетется рысью
никакого но и с Мартэна тоже ведь не больно-то велико удовольствие вот ты бы и
предложил ему поменяться а я вовсе не собираюсь менять лошадь езжу на той которую
мне дали а это его лошадь ну тогда заткнись скажите пожалуйста лучше заткнись я не
доносчик какой-нибудь тем лучше для тебя
не воображай только что ты меня случаем запугал пет Может я не такой образованный
как ты но тебе меня пе запугать знаешь стоит мне пальцем ткнуть и ты полетишь вверх
тормашками что ж попробуй
тоже мне да ты и так па йогах еле держишься того и гляди скапутишься ты даже не
способен
Они продолжали спорить, но в их голосах не чувствовалось раздражения, скорее какая-
то жалоба, па них лежала печать безразличия свойственного крестьянам и солдатам,
такого же безликого, как их пегнущиеся мундиры, сохранившие еще (а это было в самом
начале осени, той
398
что пришла за последним мирным летом, ослепительным и порочным летом которое
представлялось им теперь уже таким далеким словно бы они смотрели старую
хроникальную ленту плохо отпечатанную и передержанную где, в едком свете, судорожно
жестикулировали окровавленные призраки в сапогах словно бы приводил их в движение
не их мозг грубых или глупых солдафопов но некий неумолимый механизм который
заставлял их двигаться, спорить, угрожать и похваляться, лихорадочно подхваченных
ослепляющим кипением знамен, кишением лиц и который казалось одновременно порождал
и рассовывал их кого куда, словно бы толпа обладала неким даром, безошибочным
инстинктом позволявшим ей обнаруживать в недрах своих и выталкивать вперед
благодаря некоей своеобразной самоселекции — или отторжению, или скорее дефекации —
неизменного болвана который будет размахивать плакатом и за которым все они
последуют в состоянии того экстаза и завороженности в какое погружает их, подобно
детям, вид собственных экскрементов), так вот, сохранявшие еще аппретуру новой
ткани мундиры куда их так сказать втиснули: не старая видавшая виды форма,
истрепанная за время учений многими поколениями рекрутов, каждый год подвергавшаяся
дезинфекции и, несомненно, как раз годная для возни с оружием, походившая на те
поношенные, взятые напрокат или купленные в рассрочку у старьевщика костюмы которые
раздают статистам для репетиций вместе с жестяными шпагами и пугачами, но всё
(мундиры, та экипировка что была у них) новехонькое, ненадеванное: всё (ткань,
кожа, металл) первосортное, как то неоскверненное полотно что набожно хранят в
семье, держат про запас дабы облачить в него покойника, словно бы общество (или
порядок вещей, или судьба, или экономическая конъюнктура — поскольку как утверждают
подобного рода факты просто-напросто вытекают из законов экономики) которое
готовилось их убить нацепило на них (так же как поступали первобытные народы с
молодыми людьми которых они приносили в жертву своим богам) все что имелось у него
самого лучшего из тканей и оружия, тратило не считаясь с расточительностью, с
варварской пышностью, на то что в один прекрасный день превратится в искореженный
ржавый железный лом и слишком просторные лохмотья болтающиеся на скелетах (живых
или мертвых), и сейчас Жорж лежа в зловонной непроницаемой темноте теплуш-
399
ки для скота думал: «Но что же это такое? История подсчитанных, пронумерованных
костей...» и еще: «Увы. Я влип: они пронумеровали мои руки и ноги... Во всяком
случае похоже на это».
Он попытался высвободить ногу из-под придавившего ее тела. Он ощущал ее уже как
некий неодушевленный предмет, более ему не принадлежащий, но тем не менее
мучительно вцепившийся изнутри в его бедро словно клюв, костяной клюв. Целый набор
цепляющихся друг за друга странным образом пригнанных одна к другой костей, целый
набор старого инвентаря скрипящего и дребезжащего, вот что такое скелет, подумал
он, теперь окончательно проснувшись (верно потому что поезд остановился — но
сколько времени он уже стоял?), слушая как они толкаются и спорят в углу у окошка,
узкого вытянутого в ширину прямоугольника на фоне которого вырисовывались их черепа
словно в театре теней: растекавшиеся движущиеся чернильные пятна сливались и
разливались, а поверх них ему видны были клочки ночного извечного майского неба,
усеянного далекими и извечными звездами, застывшими, неподвижными, непорочными, они
то возникали, то исчезали в прорезях между головами которые то размыкались то
смыкались, некая ледяная, хрустальная и нетронутая поверхность где могла скользить
не оставляя ни следов ни пятен эта черноватая, вязкая, вопящая и влажная субстанция
откуда исходили сейчас голоса и вправду жалобные и раздраженные, то есть спорящие
теперь из-за чего-то реального, важного, как к примеру глоток свежего воздуха
(голоса тех что были в глубине и бранили тех чьи головы закупоривали окошко) или
воды (голоса тех что стояли у окошка и пытались добиться от часового чтобы.он
наполнил водой их котелки), и Жорж в копце концов отказался от попытки извлечь,
высвободить то что как он знал было его ногой из-под этой груды, сплетения
конечностей которые навалились сверху, он продолжал лежать здесь в темноте,
стараясь вобрать в легкие воздух до того плотный и загрязненный что казалось ои пе
просто передавал запах, затхлый удушливый дух идущий от человеческих тел, но сам
превратился в этот пот и зловоние, был уже не тем прозрачным, неосязаемым, каким
обычно бывает воздух, но тоже плотным, черным, так что Жоржу казалось будто он
пытается вдохнуть нечто напоминающее чернила, саму субстанцию из которой состояли
также и движущиеся пятна в рамке окошка и которую
400
ему следовало постараться вобрать в себя всю вперемешку ( головы и мельчайшие
клочки неба) уповая на то что одновременно удастся уловить тонкий металлический луч
вонзавший сюда свои сверкающие, спасительные и короткие удары шпаги брызжущие
звездами, и опять начать все сначала.
Так что волей-неволей ему приходилось смириться с этой своей так сказать функцией
фильтра, думая при этом: «В конце-то концов, ведь я где-то читал, что узники пили
свою мочу...», неподвижно лежа в темноте ощущая как черный пот проникает в его
легкие и, в то же время, струится по его телу, и ему казалось он все еще видит
прямой негнущийся торс манекена, костлявый, невозмутимый, который продвигается
вперед слегка покачиваясь (то есть бедра подчинялись ходу лошади, а верхняя часть
корпуса — плечи, голова — оставались так же прямы, так же неподвижны словно он
скользил по натянутой проволоке) на светящемся фоне войны, сверкающего солнца в
лучах которого поблескивало расколотое стекло, тысячи треугольных ослепительных
осколков усыпавших бесконечным ковром безлюдную улицу неторопливо извивавшуюся
между кирпичными фасадами домов с выбитыми пустыми окнами среди ослепительной
тишины величественно размеченной неторопливой дуэлью двух одиноко перекликающихся
пушек, громом выстрела (откуда-то слева, со стороны огородов) и разрывами (снаряда
бьющего наугад по вымершему покинутому городу и обрушивающему кусок стены среди
тучи грязной долго не оседающей пыли) перемежающихся с какой-то дикой, идиотской и
бессмысленной пунктуальностью, а четверо всадников все так же продвигались вперед
(вернее они вроде бы оставались неподвижными, как в тех кинематографических трюках
когда видишь только верхнюю часть туловища персонажей, на самом деле находящихся
все время на одном и том же расстоянии от камеры, а длинная извивающаяся улица
перед ними — одна сторона ее освещена солнцем, другая в тени — как бы набегает,
разматывается им навстречу подобно тем декорациям которые можно воспроизводить до
бесконечности, тот же самый (как кажется) кусок десятки раз рушащейся степы,
поднятая взрывом-чуча пыли которая приближается, разбухает, вырастает, достигает
высоты уцелевшего куска стены, вздымается над ним, доползает до самого солнца в
зените, чсрпо-серая масса увенчанная желтым куполом все вздувается, растет, пока
401
вся туча целиком не исчезнет где-то слева за последним всадником, и в то же
мгновение вон там зашатался другой фасад, в той части улицы которую только что
открыли нам повернувшись вокруг своей оси фасады правой стороны, новый крутящийся
столб пыли и обломков (который как бы разбухает, разрастается наподобие снежного
кома, но в противоположность ему черпает нужный материал внутри себя самого
медленным движением по спирали разворачиваясь, расталкиваясь, наслаиваясь) столб
все увеличивающийся по мере того как он приближается — или как приближаются к нему
четверо всадников,— и так далее), он думал: «Даже если бы ему пришлось пасть еще
два раза он все равно ни за что не снизошел бы до того чтобы перевести коня на
рысь. Потому что несомненно так не подобает. Или потому что уже возможно нашел
наилучший выход, решил проблему окончательно и принял решение. Как и другой
кентавр, другой горделивый глупец, за сто пятьдесят лет до него, но тот хоть
воспользовался своим собственным пистолетом чтобы... Все это просто-напросто
гордыня. И ничего больше». И прерывисто дыша в потемках, он потихоньку продолжал
ругать их обоих: эту глухую, слепую и жесткую спину упрямо продвигавшуюся вперед у
него перед глазами среди дымящихся развалин войны, и того другого, чье лицо
неподвижно застыло, торжественное и жесткое в своей потускневшей раме, точно такое
каким он видел его все свое детство, с той лишь разницей что пятно с неровными
краями, вытянутое вертикально, с течением времени спустилось ниже на нежную, почти
женскую шею выступавшую из ворота рубашки, запачкало охотничью куртку и стало
теперь уже не красноватой грунтовкой холста которую обнажила облупившаяся краска,
но какой-то темной запекшейся медленно стекающей массой, словно бы, сквозь дыру
проделанную в картине, сзади проталкивали густое и темное повидло и оно скользило,
сползало понемногу по гладкой поверхности картины, на розовые щеки, кружева,
бархат, а неподвижное лицо с той парадоксальной бесстрастностью что присуща
мученикам на картинах старых мастеров, продолжало смотреть прямо перед собой, с
чуть глуповатым, удивленным, недоверчивым и ласковым видом какой бывает у людей
погибших насильственной смертью, словно бы им в последний миг открывается нечто
такое о чем они в течение всей своей жизни никогда даже и не задумывались, то есть
несомненно нечто совершенно против-
402
ное тому что может постичь мысль человеческая, настоль^ ко поразительное,
настолько...
Но в его намерения вовсе не входило ни философствовать ни утруждать себя пытаясь
помыслить о том чего мысль человеческая не в силах вместить или постичь, поскольку
сейчас всё сводилось всего-навсего к тому чтобы постараться высвободить свою ногу.
Потом, прежде даже чем Блюм спросил его, он подумал Который теперь может быть час,
и прежде даже чем успел ему ответить Какая разница, он ответил это уже себе самому,
рассудив что так или иначе им не на что теперь употребить свое время, поскольку они
не выйдут из этого вагона пока он не проедет предусмотренное расстояние, а это для
тех кто регламентировал его маршрут было вопросом отнюдь не времени, но организации
железнодорожного движения таким же как если бы в нем перевозили обратным фрахтом
пустые ящики или поврежденную боевую технику, словом то что в военное время
перевозят в последнюю очередь: и вот пытаясь объяснить Блюму что время как таковое
есть лишь простейшая информация позволяющая управлять собой исходя из положения
своей тени а вовсе не средство узнать не пришла ли пора (то есть не подошла ли
подходящая пора) поесть или поспать, поскольку спать-то они могли сколько угодно,
ничего другого им даже не оставалось, соразмеряясь, однако, с тем чтобы множество
чужих конечностей, перепутанных, налезающих друг на друга не придавили бы вам руку
или ногу, во всяком случае то что как вы знали было раньше вашей рукой или ногой
хоть и сделалось теперь почти нечувствительным и, в какой-то степени, отделенным от
вас, ну а что касается того не пришла ли пора поесть то это легко было определить —
или вернее установить — исходя не из того что ты проголодался как бывает обычно
около полудня или около семи вечера, а из того не наступила ли уже та критическая
точка когда разум (а вовсе не тело, которое может выдержать гораздо дольше) не в
силах больше ни минуты лишней вы-пести мысли — пытки — что имеется нечто что может
быть съедено: и вот он не спеша шарил в темноте пока ему не удавалось развязать
хранимый из осторожности под головой (таким образом сознание того что существует
кусок хлеба в некотором роде постоянно присутствовало в его мозгу) тощий рюкзак
откуда он извлекал, почти с той же осторожностью с какой извлекал бы взрывчатку,
некий предмет который его пальцы опознали (по какой-то рас-
403
сыпчатой шероховатости, по приблизительно овальной и плоской форме — слишком
плоской) как именно тот предмет который они искали и размеры и форму которого ои
считал своим долгом определять на глазок (все так же на ощупь) как можно точнее
пока не решал что достаточно уже обследовал его и теперь надо попытаться разломить
его на две равные части стараясь при этом (опять-таки с той же осторожностью словно
бы это был динамит) подбирать все невесомые крошки которые сыплются ему в пригоршню
о чем он догадывался по легкой, почти неощутимой щекотке и он в конце концов
распределил их почти поровну на каждую ладонь, но пойти дальше этого, окончив
дележ, был уже неспособен, то есть неспособен найти в себе достаточно мужества,
самоотречения или душевного величия, чтобы уступить Блюму тот кусок который казался
ему больше, и предпочитал подставить ему в темноте обе ладони которые Блюм
отыскивал протягивая вперед руку, и после этого он старался как можно скорее забыть
(то есть заставить забыть об этом свой желудок где, в то самое мгновение когда Блюм
делал выбор, что-то сжималось, бунтовало, вопило уже с какой-то дикой рыдающей
яростью) забыть о том что он знает что Блюму достался лучший кусок (то есть тот
который весил должно быть на пять-шесть граммов больше), и вот он стремился думать,
прежде всего, только о крошках которые высыпал из ладони в рот, потом только об
этой вязкой массе стараясь жевать как можно медленнее и при этом еще воображать что
его рот и желудок это рот и желудок Блюма которому теперь он пытался объяснить что
виной всему было солнце скрывшееся в ту самую минуту, хотя, подумал он, никогда он
всерьез не надеялся что им может повезти даже будь на небе солнце: «Потому что я
великолепно знал что это было невозможно что не было другого исхода и что мы в
конце концов попадемся: все это пи к чему не вело однако мы сделали попытку я
сделал попытку шел до конца притворяясь что верю будто нам может повезти упорствуя
в этом не с безнадежностью отчаяния но так сказать лицемерно хитря с самим собой
словно бы надеясь что сумею заставить себя поверить что я верил что это было
возможно тогда как я знал что все наоборот, и плутая кружа по этим дорогам между
этими изгородями точными копиями той за которой притаилась в засаде его смерть, где
на мгновение я увидел как сверкнула из ружья черная молния прежде чем он упал
рухнул точно подорванная ста-
404
туя покачнувшись вправо, и тогда мы повернули назад и взяли в галоп пригнувшись
приникнув к лошадиной холке чтобы не послужить мишенью а тот за изгородью стрелял
теперь по нас, и среди залитой солнцем широкой равнины мы слышали разрывы выстрелов
слабые смертельные и смехотворные точно стреляли из петарды, из детского пугача, и
тут Иглезиа сказал Он попал в меня, но мы продолжали скакать и я сказал А ты знаешь
куда, а он В бедро вот скотина, я сказал Можешь продержаться еще немного, жалкие
плевки автоматных очередей теперь ослабели потом и совсем прекратились: не замедляя
хода не выпуская поводьев скакавшей рядом с ним запасной лошади он провел ладонью
сзади по бедру потом взглянул на свои пальцы и я тоже взглянул они были слегка
выпачканы в крови я спросил Больно, но он пе ответил и все проводил ладонью по
бедру которое мне не было видно поэтому я смотрел на его пальцы, лошади наделены
особым чутьем поскольку я никогда прежде не ездил по этой дороге разве что он здесь
бывал, все так же не замедляя хода все три одновременно повернули направо и тут
Иглезиа застонал О-оо-оо... о-аааа... тогда они перешли на шаг, и опять ничего не
было слышно кроме щебета пичужек, тяжелого дыхания трех лошадей их фырканья я
спросил Ну что? Он снова взглянул на свою ладонь потом изогнулся в седле но мне
ничего не было видно потому что задето у него было правое бедро, когда он
выпрямился вид у него был озабоченный и сонный скорее даже ошеломленный и главное
недовольный он пошарил в кармане вытащил оттуда грязный носовой платок когда он
отнял его от раны все с тем же ошеломленным и сердитым видом на платке была кровь я
спросил Сильно задело? но он не ответил только пожал плечами и сунул платок в
карман вид у него был скорое раздосадованный словно он злился что был не серьезно
ранен что пуля только оцарапала его, наши конные тени шагали слева от нас и
сливались теперь с прямоугольником подстриженной живой изгороди: поскольку была
весна кустарник еще не успел подрасти и все вокруг напоминало сад с низко
подрезанными деревьями, именно сад напоминал этот самшитовый пожалуй даже хвойный
кустарник мне представлялись геометрически подстриженные лужайки сады на
французский манер вычерченные затейливыми перепутанными линиями купы деревьев и
уголки Для любовных свиданий маркизов и маркиз переряженных
405
пастухами и пастушками которые ищут друг друга на ощупь вслепую ищут и находят
любовь смерть тоже переряженную пастушкой в лабиринте аллей и значит мы могли бы
здесь встретить его он мог бы стоять на повороте дороги, прислонившись спиной к
изгороди невозмутимый спокойный и убитый наповал в своем голубом бархатном
охотничьем костюме с напудренными волосами с ружьем и дыркой посредине лба а из
виска теперь непрерывно струилось что-то как на тех картинах или у статуй святых
чьи глаза или стигматы начинают слезоточить или кровоточить раз или два раза в
столетие по случаю великих катастроф землетрясений или огненных дождей, что-то
вроде темно-красного повидла, словно бы война насилие убийство как бы воскресили
его дабы убить вторично словно бы выпущенная из пистолета полтора века назад пуля
все эти годы стремилась достичь своей второй мишени дать заключительный аккорд
новому бедствию...»
Потом (он по-прежнему лежал полузадохнувшись в этой удушающей темноте) ему
почудилось будто он и вправду видит его, такого же неуместного, такого же
необычного среди этих зеленеющих просторов как те похоронные процессии которые
встречаешь порой, когда они движутся среди полей как некий гнусный,
святотатственный маскарад и — как и всякий маскарад — с налетом гомосексуальности,
несомненно потому что (так одинокая пожилая дама, которая обнаружив грубые башмаки
торчащие из-под юбки, и жесткую щетину вдруг выступившую на щеках служанки,
внезапно с ужасом понимает в тот самый миг когда та приносит ей суп что эта славная
старушка с чуть грубоватым лицом которую она наняла нынче утром на самом-то деле
мужчина, и тогда с неотвратимостью сознает что этой ночью будет убита), потому что
замечаешь неуклюжие ботинки священника из-под непорочного стихаря и грязные ноги
мальчика-певчего шагающего во главе процессии не оборачиваясь горланящего молитвы в
то время как глаз его косится на кусты с тутовыми ягодами, а высокий медный крест
вставленный в кожаный кармашек перевязи которая спускается к самому низу его живота
(так что кажется будто он держит обеими руками каким-то ребяческим, озорным и
двусмысленным жестом некий несоразмерно большой приапический символ торчащий у него
между ляжками, черный и увенчанный крестом) покачивается над хлебами точно мачта
дрейфующего корабля, медное распятие, тяжелое серебряное
406
шитье ризы отбрасывают резкие металлические блики в туманном воздухе где еще долго
после этого держится как погребальный след могильный запах склепа и гробницы: так
продвигается смерть через поля в тяжелом парадном одеяпии с кружевами, в грубых
башмаках убийцы, а он (тот другой Рейшак, предок) стоит здесь, наподобие тех
театральных привидений, персонажей возникающих из люка по мановению волшебной
палочки иллюзиониста, стоит за дымовой завесой от петарды, словно бы взрыв бомбы,
случайного снаряда, выкопал его, эксгумировал, извлек из таинственного прошлого в
смердящем смертоносном облаке но не пороха а ладана который, рассеиваясь,
постепенно откроет его, старомодно одетого (вместо воцарившейся повсюду шинели
землистого цвета убитых солдат) в этот аристократический и нарочито небрежный
костюм охотника на перепелов в котором он позировал для этого портрета где
разрушительная работа времени — обветшание — впоследствии исправила (подобно
корректо-ру-шутнику, или скорее педанту) забывчивость — или скорее
непредусмотрительность — художника, наложив (и даже в той же самой манере что и
пуля, то есть вышибив кусок лба, таким образом поправка эта была сделана не
прибавлением нового мазка, как поступил бы другой художник, если бы ему поручили
позднее внести коррективы, но тем что открылась также дыра в лице — или в слое
краски имитировавшем это лицо — так что обнажилось то что было под краской),
наложив здесь это алое кровавое пятно как что-то нечистое казавшееся трагическим
изобличением всего остального: этой нежности — и даже томности,— этих глаз, газели,
этой буколической и непринужденной небрежности одежды, и этого ружья, тоже больше
смахивавшего на некую принадлежность котильона или маскарада.
Потому что возможно это мужественное снаряжение охотника — ружье, широкий красный
ремень ягдташа любителя мертвых зверей, где могли бы лежать вперемежку меха и
крапчатые перья как на тех натюрмортах где свалены в кучу зайцы, куропатки и фазаны
— не было ли все это здесь лишь средством принять красивую позу, подобающую осанку
как, в наши дни, люди фотографируются па ярмарках просовывая голову в овальные
отверстия вырезанные в том месте где должны находиться лица персонажей
(воображаемых летчиков, клоунов, танцовщиц) нарисованных на простом холсте, Жорж
как зачарован-
407
ныи глядел на эту чуть полноватую, женоподобную, ухоженную руку указательный палец
которой, в сумятице той далекой ночи, нажал курок оружия направленного им на самого
себя (оружие он тоже видел, дотрагивался до него: один из двух длинных пистолетов с
узорчатыми шестигранными стволами что лежали валетом среди всевозможного снаряжения
— штыков, форм для отливки пуль, продолговатых сосудов для пороха и прочих
аксессуаров каждый в специальном гнезде углублении в зеленом бильярдном сукне
траченном молью в ящике красного дерева торжественно красовавшемся обычно на комоде
в гостиной, в дни приемов с откинутой крышкой, закрытой во все остальные дни во
избежание пыли), и вот уже: его собственные пальцы сжимают оружие слишком тяжелое
для его детской ручонки, оттягивают курок (но это приходится делать двумя руками,
изогнутая рукоятка пистолета зажата между колен, большие пальцы соединенными
усилиями стараются сломить двойное сопротивление ржавчины и пружины), прикладывают
дуло к виску а, согнутый побелевший от напряжения, палец жмет па курок до тех пор
пока не раздается щелчок сухой, жалкий (кремень был заменен кусочком дерева
обернутого фетром) и смертельный щелчок собачки глохнущий в тишине комнаты, той
самой комнаты — где теперь была спальня его родителей,— и где ничто не изменилось
кроме может быть обоев на стенах и трех-четырех предметов — таких как вазы, рамки
для фотографий, электрическая лампочка — помещенных или скорее введенных сюда,
утилитарных и слишком новых, похожих на шумных, невыносимых и сияющих лакеев
приглашенных из конторы по найму прислуживать па ассамблее призраков: та же
лакированная мебель, те же шторы в блеклых полосах, те же гравюры на стенах
изображающие галантные или буколические сценки, тот же камин белого мрамора в
бледно-серых прожилках, на который некогда оперся Рейшак чтобы разнести себе череп
(так говорили, вернее говорила Сабина — а может быть она все это выдумала,
приукрасила, чтобы вся сцена выглядела еще более захватывающей — всякий раз когда
рассказывала эту историю) и Жорж так часто представлял себе его у этого самого
камина, как он сидел здесь, протянув к огню ноги в форме ижицы в заляпанных грязью
дымящихся сапогах, а рядом лежала одна из его собак, и маленькая пухлая ухоженная
рука выглядывавшая из кружевных манжет его рубашки с пышными складками,
408
держала на сей раз не пистолет но нечто (особенно для него не получившего никакого
образования, которого ничему не учили кроме исключительного и вполне безобидного
умения обращаться с лошадьми и оружием) нечто столь же опасное, взрывчатое (другими
словами то неотвратимым завершением чего возможно и был выстрел из пистолета):
какую-то книгу, возможно один из двадцати трех томов составляющих полное собрание
сочинений Руссо на форзаце которого красуется тот же росчерк, каролингским,
горделивым и властным почерком каллиграфически выведена гусиным пером скрип
которого по шершавой пожелтевшей бумаге казалось он все еще слышит застывшая
формула: Hie liber 1 — огромное, напыщенное Н, в виде двух повернутых друг к другу
спиной скобок соединенных волнистой перекладиной, концы скобок завивались спиралью
подобно узорам на тех изъеденных ржавчиной решетках что еще охраняют вход в
заросшие колючим кустарником парки,— потом ниже: pertinetadme, в одно слово, потом,
уменьшающимися литерами, латинизированное имя без заглавной буквы: hen-ricum, потом
дата, год: 1783.
Итак он представлял его себе, видел как тот добросовестно читал один за другим все
двадцать три тома трогательной, идиллической и сумбурной прозы, жадно проглатывая
вперемежку путаные женевские уроки гармонии, сольфеджо, воспитания, глупости и
гения, все эти излияния, эту зажигательную болтовню непоседы берущегося за все,
музыканта, эксгибициониста и нытика который, в конечном счете, и довел его до того
что он приставил к виску зловещее и холодное дуло этого... (но тут раздался голос
Блюма: «Ладно! Значит он нашел, вернее пашел способ найти для себя славную смерть
как это припято называть. Ты говоришь, в традициях своей семьи. Повторив, совершив
то что за сто пятьдесят лет до него другой де Рейшак (который назывался если я
правильно понял просто Рейшак поскольку, от избытка благородства, для пущего шика и
элегантности, отбросил частичку «де» которую его потомки впоследствии подобрали и
снова привесили к своей фамилии предварительно велев навести на нее блеск целой
армии слуг — или денщиков — в ливреях — или в военной форме — в годы Реставрации),
так значит то что другой Рейшак уже совершил по собственной воле пустив
1 Вот книга (лат.).
409
себе пулю в висок (если только с ним не произошло самым глупейшим образом
несчастного случая когда он чистил свой пистолет, как это нередко бывает, но тогда
не было бы этой истории, истории по крайней мере достаточно сенсационной для того
чтобы твоя мать прожужжала тебе и своим гостям все уши, поэтому признаем, признаем
что так оно и было) поскольку он так сказать самому себе наставил рога, то есть
самого себя одурачил: и значит, одурачило его не коварное женское создание как это
произошло с его далеким потомком но в некотором роде его собственный мозг,
собственные его идеи — или же если у него их не было то чужие идеи — сыгравшие с
ним такую скверную шутку словно бы, за отсутствием жены (но ты кажется говорил что
у него вдобавок ко всему прочему была еще жена и что она тоже...), тогда вернее:
словно бы не довольствуясь тем что ему приходится терпеть жену он еще обременил
себя, нагрузил себя идеями, мыслями, что для тарнского богатого помещика, как
впрочем и для любого другого, является немалым риском еще большим чем женитьба...»,
а Жорж: «Верно. Верно. Верно. Но как знать?..»)
И оп вспомнил в эту самую минуту об одной подробности, об этом странном
обстоятельстве о котором в семье рассказывали лишь понизив голос (хотя Сабина
говорила, что она лично в это не верит, что все это выдумки, что ее бабушка всегда
утверждала что это просто злословие, басня распространяемая слугами которых
подкупили политические враги — санкюлоты, так говаривала ее бабушка, совершенно
забыв что он-то как раз и был на стороне санкюлотов, то есть что если впоследствии
клеветники и злословили о нем и об обстоятельствах его смерти, то делать это могли
только роялисты, что, в некотором смысле, подтверждало, хотя бы отчасти,
правильность ее суждений: а именно что источником этих слухов вполне вероятно была
челядь, в силу того закона что люди связанные с другими людьми подневольными
отношениями являются яростными приверженцами — словно это служит своего ро~ да
оправданием их положения — строго иерархического общества, таким образом, если бы
сторонники старого режима стали бы, что и вправду было вполне вероятно, искать
союзников против Рейшака, несомненно самых надежных союзников они нашли бы среди
его собственных слуг), обстоятельство это, правдивое или вымышленное, придает всей
истории какой-то двусмысленный, скандальный отте-
410
нок: нечто в духе одной из гравюр под названием «Застигнутый любовник» или
«Соблазненная девица», все еще украшавших стены спальни: лакей поспешно прибежавший
на шум выстрела, кое-как одетый, просторная рубаха наполовину вылезла из панталон
которые он натянул выскочив из кровати, и возможно, за его спиной служанка в ночном
чепце, чуть ли не голая, одной рукой зажимает рот сдерживая крик а другой неловко
придерживает капот который сползает с плеча обнажая грудь (а может быть она подняла
руку вовсе не для того чтобы сдержать крик: скорее загораживает сложенной лодочкой
ладонью пламя второй свечи ( это объясняет почему она видна хотя стоит чуть позади,
еще не переступив порога, еще в темноте коридора) стараясь защитить огонек от
сквозняка налетевшего когда взломали дверь (свет пламени пробивается у нее между
пальцами, и от этого кажется будто внутри каждого пальца виднеется смутная тень
кости окруженная прозрачной розовой плотью): так вот она держит в то же самое время
одной рукой этот ночной капотик почти не прикрывающий грудь, и свечу пламя которой
защищает другой рукой, так что ее юное испуганное личико освещено снизу, словно бы
кенкетами рампы в некоем театре, и все тени как бы перевернуты, то есть расположены
не под выпуклостями а над ними, и в темноте выступают ее черты — нижняя губа,
ноздри, скулы, верхнее веко и лоб над бровями), а камердинер виден со спины, его
правая, чуть согнутая, нога вынесена вперед, левая назад (то есть тяжесть тела
целиком перенесена на правую ногу: не просто фаза ходьбы или даже бега, а скорее
позиция танцора приземляющегося после прыжка, положение красноречиво объясняющее то
что только что произошло: неудержимый напор навалившегося на дверную филенку тела,
с выставленным вперед правым плечом, правая нога согнутая в колене поднята,
последний рывок, последний толчок левой ногой, и вот — с третьей или четвертой
попытки — дверная филенка (вернее замок) уступает, трещит вырванная с мясом
замочная личина и разлетающееся на куски дерево, и в этот миг, из-за нарушенного
равновесия, тело слуги катапультируется и снова приземляется на согнутую правую
ногу при этом кажется что он тащит за собой левую ногу, которая вся целиком
вытянута так что бедро, икра и ступня составляют одну прямую линию, пятка поднята,
ступня (голая потому что он — камердинер — успел только натянуть панталоны)
касается пола лишь кончиками паль-
411
цев, правая рука теперь высоко поднимает свечу которая находится почти что в центре
заднего плана картины, таким образом камердинер помещен против света, видимая нам
часть его тела — то есть спина — почти полностью в тени тонкой перекрестной
штриховки словно набросанной резцом и легко очерчивающей рельефы выпуклостей, так
что, с близкого расстояния, формы тела, а именно его мускулистые предплечья,
кажутся окруженными своеобразной сеткой петли которой сужаются в тех местах где
тень гуще), а весь свет так сказать сконцентрирован, поглощен крупным телом лежащим
у камина, дугообразно выгнутым, мертвенно-бледным и нагим.
Поскольку так и было (согласно легенде, или, по словам Сабины, клевете изобретенной
его врагами): обнаружили его совершенно раздетым, он сбросил с себя всю одежду
прежде чем пустить себе пулю в лоб у этого камина в том самом углу где Жорж,
ребенком, и даже потом позднее, проводил немало вечеров невольно стараясь отыскать
на стене и на потолке (хотя он прекрасно знал что, с тех пор, комната много раз
перекрашивалась и оклеивалась обоями) следы пули на штукатурке, представляя все это
себе, словно бы заново переживая, как бы видя воочию, в этом тусклом,
сладострастном, ночном беспорядке галантной сцены: возможно опрокинутые кресло и
стол, и сорванные с лихорадочной поспешностью нетерпеливого любовника одежды,
отброшенные, раскиданные повсюду, и это распростертое мужское тело весьма
деликатной комплекции, почти женственное, огромное и нелепое, и пляшущие тени
бросаемые пламенем свечи играющие на белой прозрачной коже, цвета слоновой кости
или скорее голубоватой, а в центре эта купина, куща, это темное, расплывчатое
словно смола пятно, и хрупкий как у поверженной статуи уд поверх бедра,
перечеркивающий пах (тело, при падепии, слегка отклонилось влево), и на всей
картине отпечаток какой-то непостижимой тревоги, чего-то двусмысленного, влажного и
леденящего в одно и то же время, завораживающего и отталкивающего...
«Вот я и задавался вопросом не было ли и у него тогда такого же удивленного слегка
смущенного идиотского лица как у Вака когда его вышвырнуло из седла и ои лежал
мертвый с головой свисавшей вниз с откоса у обочины и глядел на меня широко
открытыми глазами с широко открытым ртом, впрочем у него и всегда-то выражение лица
было довольно-таки идиотское и смерть ясное
412
дело тут уж ничего ие могла улучшить, но наоборот еще больше все обострила, потому
что лишила лицо подвижности на нем застыло это ошеломленное оглушенное выражение
словно явленное во внезапном откровении смерти представшей наконец не в форме
некоего абстрактного понятия о ней с коим мы привыкли жить но в своей конкретной
реальности вдруг возникшей вернее обрушившейся как насилие как агрессия, акт
неслыханной немыслимой жестокости несоразмерной несправедливой незаслуженной тупая
и ошеломляющая злоба миропорядка которая не нуждается пи в каких резонах дабы
обрушиться на вас вот так бывает налетаешь башкой на уличный фонарь которого ты
погруженный в свои мысли не заметил сведя как говорится таким путем знакомство с
глупой оскорбительной и дикой злобой чугуна, свинец снес ему полчерепа, может быть
поэтому лицо его выражало некое удивление укоризну но одно только лицо потому что я
полагаю сознание его должно быть давно уже переступило ту черту за которой ничто
больше не могло его удивить или разочаровать после того как он растерял последние
свои иллюзии в этой панике разгрома, и следовательно уже устремился к тому небытию
куда выстрел дослал одну только его телесную оболочку желая воссоединить их: долгое
время я видел лишь его спину поэтому мне неведомо было не покинула ли его уже
вернее ие освободился ли он окончательно от способности удивляться или страдать и
даже рассуждать так что возможно просто тело а не сознание подвигло его на тот
бессмысленный и нелепый жест когда он обнажил саблю и потряс ею поскольку он
несомненно в то самое мгновение был уже мертв ведь вполне вероятно что тот за
изгородыо прежде всего прицелился в самого старшего по чину а чтобы всадить в вас с
десяток пуль из автомата времени требуется гораздо меньше чем на то чтобы совершить
целую серию этих операций а именно правой рукой схватить эфес сабли висящей у
левого бедра вытащить ее из ножен и вскинуть клинок, впрочем говорят у трупов
бывают порой рефлекторные мышечные сокращения достаточно сильные и даже достаточно
координированные для того чтобы вызвать у них какие-то действия как у тех уток у
которых отрубают голову а они все еще продолжают ковылять спасаясь нелепо пробегают
многие метры прежде чем упадут замертво: короче говоря просто-напросто история с
отрубленными шеями коль скоро в силу традиции версии лестной семейной легенды тот
другой пошел на это вынужден
413
был пойти на этот шаг дабы избежать гильотины Так вот им следовало бы с этого дня
изменить свой герб заменить трех горлиц безголовой уткой мне представляется что так
было бы лучше это был бы наилучший символ по крайней мере более ясный коль скоро
можно утверждать что вне всяких сомнений и тот и другой уже потеряли свою голову:
самая обыкновенная безголовая утка потрясала саблей вскинув ее сверкнувшую в
солнечных лучах прежде чем обе они, и лошадь и утка, рухнули набок за сгоревшим
грузовиком упали как подкошенные точно в тех фарсах когда внезапно вытягивают ковер
из-под какого-нибудь персонажа, живая изгородь здесь я думаю была не то из кустов
боярышника не то из граба такие маленькие гофрированные листочки вернее плоеные
если употребить портняжный термин (или может быть плиссированные) совсем как
маленькие воротнички по обеим сторонам главной жилки, высокие наши тени скользили
по ним переламываясь под прямым углом подобно ступенькам лестницы, горизонтальные,
вертикальные, потом снова горизонтальные, каска моя перемещалась по плоскому верху
кустарника, три лошади (они теперь дышали уже не так тяжело, ноздри той на которой
ехал Иглезиа расширялись раздувались и опадали подобно еще вздрагивающим мехам
органа а внутри разбегались красные набухшие жилки разветвляясь в виде молний), три
лошади шли бок о бок занимая почти всю ширину дороги, я нагнулся чтобы потрепать
свою лошадь по холке но под уздечкой которая натирала ей шею она была вся потная
взмыленная в серой пене я обтер руку о штаны сбоку тут он фыркнул и сказал Вот уж
сволота, а я Больно тебе? но он не ответил вид у него был все такой же недовольный
словно он злился на меня но в конце концов он сказал Да нет думаю это ерунда, и еще
Вот сволота это точно, потом я увидел что наши тени бегут уже впереди нас Вот
подлость-то, сказал он, а это еще что такое? Непо-движпо застыв на перекрестке
дороги они смотрели как мы приближаемся казалось они не то отправлялись к мессе не
то возвращались после нее принарядившиеся как для торжественной церемонии для
праздника, женщины в темных платьях и в шляпках у некоторых в руках черный зонтик
или черная сумочка а у некоторых чемодан или прямоугольные плетеные корзинки с
ручкой на крышке которая закреплялась пропущенной через кожаные петли планкой с
висячим замком, когда мы подъехали совсем близко один из мужчин сказал Убирайтесь
отсюда, их лица абсолютно
414
ничего не выражали, Не видели вы проезжали здесь кавалеристы спросил я, но тот же
голос повторил Катитесь отсюда Убирайтесь, наши три лошади остановились тени наших
касок почти касались их черных воскресных башмаков я сказал Мы отбились от своих
попали утром в засаду только что убили нашего капитана мы ищем своих потом какая-то
женщина принялась кричать потом закричало разом множество голосов Да они же тут
кругом убирайтесь отсюда если они нас с вами застанут они нас убьют, Иглезиа не
повышая голоса снова повторил Вот сволота, но я не понял о них он так или о том
типе что стрелял в нас из-за изгороди не мог догадаться говорил он во множественном
числе или в единственном и припоминаю что в эту самую минуту я услышал шум водопада
низвергавшегося из-под лошади которая зашевелилась раздвигая ноги я пригнулся к
холке чтобы не давить ей на поясницу и застыл вытянувшись вперед упершись взглядом
в землю, а во все стороны летели желтые брызги мочи и человек стоявший ближе всех
отпрянул назад явно опасаясь испортить воскресный костюм, моча извивалась по
вымощенной щебенкой дороге словно некий пупырчатый дракон нерешительно вытягивал
голову нащупывая отыскивая путь поворачивая то вправо то влево а тело его все
разбухало но земля очень быстро поглотила его и осталось только темное влажное
пятно похожее на спрута и в его щупальцах гасли одна за другой крошечные точки
поблескивавшие словно булавочные головки, и тут я выпрямился в седле и сказал
Поехали нечего здесь торчать, я тронул лошадь и они расступились пропуская нас
торжественные прямые и враждебные в своей воскресной одежде, Сволота деревенская
буркнул Иглезиа, потом мы услышали чей-то крик у себя за спиной и я обернулся они
даже с места не сдвинулись это кричала женщина а лица остальных были по-прежнему
враждебными и хмурыми но теперь уже они смотрели на нее с каким-то неодобрением,
Что она сказала? спросил я, Иглезиа тоже обернулся, держа в прижатом к бедру кулаке
поводья и трензельную уздечку запасной лошади, женщина несколько раз взмахнула
рукой Налево сказал он она говорит надо взять налево говорит там можно будет
пробиться в глубокий тыл, тут все принялись говорить и жестикулировать одновременно
до меня доносились злобные голоса спорящих Так куда же? спросил я и наконец-то
разгадал то что так упорно пытался понять с той самой минуты с того самого
мгновения когда я увидел
415
их торжественных и чопорных в этой вовсе и не празднич-ной а подумал я траурной
одежде вот почему пришли мне на ум эти черные и чинные похоронные процессии ко-
торые встречаешь порой на утопающих в зелени деревенских трактах (а тот тип все
продолжал яростно размахивать зонтом словно прогонял пас словно все еще вопил
Убирайтесь вон Проваливайте проваливайте отсюда!) Она говорит надо взять влево,
сказал Иглезиа, теперь наши тени бежали уже перед нами я видел как они шагали
вперед словно на ходулях Но сказал я ведь так мы вернемся к..., а Иглезиа Раз уж
она сказала что там можно пробиться в тыл она верно получше тебя знает, скрылось
солнце скрылись тени в последний раз я увидел их позади нас и вот они скрылись
затаились за изгородью, поля не освещенные солнцем казались совсем вымершими
заброшенными пугающими своей привычной невозмутимостью неподвижностью таившей в
себе смерть столь же привычную столь же невозмутимую и столь же мало рассчитанную
на эффект как леса деревья цветущие луга...»
Потом он вдруг спохватился что вовсе и не Блюму объясняет все это (Блюм уже более
трех лет как умер, то есть он знал что тот умер поскольку помнил он лишь одно: лицо
точно такое же как то серое дождливое утро в сарае, только ставшее еще меньше,
совсем сморщившееся и несчастное, между огромными оттопыренными ушами которые
казалось все вырастали по мере того как лицо усыхало, таяло, и все тот же взгляд
лихорадочный, безмолвный, блестящий взгляд, в котором отражался темно-желтый свет
электрических лампочек освещавших барак, во всяком случае вполне достаточно
освещавших его для того чем им продстояло заниматься: продрать глаза, приподняться
на своих койках и просидеть так с минуту в каком-то оцепенении пока они наконец
осознают, как и каждое утро, где они находятся и кто они такие, а потом слезть с
койкн, просто-напросто чтобы встать на ноги и зашнуровать башмаки — ни для чего
другого (потому что теперь уж они совсем позабыли что значит раздеваться, разве что
по воскресеньям когда они били вшей) и вытряхнуть пыльную соломенную подстилку на
которой они спали ночыо, натянуть шинели и наконец выстроиться во дворе в темноте
ожидая зари ожидая пока их подсчитают и пересчитают как скотину: так вот света было
вполне достаточно для всего этого и для того чтобы он мог видеть носовой платок
который Блюм прижимал к губам, и то что платок этот был почти черный,
416
по вовсе не от грязи, другими словами будь лампочки посильнее он наверняка увидел
бы что платок красный, но в полумраке он казался просто черным, а Блюм по-прежнему
молчал, только в его слишком блестящих глазах застыло какое-то душеледенящее
отчаяние и покорность, а Жорж: «Да это всего лишь малая капелька кр... Вот чертов
счастливчик! Можешь считать что тебе повезло: сиделка, белые простыни, да еще
отправят тебя на родину как больн... Вот уж чертов счастливчик!», а Блюм все глядел
на него ничего не отвечая, только в темноте блестели его черные, широко раскрытые,
как у ребенка, глаза, а Жорж все говорил, все повторял: «Чертов счастливчик чего бы
я не дал чтобы тоже чуточку похаркать: отхаркнуть бы капельку совсем капельку крови
черт возьми если бы я тоже мог но уж мне такая удача ни за что не выпадет...», а
Блюм по-прежнему все глядел на него не отвечая, и больше им ие суждено было
увидеться), так вот спохватившись что вовсе ие Блюму он все это объясняет шепчет во
мраке ночи, н нет никакого телячьего вагона, узкого окошечка заслоненного головами
вернее этими отпихивающими друг друга вопящими пятнами, а рядом с ним теперь лишь
одна голова, до которой он может дотронуться достаточно приподнять ладонь узнать
подобно слепому на ощупь, и даже нет необходимости приближать ладонь чтобы угадать
в темноте ее очертания, самый воздух был ваятелем, был напоен теплотой, дыханием,
легким дуновением идущим из темных черных лепестков губ, и все лицо как черный
цветок склонившееся над его лицом словно она хотела прочесть па нем, разгадать...
Но прежде чем она коснулась его он схватил ее запястье, схватил на лету другую
руку, и груди ее уперлись в его грудь: мгновение они боролись, Жорж подумал хотя у
него не было охоты смеяться Обычно как раз женщины не хотят зажигать огня, но
слишком много света еще было в этом мраке она откинулась назад голова ее скользнула
вбок от окна открыв звезды и он ощутил как холодный луч настиг его пролился на его
лицо точно молоко и подумал Ладно великолепно поглядим, ощущая ее тяжесть тяжесть
этого женского тела бедра придавившего ему ногу, светящегося фосфоресцирующего в
темноте бедра и еще он мог видеть как оно светилось в зеркале видел и две шишечки
по обеим сторонам фронтона платяного шкафа вот пожалуй и все, а она: Продолжай
поговори с ним еще, а он: С кем? а она: Во всяком случае не со мной, а он: Так с
кем же тогда? а она: Да будь я даже просто старой пота-
14 М. Бютор и др.
417
сканной шлюхой ты и то, а он: Чего ты болтаешь?, а она: Да ведь ты вовсе не со мной
говоришь правда а с, а он: Черт побери да я ведь только о тебе и думал мечтал все
эти пять лет, а она: Вовсе и не обо мне, а он: Ну тогда тогда мне хотелось бы знать
о ком, а она: Не о ком, а лучше скажи о чем, по-моему догадаться нетрудно, по-моему
не так уж трудно представить себе о чем может думать в течение пяти лет такое
множество мужчин лишенных женщин, наверняка о чем-то в духе тех рисунков что
встречаются на стенах кабинок телефонов-автоматов или туалетов кафе думаю это
вполне нормально думаю это самая естественная вещь на свете но на такого рода
рисунках лиц никогда не изображают обычно дальше шеи не идут если только до нее
добираются если тот кто царапает карандашом или гвоздем по штукатурке дает себе
труд подрисовать что-то еще, подняться выше чем, а он: Черт побери ну тогда значит
первая встречная, а она: Но там под руку тебе попалась я (и в темноте слышится
нечто напоминающее смех, слегка сотрясший ее, сотрясший их обоих, две слившиеся
грудные клетки, ее груди, так что ему казалось смех этот отдается в его собственной
груди и он тоже смеется, то есть был это не на самом деле смех, так как он не
выражал никакой радости: просто некая спазма, резкая, как кашель, которая
одновременно отдается в их телах и потом обрывается когда она снова говорит:) или
вернее всем вам под руку попалась ведь вас там было трое, Иглезиа ты и этот как же
как же его звали..., а Жорж: Блюм, а она: Тот еврейчик что был тогда с вами
которого ты встретил там...
И опять Жорж уже не слушал ее, не слышал ее, он вновь был замкнут в удушающей
темноте ощущал на груди у себя этот груз, эту тяжесть которая была не теплой
женской плотью а просто воздухом словно бы и воздух тоже покоился здесь некоей
безжизненной массой десятикратно, стократно отяжелевшей, как это бывает обычно с
трупами, тяжелый разлагающийся труп черного воздуха лежавший на нем растянувшись во
всю длину прижав свой рот к его рту, а он отчаянно пытался вдохнуть в легкие это
тлетворное дыхание припахивающее смертью, разложением, потом вдруг просочился
воздух: они снова раздвинули дверь, и вместе с воздухом опять ворвался гул голосов,
выкрики приказов, и Жорж теперь уже окончательно пробудившийся, подумал: «Но это же
невозможно, невозможно чтобы они стали еще втискивать сюда,
418
мы...» потом какой-то неудержимый напор, натиск, давка, ругательства в этом
полумраке, потом дверь снова задвинулась, снаружи опустплся железный засов, и снова
воцарилась темнота заполненная лишь тяжелым дыханием, те кого только что втолкнули
в вагон прижатые видимо к перегородке без сомнения раздумывали сколько времени они
смогут продержаться тут не потеряв сознания скорее они просто ждали (думая без
сомнения: наверняка это произойдет через несколько минут, и тем лучше) ждали того
мгновения когда потеряют сознание, в темноте неумолчный шум дыхания напоминал
пыхтение кузнечных мехов, потом (без сомнения устав от ожидания когда же это
произойдет) один из тех кого только что втиснули заговорил, сказал (но не
раздраженно, а словно бы с некоторой досадой): «Может вы хоть дадите нам местечко
присесть, а?», а Жорж: «Кто это сейчас говорил?», а тот голос: «Жорж?», а Жорж:
«Да, я здесь, здесь... Черт побери: значит и тебя тоже загребли! Значит и ты...»,
продолжая говорить он пытался на четвереньках продраться к двери не обращая
внимания на ругательства, даже не чувствуя ударов которыми его осыпали, потом чья-
то рука дернула его за щиколотку и он упал, почувствовал чудовищный пинок в лицо,
одновременно до него донесся голос Блюма ставший теперь ближе, произнесший: «Жорж»,
потом голос марсельца произнесший: «Лежи где лежишь Дальше не пройдешь!», а Жорж:
«Да что в самом деле это же мой прия...», а марселец: «Катись отсюда!», но Жорж
лягаясь попытался встать на ноги, потом уже наполовину поднявшись почувствовал что
словно бы целая тонна железа придавила ему грудь, промелькнула мысль: «Черт побери
да это невозможно, они чт(* и лошадей сюда затолкали, они...», потом он услышал как
зазвенел железный щит стукнувшись о его голову (или это его голова зазвенела
стукнувшись о железный щит — если вообще здесь был железный щит, если только голова
его не зазвенела сама по себе), и голос Блюма теперь совсем рядом произнес не
повышая тона: «Сволочи», Жорж слышал как он пробивал себе дорогу в темноте пинками
и кулаками, вроде бы терпеливо хотя и с молниеносной быстротой, раздавая великое
множество тычков, Жорж тоже пытался драться но без особого успеха потому что рука и
нога его сразу же на что-то натыкались так что удары получались несильными, к тому
же здесь без сомнения было слишком мало воздуха чтобы можно было по-настоящему
драться
14*
419
и вот постепенно словно бы по какому-то молчаливому уговору между ними и их
противниками (то есть между ними и этой тьмой в которую они посылали удары и из
которой получали ответные) все прекратилось, голос марсельца сказал что они еще
встретятся, а Блюм сказал: «Это уж точно», а марселец: «Считай что тебя
припечатали», а Блюм: «Точно, ты меня припечатал», а марселец: «Хвались-хвались,
погоди вот настанет утро, погоди вот мы отсюда выйдем», а Блюм: «Точно:
припечатаешь», без сомнения даже для того чтобы продолжать оскорблять друг друга
воздуха было маловато потому что и ругань тоже прекратилась а Блюм сказал:
«Порядок?», а Жорж шаря в рюкзаке, где по-прежнему лежал кусок хлеба да и бутылка
тоже была цела, сказал: «Да, порядок» но губа его словно бы одеревенела и тогда он
почувствовал что изо рта у него что-то течет, нащупал пальцами губу и осторожно
обследовал ее, подумав: «Ну вот. Скоро уж я начну спрашивать себя на самом ли деле
я воевал. Но все же мне удалось получить ранение, удалось все же и мне пролить
несколько капель своей драгоценной крови так что хоть будет потом о чем
порассказать и я смогу подтвердить что все те деньги которые они потратили чтобы
сделать из меня солдата не пропали зря, хотя боюсь все вышло пе совсем по правилам,
то есть не совсем корректно, то есть я поражен врагом целившим в меня с позиции
стрелка с колена, но только вот поражен я ботинком подбитым гвоздями, но даже и это
еще не наверняка, я даже не уверен что смогу потом похваляться такой славой что был
ранен одним из себе подобных ведь скорее всего это мул или лошадь которых по ошибке
затолкали в этот вагон, если только мы сами не оказались здесь по ошибке потому что
первоначальное назначение вагона как раз в том чтобы перевозить животных, если
только никакая это не ошибка и вагон, в полном соответствии с тем для чего он
предназначен, забит скотиной, раз мы сами того не сознавая стали вроде бы скотом,
мне кажется я читал когда-то подобную историю, о людях ударом волшебной палочки
превращенных в свиней или в деревья или в камни, и все посредством латинских
стихов...» и еще подумал: «Таким образом значит не совсем уж он не прав. Таким
образом слова в конечном счете все же чему-то да служат, и поэтому сидя в своей
беседке он несомненно мог убедить себя в том что комбинируя их всеми возможными
способами можно все же хоть изредка если чуточку повезет по-
420
пасть в точку. Надо будет ему это сказать. Это его порадует. Скажу ему что когда-то
уже прочел в латинских стихах обо всем что со мной произошло, и поэтому был не
слишком удивлен и сознание того что это уже было раньше описано в известной мере
приободряло меня, так что все те деньги которые он в свою очередь потратил чтобы
заставить меня выучить латынь тоже не пропали зря. Его без сомнения это порадует,
да. Наверняка для него это будет...» Он оборвал себя. Вовсе не со своим отцом ему
хотелось поговорить. И даже не с женщиной неразличимой во мраке лежавшей рядом с
ним, и может быть даже не Блюму он шепотом объяснял в темноте что если бы не
скрылось солнце они знали бы с какой стороны движутся их тени: они ехали теперь уже
не среди зелени полей, вернее зеленая проселочная дорога внезапно оборвалась и они
(Иглезиа и он) по-идиотски замерли на месте, оцепенели, застыв на своих одрах прямо
посреди дороги, в то время как оп думал в каком-то оцепенении, отчаянии и спокойном
отвращении (подобно каторжпику выпустившему из рук веревку благодаря которой он
преодолел последнюю стену, приземлившемуся, выпрямившемуся, готовящемуся
устремиться вперед и вдруг обнаружившему что он спрыгнул к самым ногам поджидавшего
его тюремщика): «Но ведь я когда-то уже видел это. Знаю что видел, Но когда? И
где?..»
Кто же мог подать Богу мысль сотворить мужские и женские особи и заставить их
соединиться? Мужчине, вот кому дал он женщину. На груди у нее два холмика и узкое
ущелье между ног. Вложите туда капельку мужского семени, и от не-го родится столь
большое тело; эта жалкая капелька станет плотью, кровыо, костью, мышцами, кожей.
Иов хорошо ска-зал об этом в десятой главе: «Ife обошлись ли вы со мной как с
млеком и не створожили ли как сыр?» Во всех своих деяниях Бог немножко шутник.
Спроси он моего мнения о зачатий человека, я посоветовал бы ему ограничиться комком
грязи. И я сказал бы ему, чтобы он поместил солнце, подобно лампе, в самом центре
земли. И тогда круглые сутки царил бы день.
Мартин Лютер
Спустя мгновение он узнал ее: это вовсе не было бесформенно угловатой кучей
высыхающей грязи (костлявые ноги, соединенные и сложенные в молитвенной позЬ,
наполовину обнажившийся остов, поглощаемый глинистой породой — словно бы земля уже
начала его переваривать — и, под твердой и хрупкой коркой, это своим видом, своей
структурой походило одновременно на насекомое и на ракообразное) а лошадью, или
скорее тем что некогда было лошадью (ржавшей, фыркавшей среди зеленых лугов) а
теперь возвращалось, или уже вернулось в прародительницу землю явно не нуждаясь в
том чтобы проходить промежуточную стадию гниения, то есть своего рода претворение
или ускоренное пресуществление, словно бы все то время что обычно требуется для
перехода из одного царства в другое (из органического в неорганическое) было на сей
раз преодолено единым махом. «Но, подумал он, может быть завтра уже наступило,
может быть даже миновало много-много дней с тех пор как
422
мы проходили здесь а я и не заметил. А уж тот и подавно. Потому что как определишь
давно ли умер человек раз для него «вчера» «только что» и «завтра» окончательно
перестали существовать другими словами перестали заботить его другими словами
докучать ему...» Потом он увидел мух. Не было уже того широко расплывшегося пятна
запекшейся крови словно бы лакированного которое он видел в первый раз, а только
какое-то темное кишение, и он подумал: «Уже», подумал: «Да откуда же все они
взялись?» покуда не понял что их было не так уж много (даже недостаточно чтобы
закрыть пятно) просто кровь начала уже свертываться, опа успела потускнеть, стала
почти коричневой а не красной (по-видимому это было единственным изменением
произошедшим с того времени когда он увидел ее в первый раз, так что, подумал он,
прошло вероятно всего несколько часов, а может быть всего один час, а может быть
даже и часа не прошло, и тут он заметил что тень которую отбрасывает угол кирпичной
стены тянувшейся вдоль дороги покрывала задние ноги лошади только что находившиеся
на самом солнцепеке, сектор тени отбрасываемой частью стены что шла параллельно
дороге все время расширялся, он подумал: «Тогда паши тени падали справа от нас,
значит солнце теперь пересекло ось дороги, значит...», потом перестал думать,
вернее что-то рассчитывать, и подумал только: «Но какое это имеет значение? В самом
деле какое это может иметь для этой клячи значение там где она теперь...»), толстые
черно-синие мухи теснились вдоль окружности, у краев того что было скорее дырой,
кратером, а не раной, рваная кожа уже приподнималась точно картонная, напоминая те
разрезанные или лопнувшие детские игрушки у которых обнажилось зияющее пористое
нутро, точно эта кожа была всего лишь формой обнимающей пустоту, словно бы мухи и
черви уже закончили свою работу, то есть пожрали все что могли пожрать, включая
кожу и кости, и не существовало больше ничего (как у панцирных животных лишившихся
своей плоти или у предметов которые изгрызли изнутри термиты) ничего кроме хрупкой
тонкой оболочки из засохшей грязи, не толще слоя наложенной краски такой же пустой
и непрочной как те пузырьки которые лопаются поднимаясь на поверхность тины с
неприличным звуком, и оттуда, словно поднимаясь из бездонных утробных глубин,
вырывается слабый гнилостный запах.
423
Потом он увидел этого типа. Вернее, с высоты своей лошади, увидел жестикулирующую
тень выскочившую из дома, бегущую перебирая ногами точпо краб к ним по дороге; Жорж
помнит что вначале его поразила эта тень потому что, говорил он, она была
вытянутая, плоская, а человека который бежал они с Р1глезиа видели сверху в
ракурсе, так что Жорж все еще смотрел на тень (похожую на чернильное пятно быстро
перемещавшееся по дороге не оставляя следов словно по клеенке или по стеклу)
непонятно размахивавшую своими двумя клешнями а голос доходил до него совсем из
другой точки, движения и голос казались разъединенными, разобщенными, до тех пор
пока он снова не поднял голову, не обнаружил поднятое к ним лицо, на котором
отражалась растерянность, возбуждение исполненное ярости и мольбы, и только тогда
Жорж понял о чем кричал этот голос (то есть что он крикнул вначале, потому что
сейчас он кричал уже о другом, так что когда Жорж ответил получилось словно бы
некое смещение, словно требовалось некоторое время чтобы то о чем тот кричал
пробилось к нему, сквозь толщу усталости), услышал как вырвался из груди его
собственный голос (вернее был с усилием вытолкнут из глотки) охрипший, неровный,
темно-коричневый, тоже кричавший, словно им всем необходимо было орать чтобы
услышать друг друга хотя их разделяло всего несколько метров (а в какое-то
мгповение даже и того пе было) и сюда не доносилось никакого другого шума кроме
отдаленной канонады (несомненно тот тип стал кричать едва оп заметил их, с криком
сбежал по ступенькам крыльца своего дома и продолжал кричать пе понимая что это уже
совсем не нужно по мере того как он приближался к ним, возможно ему необходимо было
кричать также и потому что он не переставал бежать, даже когда на какое-то
мгновение застыл неподвижно перед Жоржем, показывая ему пальцем то место где
притаился стрелок, но конечно мысленно он продолжал бежать, не замечая даже что уже
остановился, поэтому верно он только и мог объясняться криком что вполне нормально
для бегущего человека) и Жорж тогда тоже заорал: «Санитары? Нет. Почему санитары?
Разве мы похожи на санитат ров? Разве у нас есть повязки...», это был яростный
диалогу они орали во всю глотку на залитой солнцем пустынной дороге (где, только
вдоль обочин, тянулся двойной след отбросов, обломков, словно бы здесь прошлось
паводнение, разбушевавшийся, все сокрушавший поток который сразу
424
же схлынул, отбросив, оставив по краям эти кучи — мертвых животных, людей, предметы
— бесформенные, грязные и неподвижные кучп, чуть вздрагивавшие в слое теплого
воздуха вибрировавшем у самой земли в лучах майского солнца), диалог ведущийся
сверху вниз и снизу вверх между всадником на остановившейся лошади и бегущим
человеком, который снова принялся кричать: «Бинты... Нужно... Там два парня вот-вот
помрут. У вас нет, вы не...», а Жорж: «Бинты? Черт побери. Да откуда же...», а тот
тип начал заворачивать на бегу чтобы вернуться к дому, чуть замедляя ход, и снова
заорал, словно одержимый какой-то яростью, отчаянием: «Так какого же черта вы тут
торчите как два идиота на своих клячах прямо посреди дороги Вы что не знаете что
они стреляют по всему что движется?», и снова замахав руками, обернулся не
переставая бежать и тыча в какую-то точку, крикнул: «Вон там один спрятался, прямо
за углом той хибарки!», а Жорж: «Где?», а тот теперь уже на последней спирали
своего витка перед тем как устремиться к дому, остановился, совсем рядом с ними —
но конечно не сознавая этого, грудь его часто вздымалась и опускалась, он тяжело
дышал, и торопливо крикнул между двумя выдохами: «Прямо за углом вон той кирпичной
хибары вон там!» и взглянув в направлении своего указующего перста, заорал все с
той же яростью, отчаянием и даже как будто с удовлетворением: «Гляди! Он как раз
вылез и снова спрятался, видел?», а Жорж: «Где?», а тот уже на ходу, убегая,
обернулся и крикнул в бешенстве: «Черт побери... : да кирпичный дом вон там!», а
Жорж: «Да они все тут кирпичные», а тот: «Идиот несчастный!», а Жорж: «Да он не
стрелял», а тот (уже удаляясь, на бегу, повернув к ним лицо чтобы ответить, так что
тело его скрутилось штопором, голова глядела в сторону противоположную той куда оп
бежал, а торс — то есть грудная клетка — в том направлении куда лежал его путь, а
бедра (тазобедренные кости) наискосок к торсу, так что получалось что он бежит как-
то боком, опять на манер краба, неуклюже тянет за собой ступни, ноги которые того и
гляди переплетутся, а раскинутые руки все продолжают жестикулировать) заорал:
«Идиот несчастный! Не станет он в тебя стрелять оттуда. Ждет когда ты окажешься
рядом и тогда выстрелит в тебя!», а Жорж: «Но где же...», а тот бросил через плечо:
«Идиот несчастный!», тут Жорж заорал: «Но черт побери где же фронт, где...», а тот
на этот раз остановился,
425
опешивший, негодующий, застыл на месте, повернувшись к ним, крестом раскинул руки,
закричав уже в полном бешенстве: «Фронт? Идиот несчастный! Фронт?.. Нет больше
фронта, идиот несчастный, ничего больше нет!», скрестил на груди руки, потом снова
раскинул их, словно сметая все: «Ничего больше нет. Понял? Ничего!», а Жорж (теперь
надсаживаясь от крика потому что тот повернулся спиной, побежал, и был почти у
крыльца дома откуда он только что выскочил и где вот-вот должен был исчезнуть): «Да
что же теперь делать? Что нам нужно делать? И где же...», а тот: «Делайте как я!»,
и онустил поднятые руки, ладонями внутрь, указывая па себя пальцами и казалось
приглашая двух всадников осмотреть его одежду, так выразительно очерченную этим
жестом сверху вниз, и заорал: «Уматывайте отсюда! Уматывайте в гражданском платье!
Найдите себе шмутки в каком-нибудь доме и спрячьтесь! Спрячьтесь!», он еще раз
воздел вверх руки и энергично махнул в их сторону словно отталкивая, прогоняя их,
проклиная, и потом исчез внутри дома, и опять никого кроме Жоржа и Иглезиа
торчавших на своих лошадях, посреди залитой солнцем дороги, по обеим сторонам
которой были неравномерно разбросаны дома совершенно пустынной дороги если не
считать околевших животных, мертвецов и попадавшихся время от времени загадочных и
неподвижных куч, которые медленно загнивали под лучами солнца, и Жорж поглядел на
угол того кирпичного дома, потом на дом, где только что исчез этот тип, потом снова
на таинственный угол дома, потом услышав за собой цокот лошадиных копыт, обернулся,
Иглезиа уже перешел на рысь, запасная лошадь шла рысью рядом с ним, обе лошади
вступили на проселочную дорогу, свернув на этот раз налево, и Жорж тоже пустив свою
лошадь рысью, догнал Иглезиа и спросил: «Куда ты едешь?», а Иглезиа не глядя на
него, шмыгнув носом, все с тем же угрюмым, недовольным видом: «Буду делать то что
он сказал. Найду себе шмутки и спрячусь», а Жорж: «Где спрячешься-то? А дальше
что?», но Иглезиа не ответил, спустя некоторое время лошади были привязаны в пустой
конюшне а Иглезиа яростно дубасил прикладом в дверь дома пока Жорж вдруг просто не
повернул дверную ручку, и дверь сама собой открылась, и вот они уже в четырех
стенах, в потемках, то есть в закрытом, ограниченном пространстве (нельзя сказать
чтобы за неделю которой было вполне достаточно они не усвоили не узнали цену и
надежность
426
стен и то насколько можно им довериться, то есть почти столько же как и мыльному
пузырю — с той лишь разницей что от мыльного пузыря когда он лопается не остается
ничего кроме еле ощутимых капелек а от рухнувших степ сероватая, пыльная и
угрожающе опасная груда наваленных в беспорядке кирпичей и балок: но что за
важность, главное не это, главное не находиться больше снаружи, чувствовать что ты
среди четырех стен и с крышей над головой); и еще вот это: четыре деревянные желтые
цвета мочи рейки фабричная имитация бамбука, с косо срезанными концами выступающими
за углы зеркала четырехугольник которого обрамляет чье-то никогда прежде не
виданное лицо, худое, с вытянувшимися чертами, красными веками и заросшими
недельной щетиной щеками, потом он сообразил: «Да это же я», но продолжал глядеть
на это незнакомое лицо, застыв на месте, не от удивления или иптереса но просто от
усталости, так сказать приткнувшись к своему собственному лику, стоя здесь,
негнущийся в своей негнущейся одежде (на ум ему пришло презрительное жаргонное
выражение которое он как-то слышал: «На ногах стоишь коль портки жестки»), держа
свой карабин за ствол, уперев приклад в землю, свободная рука опущена и отведена
чуточку назад, словно он сжимает в ней что-то что находится за спиной, например
поводок к копцу которого какой-нибудь любитель глупых шуток привязал собаку, или
еще как пьяница держит в руке пустую бутылку прижимаясь лицом к стеклу чтобы
охладить пылающий лоб, он слушал как Иглезиа за его спипой открывает шкаф и шарит в
нем, бросая на пол вперемешку женскую и мужскую одежду, потом его собственное лицо
исчезло и вместе с ним зеркало, а перед глазами теперь возник прямоугольник двери в
рамку которой был вписан какой-то отощавший человек, с желтым как у трупа лицом, с
шишкой величиной с горошину на правой щеке, в самом уголке рта.
Уже много позже он припомнил все это куда яснее: желтое лицо и шишка с которой он
не спускал глаз, и еще тоже желтые, торчащие вкривь и вкось пеньки зубов, он увидел
их когда этот полутруп открыв рот сказал: «Нет уж!..», потом ладонью преспокойно
отвел дуло карабина нацеленное ему прямо в живот, Жорж следя теперь взором за его
сухонькой рукой, видел как ствол карабина описал от толчка полукруг, другими
словами опустив глаза одновременно ощутил в локте толчок отдавшийся во
427
всем теле, и лишь тогда понял это, все с тем же чувством удивления, с тем же
полуравнодушным изумлением с каким только что обнаружил в зеркале чужое лицо свое
собственное лицо, и безуспешно пытался вспомнить как это он успел поднять карабин,
взвести курок и прицелиться, а тем временем все его мускулы напряглись,
сопротивляясь толчку и пытаясь снова направить карабин на этого человека, потом он
мысленно вдруг махнул на все рукой, прижал к себе карабин, сделал пол-оборота, ища
глазами стул который он знал находится здесь так как он только что его видел и сел,
снова поставив карабин на пол, вплотную к краге, правой рукой снова держась за
ствол, но не за самый его конец, а как старик присевший отдохпуть держит палку или
трость другими словами превратив свой карабин в невинную опору для руки, средство
поддержки, а левую ладонь прижал к левому бедру, тоже совсем как старик, и даже не
расхохотался подумав: «Ведь надо же хорош был бы мой первый убитый. Ведь надо же я
в первый раз выстрелил бы на этой воине чтоб уложить вот такого...», потом так и не
окончил своей мысли, не додумал до конца совсем разомлев от усталости,
прислушивался словно сквозь дремоту как полутруп и жокей вступили теперь в спор,
старик орал стоя перед открытыми дверцами шкафа, из которого кучей была вывалена па
пол одежда: «А главное кто это вам разрешил войти в дом кто это ва...», и ему
отвечал мирный, певучий, кроткий, незлобивый голосок, даже без нотки нетерпения,
выражавший только эту неистощимую и терпеливую способность удивляться какой
очевидно в избытке обладал Иглезиа: «Ведь война идет папаша Ты что газет не
читаешь?», человек (полутруп) казалось ничего не слышит, он подбирал теперь с полу
разбросанную одежду и рассматривал каждую вещь одну за другой поочередно как
тряпичник прежде чем назначить подходящую цену за все барахло скопом, рассматривал
уважительно, и лишь потом швырял вещи на постель, а их все так же клял, обзывал
грабителями пока вдруг он (Жорж, и без сомнения также и полутруп, ибо тот сразу
перестал костить их, перестал швырять вещи и застыл, пригнувшись чуть ли не к полу,
держа в руке женское платье — или во всяком случае что-то мягко свисающее,
бесформенное что, в отличие от мужской одежды, приобретает смысл, становится чем-то
только будучи надето на женщину, но само по себе бесформенное или мягко свисающее)
как вдруг он услы-
428
шал звук, двойное и короткое щелканье взведенного курка, теперь уже Иглезиа
направил свой карабин в грудь старика, не переставая канючить все тем же жалобным
(и чуть ли не стонущим, скорее скучающим чем сердитым, и скорее смиренным чем
угрожающим) голоском: «А что если я тебя пришью? Жандармов звать будешь? Я могу
тебя словно муху прихлопнуть и никто шуму не подымет Спущу курок и всего только
жмуриком больше станет Сейчас на вашей дороге знаешь сколько их гниет так что одним
больше одним меньше разница не велика один черт», а тот старик боясь теперь
шелохнуться, по-прежнему держал в руках мягко свисающий кусок ткани и твердил: «Да
ладно ладно парень Погоди Да ладно Давай не будем», Жорж по-прежнему неподвижно
сидел па стуле в позе греющегося на солнышке старика прикорнувшего на скамеечке во
дворе богадельни, думая: «А ведь от него и впрямь всего ждать можно» но по-прежнему
не шевелился, не имея силы даже рта раскрыть, а только уныло думал «Еще такого шума
наделает», готовясь к этому, напружившись всем телом в ожидании выстрела, грохота,
но тут он услышал жалобный голосок Иглезиа: «Да брось ты хныкать Все у тебя цело
Нам только шмут-ки нужны чтоб нас не засекли».
Потом они (все трое: полутруп, Иглезиа и Жорж — одетые теперь как работники с
фермы, другими словами чуточку скованные, чуточку неуклюжие, точно бы — выбравшись
из своих тяжеленных доспехов, из всего этого суконного, кожаного, из всех этих
ремней и портупей — они чувствовали себя в легком весеннем воздухе какими-то почти
голыми, певесомыми) снова оказались на улице, неуверенно шагая в этой бескрайности,
в этой пустыне, в ватной пустоте, окруженные со всех сторон грохотом или вернее
гулом если так можно выразиться спокойным гулом боя, и как раз в эту самую минуту
появились три серых самолета, летели они не слишком быстро, довольно низко, похожие
на рыб, двигаясь параллельно и горизонтально слегка меняя высоту и от этого слегка
покачиваясь, то взмывая один за другим то спускаясь еще ниже и почти незаметно в
отношении друг друга, совсем как рыбы играющие в стремительно бегущей воде,
обстреливая из пулеметов дорогу (Иглезиа, Жорж и тот полу-труп застыли на месте,
остановились, но даже не подумали укрыться, а так и торчали посреди дороги, живая
изго-родь едва доходила им до середины груди, они смотрели
429
в небо, а Жорж думал: «Да ведь здесь только одни трупы Идиотство какое-то А они
стреляют Ведь не рассчитывают же они убить их по новой»), пулеметы строчили
негромко на манер швейпой машинки, нелепо, как-то даже неуверенно, довольно
медленно, не громче чем двухтактный мотор для насоса, что-то вроде: так... так...
так... так... и звук терялся, растворялся, тонул среди недвижного деревенского
простора (оттуда где они находились им не было вндно что хоть что-то движется по
дороге), под бескрайним неподвижным небом, потом сразу пришло спокойствие: дома,
фруктовые сады, живые изгороди, залитые солпцем луга, леса которые с юга замыкали
горизонт, и мирное уханье пушки, чуть подальше и чуть левее, его доносил сюда тихий
теплый ветер, тоже не слишком громкое, не слишком ожесточенное, а просто терпеливо-
спокойное, как будто где-то там в той стороне рабочие не торопясь разносили на
куски дом, и больше ничего.
А чуть, попозже они снова очутились среди четырех стен, во всяком случае в каком-то
закрытом помещении, и Жорж тихонько сидел пытаясь, вернее пытались его рот, его
губы, его язык выговорить: «Мне бы чего-нибудь поесть Нет ли у вас чего-нибудь
съестного я бы...», но все попытки его кончались крахом, он с бессильным отчаянием
глядел на того полутрупа который разговаривал с какой-то женщиной стоявшей у их
столика, потом женщина ушла, вернулась, поставила перед ним рюмку (махонький
опрокинутый узкой стороной вниз конус расширенный кверху на тоненькой ножке) и
налила туда что-то прозрачное и бесцветное словно бы чистую воду но почувствовав ее
на губах он едва не выплюнул жидкость, едкую, жгучую. Однако не выплюнул, а
проглотил, как покорно проглотил содержимое — столь же бесцветное, прозрачное,
едкое и жгучее — и второй налитой ему рюмки, все еще пытаясь (или вернее сказать
пытаясь пытаться) втолковать той женщине что он лучше бы съел хоть кусочек чего-
нибудь но ничего не получалось и приходилось все с тем же безмолвным отчаянием
убеждаться, что это (просить поесть) ему не по силам, и следовательно ему
оставалось только слушать (пытаться слушать) то что говорили другие и опрокидывать
конус за конусом наполненные бесцветной и обжигающей жидкостью, да задаваться
вопросом не начали ли уже и над тем как над дохлой лошадью виться с жужжанием мухи,
думать о самолетах, снова думать: «Ведь не могут же они его по
430
новой убить Тогда зачем же?» пока наконец он не понял х!то пьян, и сказал: «Мне не
особенно хорошо было там. Я хочу сказать: я не особенно хорошо знал где я и когда
это было и что случилось если я действительно думал тогда о нем (уже начавшем
разлагаться под солнцем и я спрашивал себя когда же он станет по-настоящему
смердеть по-прежнему потрясая своей саблей среди черного мушиного жужжания) а может
о Ваке валявшемся вниз головой на придорожном откосе глядевшем на меня с обычным
своим дурацким видом широко открыв рот и теперь в этот самый час мухи тоже небось
давно пируют вовсю потому что он так сказать стал уже бифштексом раз помер еще
утром когда тот другой идиот рубака вывел нас очертя голову прямо к засаде, и Жорж
думал идиоты идиоты идиоты думал что в конце концов идиотизм или ум во всем этом
особой роли не играют я хочу сказать для нас я хочу сказать для нашего
представления о своем я которое побуждает нас говорить действовать ненавидеть
любить раз и после, когда все это исчезает, наши тело лицо продолжают выражать то
что как мы воображали свойственно нашему интеллекту, тогда как возможно все эти
вещи я хочу сказать ум глупость или то что человек влюблен или он храбрец или трус
или убийца все достоинства все страсти существуют вне нас сами по себе и не
спрашивая нашего желания располагаются в этом грубом каркасе которым и завладевают
ибо даже глупость явно была чем-то слишком тонким слишком изощренным и если можно
так выразиться слишком умным чтобы принадлежать Ваку, возможно и существовал-то он
лишь для того чтобы быть Ваком-дурнем во всяком случае теперь об этом тревожиться
ему больше нечего, бедный Вак бедный дурачок бедолага: я вспомнил тот день ту
дождливую вторую половину дня когда мы развлечения ради бесили Вака спорили от
нечего делать из-за той больной клячи, погода тогда была не такая как нынче когда
греет солнце почти летняя жара и я представляю себе что если бы они были убиты в
тот самый день их наверняка растворила бы вода превратила бы их в жижу и они не
гнили бы как падаль, ведь в тот день дождь лил без передышки и теперь я думаю мы
были тогда вроде бы девственниками, какими-то щенками несмотря на всю нашу грубость
наши ругательства, девственниками потому что война смерть я хочу сказать все
это...» (рука Жоржа оторвавшись от ее груди описала полукруг, показывая
431
куда-то вдаль вниз на кишевший людьми барак, и по ту сторону грязных окошек за
которыми торчала покрытая гудроном деревянная стенка соседнего барака точно такого
же как их барак, и позади него — видеть этого они не могли но знали что это именно
так — унылое до тошноты повторение точно такого же барака и стояли эти бараки
метрах в десяти друг от друга на голом месте, выстроившись словно по линейке, все
одинаковые, параллельными рядами, по обе стороны того что полагалось здесь считать
улицей, улицы эти пересекались под прямым углом в безукоризненном шахматном
порядке, все бараки на одно лицо, низкие, мрачные, длинные, с отвратительной
неистребимой вонью от гнилой картошки и нужников, и она-то эта вонь — так по
крайней мере казалось Жоржу — образовывала над огромным четырехугольником откуда
поднималась эта неотвязная вопища, экскремептальная, постыдная, как бы герметически
подогнанную крышку, так что они были — утверждал Жорж — дважды пленниками: сначала
этой ограды из колючей проволоки натянутой между кольями из неободранной,
необструганной, красноватой сосны, и потом собственного своего зловония (или
собственной мерзости, присущей всем разбитым армиям и побежденным воинам), и оба
они (Жорж и Блюм) сидели на краю койки свесив ноги, силою воображения стараясь
убедить себя что они не голодны (что в сущности было еще не так трудно, ибо человек
может заставить себя поверить почти во все что угодно лишь бы это его устраивало:
но куда труднее, и даже просто невозможно, было убедить в этом и ту крысу которая,
без передышки, грызла им нутро (до того яростно грызла, говорил Блюм, что видать на
войне существует всего лишь два выхода: или пусть тебя, мертвеца, пожирают черви,
или пусть тебя, живого, пожирает эта обезумевшая от голода крыса), а сами они оба
шарили по карманам в надежде обнаружить там забытую щепотку табака, но вытаскивали
лишь какую-то непонятную смесь из хлебных крошек, комочков матерчатого мусора
который набивается в швы, так что они даже призадумались можно ли это курить или
есть, другими словами поспорили (Жорж с Блюмом) согласится ли крыса переварить эту
дрянь, и пришли к отрицательному выводу и решили попробовать это курить; а вокруг
них неутихающий гул голосов, смутный и вязкий гомон — бесконечные
разглагольствования, торги, споры, пари, непристойности, хвастовство, взаимные
упреки — подоб-
432
ный, если так можно выразиться, дыханию (все это никогда не прекращалось, даже
ночью, только несколько приглушалось, и под навалившемся на людей сном можно было
по-прежнему различить все ту же постоянную тревогу, бесплодное и бесполезное
беспокойство зверей в клетке) заполнявший весь барак, и была там также музыка,
некий оркестр, какое-то пиликание, что-то дергающееся, припадочное царапанье по
струнам музыкальных инструментов под которые приспособили пустые бидоны, куски
досок и обрывки проволоки (и даже настоящие банджо, настоящие гитары, привезенные
сюда и одному богу известно каким чудом сохранившиеся в лагере) все это, временами,
взмывало над барачными шумами (потом снова притихало, тонуло, растворялось,
исчезало среди прочих звуков — или быть может о музыке просто забывали, просто ее
не воспринимало сознание?), все та же песенка, все та же нудятина, все тот же
взмывавший без конца припев, повторяющийся, монотонный, жалобный, с идиотскими
словами, в каком-то скачущем, веселом и тоскливом ритме:
Дедушк! А дедушк!
Лошад! купо! забыли! и тут же сразу тоном выше:
Дедушк! А дедушк! словно молящее и шутовское заклинание, насмешливый и шутовской
упрек, или призыв, или предупреждение, или неизвестно что, разумеется просто ничто,
только бессмысленные слова, скачущие звуки, легкие, беспечные, неутомимо
повторяемые, время так сказать тоже неподвижно застывшее, на манер кома грязи,
тины, нечто застоявшееся, словно бы наглухо замкнутое под тяжестью душащей крышки
зловония источаемого тысячами и тысячами и тысячами людей погрязших в собственном
унижении, отторгнутых от мира живых, и однако пока еще и не в мире мертвых: если
можно так выразиться между жизнью и смертью, влача как издевательские стигматы свое
смехотворное тряпье бывшее некогда военной формой, похожих теперь в этих лохмотьях
на толпу призраков, душ оставленных для круглого счета, о которых просто забыли,
либо отшвырнули, либо от них отказались, либо их изблевали и сама жизнь и сама
смерть, словно бы ни та ни Другая не пожелали их, так что казалось теперь они
движутся не во времени а в каком-то сероватом формалине, лишенном пространственных
измерений, в небытии, в зыб-
433
кости человеческих сроков где спорадически пробивает себе брешь тоскливое
повторение, щегольское и назойливое повторение все одного и того же припева, все
одних и тех же бессмысленных дурацких слов, скачущих, меланхолических:
Дедушк! А дедушк!
Лошад! купо! забыли!
Дедушк! А дедушк! а Жорж с Блюмом тем временем перестали сжимать в зубах тоненькую,
и плоскую, и уже потерявшую форму козью ножку набитую скорее свалявшимися шариками
ткани да неопределенными крошками чем табаком, еще более плоскую и тонкую чем
зубочистка, вдыхали едкий, отвратительный дым, и Жорж:) «...все это свинство в нас
еще цело непочато оно как девственная плева у молодых открывающаяся точно рана
нечто разрываемое силком так что никогда уже больше не иайти нам этой девственности
этих девственных свежих желаний с какими мы подстерегали ту мельком увиденную
девушку помнишь мы подстерегали ее то и дело задирали голову к тому окну с тюлевой
занавеской нам все чудилось будто она колышется я сказал Да ты сам видел ее она как
раз подошла к окошку показалась и снова спряталась, а ты Где? а я Да черт тебя
побери в том самом окне, а ты Где? а я Как где да вон там в кирпичном доме, а ты Я
ничего не вижу, а я Павлии-то еще колышется, там на занавеске был выткан павлин с
длинным хвостом усыпанным глазками, и мы все глаза проглядели подстерегая ее и все
время поддразнивали Бака стараясь разобраться в этом скрытом кипении страстей: мы
не были тогда во власти осенней грязи мы не были тысячью или двумя тысячами лет
раньше или позже в самом водовороте безумия убийств Атри-дов, галопируя через
бездны времен через мрак исходящий дождем на своих измученных клячах дабы добраться
до нее ее обнаружить увидеть ее теплую полуодетую и молочпо-белую в этой конюшне
при свете фонаря: помнится сначала она держала фонарь в высоко поднятой руке потом
когда мы начали расседлывать лошадей она потихоньку опускала фонарь все ниже и ниже
очевидно тоже притомилась так что по мере того как опускался фонарь по лицу ее
скользили тени, и под конец она совсем исчезла, растворилась, как если б>ы она
ждала нас здесь лишь для того чтобы ее от нас тотчас же отобрали а мы в своих
каленых маскарадных костюмах в солдатских
434
шинелях промокшие до нитки прислушивались среди ноздреватой утренней серятины к
крикам голосам загадочным для нас вспышкам гнева, к этим лицедеям в синих
комбинезонах под зонтами шлепавшим по грязи в одинаковых черных резиновых сапогах
усеянных красными кружочками каучуковых заплаток, колченогий пасынок судьбы
державший в руке охотничье ружье из которого как я почему-то думал он себя убьет,
несчастный случай просто ружье само по себе выстрелит и пуля угодит в висок откуда
ручьем хлынет кровь (в ту пору ружья почему-то стреляли именно сами по себе и
неведомо почему прямо вам в физиономию) но может быть он только хотел выстрелить
ведь кругом все стреляли и Вак сказал Думаете вы уж такие умники Я конечно простой
крестьянин а пе жидок какой-нибудь но, а я Ох идиот несчастный идиот несчастный
идиот несчастный, а он: Пусть я из деревни но это еще не значит что всякий жидок из
города может, а я: Ох идиот несчастный черт тебя побери ох идиот несчастный, а Вак:
Ты меня не запугаешь не надейся зря, а я: У черт, а потом мы добрались до того кафе
на деревенской площади вернее до прямоугольника черной грязи вокруг водопоя
истыканной копытами лошадей и прочей скотины заменявшего здесь главную площадь, мы
уселись и она снова наполнила наши стаканы и я сказал Нет-нет большое спасибо мне
не надо, потому что у меня кружилась голова я припоминаю это была большая зала
выложенная плитками с низким потолком стены были выкрашены голубой краской
изъеденной потеками селитры там стояло с десяток столиков а также пианола буфет а
на стенах обязательные для таких заведений Правила Борьбы с Пьянством в
Общественных местах пожелтевшие все засиженные мухами рекламы аперитивов и пива где
были изображены молоденькие девушки с ярко-красными губами в преувеличенно слащавых
позах или еще огромные пивоваренные заводы изображенные в свободной перспективе
словно на них смотришь из окпа самолета с их дымящими трубами и крышами тоже очень
красными и еще две олеографии на одной были нарисованы маркизы в кринолинах
пастельных тонов прогуливающиеся в тускло выписанном парке на другой группа людей в
костюмах времен Империи в зеленом с золотом салоне мужчины опершиеся на спинку
кресла склоняются к дамским плечикам и без сомнения нашептывают им на ушко разные
милые любезности, и еще подставка
435
для газет из ржавой проволоки а на буфете ваза с волнистым и сильно выщербленным
ободком, но мы явились сюда не для того чтобы пнть мы пришли сюда ради той девушки
ради вызванного ею смятения и криков вокруг этой промелькнувшей на мгновение
молочно-белой плоти ради всей этой непонятной истории лишь угадываемой прозреваемой
этого бешеного п загадочного взрыва ярости в самом лоне ярости, этого колченогого и
того другого оба они были в одинаковых сапогах с круглыми каучуковыми заплатками и
сцепились с какой-то дикарской неистовой злобой без сомнения столь же чуждой столь
же необъяснимой для них обоих как и для нас всех, захлестнутые тем что с ними
произошло что бросило их друг на друга с опасностью для жизни другими словами один
был готов (или скорее его сжигало распирало желание или скорее потребность или
скорее необходимость) совершить преступление а другой был в равной мере готов стать
жертвой этого преступления и это вопреки своей трусости явному страху иначе не
спрятался бы он за чужой спиной, и де Рейшак выступивший в роли арбитра или скорее
пытавшийся их утихомирить, с обычным своим скучающе-тер-пеливым отсутствующим
непроницаемым видом вставший между ними, он де Рейшак для коего страсть или вернее
страдание принимало облик не одного из ему подобных, ему равных но жокея с
физиономией Полишинеля а мы ни разу даже пе слышали чтобы он хотя бы повысил голос
па пего которого он мог заставить следовать за собой как тень и как те древние не
знаю ассирийцы что ли? взойти на погребальный костер тогда ведь было принято
закалывать гурию коня любимого раба дабы покойник ни в чем не нуждался и был бы
столь верно обслуживаемым на том свете где не сомневаюсь Иглезиа и де Рейшак
продолжали бы обмениваться молчаливыми взглядами и скупыми фразами о том что
единственно в конце концов и было возможно страстью обоих то есть говорили бы о том
не мал ли дневной рацион овса или не надо ли поставить компресс на сухожилие
передней ноги, так вот ему удалось успешно выполнить часть этой программы я имею в
виду дать убить вместе с собой одновременно и своего коня но в остальном он
просчитался, тот с кем он надеял^ ся до скончания веков вести беседы о мокреце на
бабке у коня или о том как лучше подковать лошадь в самую последнюю минуту свернул
в сторону бросив оставив его на съедение мухам под ослепительным майским солнцем
436
под лучами которого на миг блеснула сталь вскинутой сабли, и тут она снова налила
мне до самых краев этот маленький конус заменявший обычные стаканчики что-то что
здесь называли можжевеловой по-моему они выговаривали «мжелевая», налила как
принято наливать так сказать подчеркнуто полной мерой до краев другими словами
чтобы получилось как полагается с верхом, поверхность жидкости в рюмке таким
образом казалась чуть выпуклой и повинуясь явлению капиллярности или как оно там
называется слегка вспучилась наподобие линзы подрагивая над краем рюмки, а я тем
временем осторожно подносил дрожащей рукой рюмку к губам серебристый искристый свет
дрожал вместе с бесцветной жидкостью тек по моим пальцам и попав в глотку огнем
обжигал ее...»
А Блюм: «Что это ты такое мелешь? Впервые в жизни вижу чтобы через две недели после
пьянки...»
И Жорж сразу замолчал, уставившись на Блюма растерянно с недоверием, они сидели
здесь, среди непрерывного гомона голосов который они уже перестали слышать (так
люди живущие у самого берега перестают со временем слышать шум моря), и Блюм
сказал: «Вовсе это была не можжевеловая, можжевеловая была в другой раз», из их
мерзких замусоленных козьих ножек уже нельзя было извлечь ничего путного, они
превратились просто в сантиметр пустой и плоской бумажной трубочки, еще белой
вернее серой там где ее зажимали губами, потом она постепенно превратилась в
желтую, потом в коричневую, потом с зубчатыми, дырястыми черными краями, и хотя
ясно было что бессмысленно затягиваться Жорж все-таки чисто машинально попытался
затянуться, вдохнул раз-другой но только противно засипело как клапан, и наконец
сдавшись он вынул чинарик изо рта бесформенный крошечный чинарик, но все-таки не
бросил, а держал в пальцах растерянно поглядывая на него, взвешивая в уме все шансы
за и против удастся или нет затянуться еще раз-другой пожертвовав ради такого
случая драгоценной спичкой, и спросил: «Что? А?», а Блюм: «Вовсе это была не
можжевеловая. А грог: я тогда совсем расклеился ну а ты под этим предлогом
отправился в тамошнее бистро... Другими словами: плевать тебе было с высокого
дерева расклеился я или нет, или вернее по-моему ты считал что это здорово удачно
получилось и таким образом удастся выведать кое-что у хозяина кафе под тем
предлогом что ты мол ищешь комнату для твоего бедняги приятеля ко-
437
торый совсем расклеился и не может поэтому оставаться ночевать в сарае где сплошные
сквозняки, а на самом-то деле тебя интересовало только одно послушать что
сплетничают насчет той девки, того колченогого, а уж что касается несчастного
твоего дружка...», а Жорж: «Ну пошел пошел пошел...» (когда они выбрались из кафе,
было уже темно, при каждом их слове изо рта вылетали маленькие облачка пара теперь
почти невидимые разве что попадали против света, в проеме освещенного окна, тогда
парок становился желтоватым), а Блюм сказал: «Если я правильно понял у этого
колченогого чемпиона по стрельбе любовные неприятности?», Жорж промолчал, засунув
руки в карманы, все его внимание было направлено на то чтобы только не
поскользнуться на невидимой сейчас грязи, а Блюм: «А этот помощник мэра с зонтиком
и в сапогах с резиновыми заплатками! Прямо деревенский Ромео! Кто бы мог подумать?
Он и эта чаша молока...», а Жорж: «Вечно ты все перепутаешь: вовсе не с ней: а с
сестрой», а Блюм: «С сес...», потом негромко чертыхнувшись, вцепился в плечо Жоржа,
и оба постояли покачиваясь словно два заправских пьяницы, потом снова зашагали в
ледяной, струящейся мгле, становившейся все чернее и чернее по мере того как они
удалялись от площади, от кое-где еще освещенных окон и дверей, пока они не
перестали даже различать друг друга, и только два их голоса выдавали их
присутствие, два спрашивающих, отвечающих, перекликающихся в темноте с той
наигранной беспечностью, наигранной веселостью, с наигранным цинизмом свойственным
молодым людям: ничего не понимаю
значит ты еще глупее Вака Держу пари что он уже давным-давно все понял
еще глупее Вака что ж чудесно Но повтори-ка все сначала Значит он (я имею в виду
того помощника мэра того типа который нынче утром вооруженный своим зонтиком своим
страхом и под оплотом офицера пришел дразнить бросить вызов тому другому у которого
ружье) спал с своей собственной сестрой которая была замужем за этим колченогим так
что ли? »
да
стало быть все деревенские такие а? да
со своими сестрами или со своими козами а? Похоже что за неимением сестры они
проделывают это с козой Во
438
всяком случае такие ходят слухи Возможно они просто не видят разницы
тот тип в бистро по-моему тоже не делает особенно большой разницы между собственной
супругой и собственной собакой
возможно это и есть собака превратившаяся в женщину
возможно
умеют выходит колдовать Весьма жаль что тайны ворожбы ныне утрачены Ведь удобно же
значит он превратил свою козу в девицу или свою сестру в козу а Вулкан я имею в
виду того колченогого женился на сатирессе а этот козел-братец покрыл ее в его же
доме так?
так он во всяком случае сказал значит это было козье молоко? кто?
да та что заходила сегодня утром в конюшню та что пряталась за мифологическим
павлином та чей вид погрузил тебя в этот тошнотворный поэтический бред и даже
довольно дорогостоящий коль скоро тебе пришлось поднести две кружки тому пьянице в
бистро в надежде что он...
ах черт ты положительно гораздо глупее Вака я же тебе тыщу раз говорил что это жена
его брата
(дождя они видеть не могли, только слышали его, угадывали его бормочущего что-то,
беззвучного, терпеливого, коварного в эту темную военную ночь, струящегося со всех
сторон над ними, на них, вокруг них, под ними, так словно бы невидимые деревья,
невидимые долины, невидимые холмы, весь целиком невидимый мир мало-помалу
растворялся, распадался на куски, на воду, на ничто, на ледяную черную жижу, два
наигранно уверенных голоса, наигранно саркастических голоса становились все громче,
чуть ли не надрывались, как будто они намерены были оба уцепиться хоть за них
надеясь с их помощью заклясть эту ворожбу, это всесветное разжижение, этот разгром,
это бедствие, незрячее, терпеливое, которому не видно конца, теперь их голоса
поднялись до крика, так Два мальчишки-бахвала орут чтобы придать себе духу:) какой
еще брат? У черт дерьмовый Что это еще за история Тогда выходит все они братья и
сестры Я хочу сказать братья и козы Я хочу сказать козлы и козы Значит козел и его
козочка и этот хромой бес женившийся на
439
козочке которая совокупилась со своим козлом-братцем который
но час терпенья миновал и он ее прогнал Или вернее отринул
отрип... Что что ты сказал отринул
нет серьезно Значит как в театре Как Да
прекрасно прекрасно Стало быть оп (этот Вулкан) наверное застал их на месте
преступления и обоих накрыл сетью и
да нет тот тип сказал что она была стельная стель...
он сказал стельная Как корова что же тебе рисунки рисовать надо что ли
я же говорил что речь идет о козе Разве не требовались ему козлятки чтобы продавать
их па ярмарке?
он верно предпочел бы продавать не маленьких козляток а маленьких хромоножек
верно Значит другой взялся за дело?
кто?
козел
да но на сей раз с женой того кто был солдатом верно ему по душе их семейные
козочки верно Вот поэтому-то другой и сторожит ее с ружьем в руках
вот поэтому-то это ружье могло бы возжелать выстрелить само по себе черт до чего же
темно дошли уже видишь свет
(всех прочих они застали на том же самом месте они сидели вокруг издыхающей лошади,
освещенные фонарем стоящим прямо на земле, они обернулись когда Жорж с Блюмом
приблизились и замолчали, с минуту глядя на подошедших, Жорж понял что теперь они
уже почти забыли о лошади, просто бодрствовали над ней как деревенские старухи
бодрствуют над покойником, сидя полукругом, кто на тачке кто на ведре, беседуя
монотонно, жалобно и как-то нескладно об обычных своих делах о будущем1 урожае
который может и погибнуть при такой непогоде; о ценах на зерно или на свеклу,
обменивались советами как помогать корове при растеле или рассказывали о своих
воистину геркулесовых подвигах исчисляемых количеством тюков половы или мешков
зерна доставленных на собственных плечах в амбар и обработанных участков, а
440
тем временем в свете фонаря голова лошади лежащей на боку казалось все удлиняется,
приобретает что-то апокалипсическое, пугающее, худые бока где колечками завилась
шерсть судорожно поднимались и опадали, заполняя тишину тяжелым дыханием, в
огромном, бархатистом глазу по-прежнему отражались сидящие кружком солдаты но
казалось она теперь уже не замечает их, как бы провидит сквозь них нечто чего
видеть они не могут, сквозь них чьи крохотные фигурки вырисовывались как бы через
многократное экспонирование на влажном глазном яблоке на поверхности этих
красновато-золотистых шаров которые казалось впитывали, вбирали в себя только в
искаженной, головокружительной перспективе, поглощали этот видимый мир во всей его
совокупности, так будто животное уже было не здесь, будто оно уже отказалось,
отреклось от зрелища нашего мира дабы обратить взор свой, сосредоточить его на
некоем внутреннем видении сулящем больше покоя чем мышиная суетня жизни, на
реальности более реальной чем реальная действительность, и Блюм спросил тогда что в
сущности может быть более реальным чем уверенность в том что сдохнешь? (он молча
прошел мимо сидящих кружком солдат, направился прямо к лестнице ведущей на сеновал
и еще долго чертыхался расстилая в темноте на сене одеяло), а Жорж сказал:
«Уверенность в том что надо жрать. Ты ужина что ли не хочешь дождаться?», а Блюм
процедил все так же сквозь зубы: «Представь себе я ведь и на самом деле пожалуй
расклеился. Впрочем тебе это было па руку чтобы расспросить поподробнее хозяина
кафе. И все это ради какой-то девки с фермы да и видел-то ты ее всего минут пять
при свете фонаря. По-моему ты мог бы и обо мне вспомнить?», а Жорж: «Если ты уж
собрался умирать то потерпи хоть немножко. Стоит труда. Может они успеют тебе
орденок подбросить», а Блюм: «А что лучше: умереть от холода или умереть
орденоносцем?», а Жорж: «Дай подумать чуток. А может лучше от любви умереть?», а
Блюм: «Такого не бывает. Разве что в книгах. Ты слишком много книг начитался», и
снова в темноте, во мраке переговаривались два голоса:)
Значит ты воображаешь что лошадь тоже слишком много книг начиталась
Почему это
Потому что она знает что помрет
Пичего-ничегошеньки она не знает
441
А вот и знает Инстинктивно
Интересно ты-то хоть что-нибудь знаешь инстинктивно Одно точно знаю: что ты мне
осточертел Ладно А как по-твоему что дороже шкура лошади или шкура солдата
Сам знаешь все зависит от курса па бирже Это уж вопрос обстоятельств
Но имеются же какие-то индексы цен Лично у меня такое впечатление, что сейчас кило
лошади стоит дороже чем кило солдата И я тоже так думал
Лучший способ научить вас думать как эти крестьяне: они думают как раз о тяжестях
Верно Килограмм свинца тяжелее чем килограмм пуха это всем давно известно Я думал
ты болен
Верно Дай мне поспать Катись ко всем чертям потом спускаясь с лестницы (Жорж), по
мере того как он переставлял по ступенькам ноги, снова вступал в желтый круг света
отбрасываемого фонарем свет сначала дошел ему до колен, потом до груди, наконец он
весь очутился в световом круге где и встал во весь рост, чуть моргая, чувствуя на
себе их взгляды (теперь их осталось только двое: Иглезиа и Вак), и после короткого
молчания Иглезиа спросил: «Что это с ним такое Заболел?» и оба подняли к нему
головы, вопросительно и уныло глядящие глаза, два лица в театральном свете фонаря
стоявшего прямо на земле похожие на огородные чучела, а лицо Иглезиа походило еще и
на клешню омара (нос, подбородок, кожа словно из папье-маше) если конечно на клешне
омара имелись бы глаза, и вид у него был безнадежно и навеки безутешный тем более
безнадежный что он сам очевидно не знал толком что такое отчаиваться или
веселиться, Вак, со своей длинной дурацкой физиономией, со своим нескладным
туловищем застыл в позе присевшей на корточки обезьяны, обе его кисти, непомерно
огромные, с потрескавшейся кожей, с въевшейся навечно в ладони землей, похожие на
срез полена, на древесную кору, похожие на отработанный инструмент, бессильно
свисали между колен, и Жорж пожал плечами, и тут Вак произнес своим дурацким
голосом: «Ну и сволота эта война!..» но невозможно было понять имел ли он в виду
заболевшего Блюма или будущий урожай, погибшие нивы, или ставшего всеобщим
посмешищем колченогого, потря-
442
савшего ружьем, или лошадь, или девушку без мужа, или возможно их троих сбившихся
здесь, во мраке, вокруг фонаря, подле околевающей лошади с неестественно
пристальным взглядом, полным пугающего терпения, и шея ее казалось стала еще
длиннее, растянув все мускулы, все сухожилья, как будто тяжесть огромной головы
влекла ее с этой подстилки в некое темное царство где без устали галопируют мертвые
лошади, огромные черные табуны старых кляч поднятых в слепую атаку, состязающихся в
скорости, стараясь превзойти самих себя, выставив вперед свои черепа с пустыми
глазницами, в оглушительном перестуке костей и цокающих копыт: некая призрачная
кавалькада обескровленных и усопших одров под столь же обескровленными и усопшими
всадниками в болтающихся па йссохших икрах ставших слишком большими сапогах, с
заржавленными и бесполезными теперь шпорами, оставляющие за собой череду белеющих в
темноте скелетов казалось сейчас их и видел Иглезиа, снова погрузившийся в вечное
свое молчание, в его огромном рыбьем глазу застыло то же унылое, терпеливое и
обиженное выражение, явно единственное данное ему от природы, или на худой конец
единственное которому его научила жизнь, безусловно еще в те времена, когда он
скитался по провинциальным ипподромам, скакал то для одного то для другого
владельца на запаленных лошаденках или на лошадях не имевших пи малейшего шанса
выиграть на «продажных скачках» когда пришедшая первой лошадь продается с
публичного торга, на скаковом поле, а чаще всего просто на поле с чисто
символическими полусгнившими деревянными трибунами, а то и вовсе без трибун,
которые с успехом заменяла простая земляная насыпь, или откос холма на который
карабкались зрители, и всего два-три наскоро сколоченных дощатых барака похожих
скорее на душевые кабинки с вырезанным пилой окошком служившим тотализатором, и
непременный пикет жандармов на обязанности коих было следить за тем чтобы прасолы,
мясники запросто вынимавшие из карманов пачки денег и фермеры составлявшие публику
не устраивали суда Линча над проигравшими жокеями, и так как чаще всего почему-то
происходило это в дождь, Иглезиа слезал с седла наскозь промокший, забрызганный с
ног до головы грязью и почитал себя еще счастливым, что просто перепачкал а не
порвал свои рейтузы которые вечером сам стирал под краном в номере гостиницы, если
толь-
443
ко не приходилось пользоваться для той же цели колодой для водопоя лошадей при
конюшне где ему отводили для ночлега пустое стойло с брошенной на пол охапкой
соломы (это чтобы сэкономить на гостинице) — а иной раз и просто ящик с овсом,— и
если у него была вывихнута только кисть руки или лодыжка, и если игроки осыпали его
только проклятиями а не ударами, ои скидывал с себя жокейское свое обмундирование в
одном из полусгнивших деревянных бараков, а если не было кабинок так в крытом
фургоне для перевозки лошадей, заматывал кисть старым бинтом пожалуй таким же
черным как фабричные стены и столь же мало эластичным, с губы его стекала струйка
крови на что не обращал он никакого внимания, равно как не обратил внимания (а
возможно даже и не почувствовал) на удар нанесенный ему кулаком через плечо
жандарма или просунутым между жандармских спин и при этом ни его самого (Иглезиа)
ни их (жандармов) и уж конечно меньше всего обладателя увесистого кулака не
заботили причины этого происшествия, или вернее законность этих самых прпчин по
которым действовал обидчик, ибо единственно реальной и неизменно законной была та
причина что Иглезиа скакал на проигравшей лошади, и ничего больше.
«Потому что, объяснял он, им плевать было на все прочее...» (Иглезиа тоже сидел на
койке, свесив ноги, нагнув голову, весь целиком ушедший в одно из тех таинственных
и кропотливых занятий которые очевидно были столь же необходимы его рукам как пища
желудку, изобретая их по мере надобности, как в данную минуту, когда под рукой у
него не было уздечки чтобы смазывать ее жиром или какого-нибудь стремени чтобы
надраивать его до блеска (напрасно Жорж пытался вспомнить хоть один случай когда он
видел его ничем не занятым, другими словами когда бы тот не теребил в руках какой-
нибудь части конской упряжи, или собственный сапог, или что-нибудь еще в том же
роде), а теперь в руках у него была иголка с ниткой и пуговица которую он
старательно пришивал к своей куртке, среди этого расхристанного и растерзанного
стада где каждый в отдельности и все вместе меныцр, всего думали об оторвавшейся
пуговице или о распоров-,, шемся шве, и он продолжал говорить не подымая глаз от
своей работы:) «...Потому что еще никогда не было на свете такого типа который
играя на бегах думал бы что потерял свои деньжата просто оттого что ему не повезло
идц
444
оттого что ои поставил па лошадь которая хочешь не хочешь все равно придет
последней, нет он считает что его ограбили какую-то махинацию подвели...» (тут
только /Корж сообразил что он по-прежпему упорно разглядывает все что осталось от
крошечного «бычка», или верпее пожелтевшую съежившуюся бумажку, и потряс головой,
как человек только что пробудившийся от сна, и одновременно в уши ему снова хлынул
(точно бы оп разом отвел от ушей ладони) грязный разноголосый гомон заполнявший
барак, и он наконец покорился судьбе и бросил то что, решительно, не могло дать
даже иллюзии окурка, и сказал: «Тебе еще повезло что ей пришла охота заиметь
скаковую конюшню. А то в один прекрасный день какому-нибудь подручному мясника
удалось бы хватить тебя так как его душеньке угодно разве нет?» Тут Иглезиа
повернул к Жоржу лицо, все еще не подымая впрочем головы, кинул на него косой
взгляд, неестественно вывернув шею, все с тем же своим озадаченным, оторопелым,
обиженным (не подозрительным, не враждебным: просто озадаченным, угрюмым)
выражением, потом отвел глаза, шмыгнул носом, осматривая пришитую пуговицу, потянул
ее желая проверить прочно ли она сидит, потом тихонько похлопал по куртке ладонью
складывая ее и сказал: «А как же. Очень даже возможно. Но еще больше бы повезло
если бы она только смотрела как они бегут...», потом, сложив куртку в четыре раза,
аккуратно скатал ее, пристроил в изголовье вместо подушки, снял сначала один
ботинок потом второй, поставил их у края койки, лег, повернулся на бок и сказал
натягивая на себя шинель: «Если бы только эти остолопы заткнули свою музычку, может
удалось бы и покемарить!», повернулся на другой бок, подтянул колени и закрыл
глаза, его желтое побитое оспой лицо, лишенное сейчас живого человеческого взгляда
и поэтому утратившее всякое выражение, как будто было оно вырезано из картона, из
какого-то мертвого, бесчувственного материала, конечно из-за этой его способности
не думать (и в равной мере не говорить) разве только в случаях крайней
необходимости, и когда он решил поспать (без сомнения считая что если в брюхе пусто
а все мелкие хлопоты по хозяйству уже позади — пуговицы, чистка, штопка — то самое
милое дело это завалиться спать) уже не думал больше ни о чем; итак, его лицо лицо
наемного убийцы было сейчас полностью отсутствующим, ничего не выражающим, похожим
на погребальную маску
445
ацтеков или инков, неподвижную, непроницаемую и пустую наложенную на плоскостную
поверхность времен, другими словами на эту формалиновую, необъятную серятину в
которой они спали, просыпались, толкались, за-сыпали и просыпались снова и никогда,
ни разу ото дня ко дню, ничего пе менялось не происходило ничего что могло бы
навести их на мысль что сейчас завтра, а не вчера, или возможно все еще тянется
сегодня, так что не день за днем а если так можно выразиться клочок за клочком
(совсем как реставратор обрабатывая поверхность картины почерневшей от лака и грязи
снимает слой за слоем — экспериментируя, пробуя на маленьких кусочках различные
способы' расчистки) Жорж и Блюм восстанавливали мало-помалу, кроху за крохой или
лучше сказать бурчание за бурчанием вырванные с помощью хитрости или предательства
(тактика заключалась в том чтобы любой ценой развязать язык Иглезиа, другими
словами выдвигали различные предположения или прибегали к намекам пока он наконец
не решался испустить сердитое ворчание, отрицающее или подтверждающее),
восстанавливали всю эту историю целиком, с того самого дня когда в одной из тех
случайных раздевалок в стенах которых он, с подбитым глазом или с рассеченной
губой, переодевался, а тренер де Рейшака предложил ему объезжать рейшаковских
лошадей (ибо судя по всему Иглезиа был неплохим жокеем: только разумеется ему до
сих пор не везло, и тренер это знал) вплоть до того дня когда он занял место
нанявшего его тренера, и все это лишь потому что женщина или вернее подросток в
один прекрасный день пожелала тоже иметь скаковую конюшню, мысль эта несомненно
пришла ей в голову когда она прочитала в одном из иллюстрированных изданий, в том
журнале где дамы на глазированной бумаге похожи на птиц, на голенастых цапель,
только не разукрашенных а просто-напросто ощипанных в той мере в какой женщина, по
воле мужчины превращается или сводится к нескольким метрам шелковой ткани:
угловатый четко вырезанный силуэт, щетинящийся ногтями, каблуками, резкими жестами,
наделенный впрочем чисто страусовым желудком что дает ей возможность не только
переваривать но и осваивать женоненавистнические и продиктованные чистой злобой
изобретения художника-модельера, да еще так сказать реконвертировать их, в
известном смысле, шиворот-навыворот: ассимиляция эта происходит не софистически,
446
плоско и холодно, напротив с ее помощью шелк, кожа, драгоценные каменья
превращаются в некую теплую пушистую субстанцию, так что жесткая кожа, холодные
шелка, твердые камни кажется сами по себе становятся чем-то теплым, нежным,
живым...— итак узнав из журналов что по-настоящему шикарные люди обязаны иметь
скаковую конюшню, ибо, надо полагать, она раньше ни разу в жизни не видела лошадей,
ей вдруг взбрело на ум, как рассказал нам Иглезиа, тоже научиться ездить верхом: де
Рейшак специально для нее купил полукровку, и Иглезиа мог наблюдать в течение пяти-
шести дней подряд как они являлись поутру, она в одном (или вернее во множестве —
всякий раз в новом) костюме для верховой езды из тех костюмов которые, по уверению
Иглезиа, безусловно должны были стоить столько же сколько и лошадь на которой она
пыталась усидеть, а он годившийся ей в отцы старался втолковать с обычным своим
непроницаемым, терпеливо-равнодушным видом что лошадь как раз не гоночный
спортивный автомобиль или слуга и поэтому не ведет себя (равно как и пе слушается)
наподобие всего вышеперечисленного; но все это длилось недолго (конечно потому,
объяснял нам Иглезиа, что ни одному животному в мире вовсе не интересно кататься на
другом животном, а также ни одному животному не нравится чувствовать у себя на
спине другое животное, разве что в цирке, поэтому после того как лошадь сбросила ее
раз-другой, она отказалась от своего намерения), впрочем не дольше в свое время
длилось и увлечение итальянской гоночной машиной, и полукровка так и осталась в
конюшне, другими словами просто стало больше одной лошадью которую надо было
чистить скребницей и проваживать, а если она потом все же появилась в бриджах для
верховой езды и сапожках стоивших не дешевле самой лошади ибо считалось что без них
нельзя научиться ездить верхом, то ясно делалось это единственно ради удовольствия
в них покрасоваться, оседланная полукровка ждала час, а то и Два (таков был обычный
разрыв между телефонным приказанием чтобы лошадь была оседлана и прибытием хозяйки)
прежде чем она появлялась, заглядывала на минутку в конюшню и отбывала (чаще всего
не на гоночной машине которая уже успела ей надоесть, а на чем-то вроде катафалка
огромном как вагон, вел машину шофер, и она на заднем сиденье казалась хрупкой и
крошечной как облатка (другими словами нечто нереальное, тающее, что
447
можно попробовать, узнать, чем можно обладать только с помощью вкусовых ощущений
языка, губ или уж вовсе проглотить) покоящаяся в самой середине огромного и
роскошного потира) скормив лошадям два-три кусочка сахара и потребовав чтобы
провели: на галопе, а сама следила за выездкой по массивному золотому хронометру с
которым к счастью не слишком хорошо умела управляться, ту лошадь что должна была
бежать на скачках в следующее воскресенье.
И Иглезиа рассказал что когда он ее увидел в первый раз он издали принял ее за
ребенка, за дочку которую де Рейшак взял из коллежа на воскресенье домой и по
отцовской слабости позволил ей одеться как одеваются взрослые дамы (чем и
объяснялось то неопределимое чувство неловкости которое испытываешь поначалу,
старался втолковать нам на свой лад Иглезиа, словно видишь что-то неопределенно,
даже непостижимо противоестественное, чудовищное, на что и глядеть-то неудобно, ну
как скажем на девчонок одетых точно дамы, так что получается кощунственная и
волнующая пародия на взрослых, посягающая одновременно и на самое детство да и на
самый удел человеческий), и он говорил, что именно это-то его сначала и поразило
сильнее всего: ребяческий, невинный вид, свежесть, даже в каком-то смысле еще не
девическая а додевическая, до такой степени поразило что он не сразу заметил, не
сразу отдал себе отчет — охваченный изумлением совсем иного толка, почувствовав что
его как варом обварило что-то яростное, дикое и в то же время шокирующее — в том
что она не только женщина но самая что ни на есть женщина из всех когда-либо
виданных им женщин, даже созданных его воображением: «Даже тех что в киношке,
сказал он. Ну и ну!» (говорил оп о ней не как говорит мужчина о женщине которой
обладал, владел, сжимал в своих объятиях стонущую и обезумевшую, а скорее как о
некоем чужеродном создании, и чужеродном не только для него, Иглезиа (другими
словами — хотя он валил ее на пол, пластал, опрокидывал, был на ней — она была над
ним в силу обстоятельств, денег, своего общественного положения) о создании
чужеродном для всего целиком рода человеческого (включая сюда и других женщин),
употребляя в разговоре о ней примерно те же самые слова, находя те же самые
интонации, как если бы речь шла о каких-то таких предметах среди которых он без
сомнения числил кинозвезд (лишенных всякой реально-
448
сти, кроме феерической), лошадей, или еще такие вещи (скажем горы, пароходы,
самолеты) через посредство коих человек воспринимает проявления стихийных сил
против которых он борется, приписывает им человеческие свойства (гнев, злобу,
предательство): существа (лошади, богини на целлулоидовой пленке, автомобили) что
по натуре своей гибридны, двойственны, не совсем люди, но и не совсем предметы, и
внушают одновременно уважение и неуважение, ибо в них смешаны, спаяны, ибо
составлены они из разношерстных элементов (реальных либо предполагаемых) —
человеческих и нечеловеческих,— вот почему несомненно он и говорил о ней так как
говорят прасолы о своей скотине или альпинисты о горах, одновременно и грубо и
почтительно, резко и деликатно, когда он вспоминал о ней в голосе его звучало вроде
бы удивление чуточку возмущенное, но чуточку и восхищенное и неодобрительное в то
же самое время, совсем как в тот раз на привале, когда он без предупреждения явился
осматривать лошадь Блюма и все-таки ему не удалось обнаружить на ее спине
потертостей что впрочем было бы вполне естественно принимая в расчет как неумело
Блюм седлал своего коня и главное сидел в седле, его огромные круглые глаза
недоверчиво, задумчиво, оторопело смотрели куда-то вдаль, в пустоту а сам он
говорил, глядел, вглядывался надо полагать все с тем же восхищенным недоверием, с
тем же обезоруживающим неодобрением с каким смотрел на спину лошади не обнаруживая
на ней ран хотя им и полагалось бы быть, глядел на ту которая всплывала в его
памяти, или вернее чей образ он неосмотрительно дал нам возможность вышелушить и;<
своих воспоминаний, а это в силу прирожденной стыдливости простолюдина, к которой
примешивалась доля уважительности к своим хозяевам (п вовсе не раболепной, коль
скоро ему даже ни разу в голову не пришло пойти поглядеть па го место где убили де
Рейшака, но так сказать просто боязливой), замкнуло бы ему наглухо уста если бы
только он по-видимому не был твердо убежден в нечеловеческом характере Коринны, или
вернее в том что ее характер вынесен за пределы человеческого, он говорил:) «Надо
же было мне туда сунуться. Ну и ну! Только тогда я и понял почему он плюет и
здорово плюет на то что могут или не могут подумать или сказать люди, и выглядеть
при этом ее папашей, и разрешать ей забавляться лошадьми и морить их просто ради
удовольствия нажи-
16 М. Бютор И др.
449
мать на головку хронометра и напяливать на свою задницу жокейские штаны или какие-
нибудь там рейтузы за которые он мог заплатить только простой монетой тогда как
будь на то его воля он ей их из золота сделал бы если конечно был бы изобретен
способ из золота штаны делать...» А Блюм: «Да пеужто? А по-моему, найди он такого
портного который сумел бы ей кое-что в брюки-сейф запереть, да еще висячий замок
прицепить, знаешь бывают такие хитрые, надежные запоры с цифровым кодом а цифровую
комбинацию он бы один знал, то есть какие номера подбирать, а тут вот первый
попавшийся, первый попавшийся номер, первый попавшийся ключ прекрасно справился с
этой рабо...», а Жорж: «Да заткнись ты, слышишь!», и обращаясь к Иглезиа: «Так
значит после той истории с кобылой она, готов пари держать, и решила значит, после
того как...», а Иглезиа: «Да нет, еще до того. Она... То есть мы... То есть я думаю
именно из-за этого оп так и настаивал чтобы самому скакать на той кобылке. Потому
что оп по-моему кое-что заподозрил. Мы-то всего один раз этим занимались и никто
вроде бы нас не мог видеть, но думаю он почуял что здесь не все ладно. Или может
она сама подстроила так чтобы он наполовину догадался в чем тут дело, пусть бы меня
даже потом взашей выставили, потому что думаю в то время это ему было пожалуй до
лампочки. Или может она не могла удержаться и какое-нибудь словечко подпустила,
какой-нибудь там намек. Вот тогда он и захотел сам на скачках выступить...» И тут
же без всякого перехода он начал рассказывать нам об этой самой кобылке, золотисто-
рыжей, описывая ее теми же словами какими описывал женщину: «Тоже мне болван (и в
том что он обозвал де Рейшака болваном не было ничего оскорбительного, напротив:
скорее он как бы поднял, повысил его в ранге, удостоил его чести приобщиться к
жокейскому сословию, другими словами признал за ним жокейские достоинства и таким
образом вполне мог забыть что речь идет о его хозяине, употребляя это словцо
которое прозвучало в его устах не как бранное, а как братское, лишь чуть-чуть
окрашенное легким но любовным оттенком хулы, точно так же выразился бы он и о ком-
нибудь из своих, иными словами о своей ровне, и произнес он его все так же — все
той же обычной фистулой, жалобным, чуть ли не стонущим, чуть ли не детским
голоском, как-то ужасно не вязавшимся с его жестким карикатурным лицом наемного
убийцы,
450
с его острым как лезвие ножа носом, с его кожей верное шкурой желтой, побитой
оспой:) Тоже мне болван, а ведь я же ему твердил, твердил что не надо даже пытаться
ее гнать, понукать ее, пускай доверится ей, оставит ее в покое чтобы она насколько
возможно позабыла о всаднике, н тогда она сама пойдет. Я ему втолковывал: Не мне
конечно вас учить скакать, но не ведите вы ее так строго. Скачка с препятствиями
это вам не обыкновенное конное состязание: скопом они сами препятствие возьмут а то
ведь бывает иной раз они и вообще не пожелают прыгать. Потому-то и незачем ее
строго держать. Для других может это не имеет значения, но она, она этого терпеть
не может. Только если она на тренировке барьер не взяла, тогда уж...»
И на сей раз Жорж увидел их так отчетливо, будто сам находился рядом: всех троих (к
этому времени тренер — бывший адъютант — уже давно ушел, и мы так в точности не
узнали по тем нескольким несвязным фразам которые нам удалось выудить у Иглезиа то
ли сам тренер вынужденный смотреть как по капризу Коринны ему загоняют лошадей
отказался заниматься конюшней, то ли Коринна устроила так чтобы его рассчитали, ибо
после его отъезда, по словам Иглезиа, который сам стал заниматься выездкой, она
бросила привычку приходить на конюшню и требовать чтобы в ее присутствии кстати и
некстати гоняли лошадей ради одного только удовольствия нажать на головку
знаменитого своего хронометра), увидел их всех троих в стойле вернее у стойла, где
малолетний мальчик-конюх с черепом гидроцефала, с кукольными ручками и ножками, с
преждевременно поблекшим лицом (опухшим, с мешками под глазами, даже сам взгляд у
него был нечистый, какой-то гнойный, другими словами вобравший в себя,
запечатлевший, в четырнадцать его лет, весь жизненный опыт шестидесятилетнего
мужчины, или что-пи-будь в таком роде, а может, даже что и похуже), старался
удержать на месте эту самую кобылку пока Иглезиа присев на корточки поправлял ей
наколенники, она и де Рейшак стояли тут же рядом, глядя как он управляется с этим
делом, и она сказала даже губ не потрудившись разжать, не спуская глаз с Иглезиа,
сказала невнятно, но с бешеной злобой: «Ты по-прежнему настаиваешь на своей
идиотской выдумке, ты действительно будешь на ней скакать?», а де Рейшак: «Да», и
пот (не от страха, не от худого предчувствия: просто от душного, июньского,
грозово-
15*
451
го дня, потому-то и рыжая кобылка плясала па месте) маленькими капельками
жемчужинками блестел на его лбу, и он ответил тоже не поворачивая головы, тоже пе
повышая тона, не то чтобы дерзко или вызывающе, или хотя бы упрямо, а просто сказал
да, следя сверху за жестами Иглезиа сидящего на корточках у его пог, и проговорил
без всякого перехода, но на сей раз уже в полный голос: «Только не слишком
затягивай», а она яростно топнула ногой, повторила: «К чему все это? Что тебе это
даст?», а он: «Да ничего, просто мне хочется...», а она: «Послушай меня: дай ему
скакать, он...», а де Рейшак: «Это еще почему?», а она: «К чему все это?», а он:
«Почему?», а она: «Ясно почему. Потому что это его ремесло, он ведь жокей, если я
не ошибаюсь, так ведь? Ты ему именно за это деньги платишь!», а он: «При чем здесь
деньги?», а она: «Но ведь это же его ремесло, да или нет?», а он уже совсем громко:
«А что если ее немного освежить, а? Она...», а Иглезиа поднявшись с корточек: «Все
само пойдет, мсье. Делайте только как я вам говорил, и все само пойдет. Она
немножко нервничает из-за погоды, но все пойдет хорошо», теперь она уже обращалась
к Иглезиа, по говорили, если можно так выразиться, пе столько ее губы как глаза,
как жесткий, бешеный взгляд, впившийся в глаза Иглезиа, или вернее вонзившийся в
них точно гвегдь, а тем временем губы шевелились, но обоим им незачем было слушать
ее слов, слышать что пытаются артикулировать ее губы: «Значит вы пе считаете что
сейчас когда вот-вот разразится гроза ей будет, словом лучше будет если вы...», а
де Рейшак: «Вот здесь: протри-ка губкой... Вот здесь, да-да, здесь, хорошо...», а
она: «О-о-о!..», а Иглезиа: «Да не расстраивайтесь вы: все само пойдет. Надо только
довериться ей и она сама пойдет, ей только того и надо...», а она открыла вдруг
свою сумочку (резким, неожиданным жестом, с той молниеносной быстротой движений
присущей одним животным, когда само движение не следует за намерением а, вроде бы,
предвосхищает его или, если можно так выразиться, предвосхищает самую мысль,
яростно порылась в сумочке, и тут же рука вынырнула обратно, так что двое мужчин
успели лишь уловить мгновенный блеск — вспышку — осыпанпого бриллиантиками
браслета, сухой щелк замка сумочки), и уже рука с наманикюренными ноготками, с
точеными фарфоровыми пальчиками, протягивала, вернее совала прямо под пос Иглезиа
целую пачку смятых кредиток, и гневно
452
прозвучал ее голос: «Держите. Поставьте за меня. За нас. Половина на половину. Да
идите же к кассам. Как хотите, так и ставьте. Я вас даже не прошу показывать мне
билеты. А если вы считаете что билетов вообще не стоит брать если по-вашему это пе
нужно, если он не сумеет...», а де Рейшак: «Ну хватит! Что это еще за...», а она:
«Я даже не требую, Иглезиа, чтобы вы показывали мне билеты, я...», а де Рейшак
(теперь уже чуть побледневший, под кожей судорожно ходили мускулы массивной нижней
челюсти, и пот уже откровенно струился по его вискам1 сказал, все так же не повышая
голоса — по-прежнему невыразительно, спокойно, но на сей раз возможно чуть суше,
отрывистее): «Ну ладно. Хватит. Прекратите»,, вдруг обращаясь к ней иа вы, или
возможно адресуясь также и к Иглезиа, или возможно к мальчику-конюху, к подручному
с жабьей мордой который выжимал мокрую губку на голову лошади, потому что он
приблизился к нему, взял из его рук губку, отжал ее, несколько раз провел, еле
влажной губкой, по рыжей холке не оборачиваясь и только негромко говоря что-то
мальчику-конюху — этой жабе,— на что тот отвечал: «Да мсье — Нет мсье — Да мсье...»
а тем временем за их спиной Иглезиа и Коринна продолжали стоять лицом к лицу, и
Коринна говорила очень быстро, хотя старалась сейчас овладеть своим голосом, унять
его, но все же на полтона выше, и трудно было догадаться то ли она злится, то ли
беспокоится или еще что, как будто просто розоватый отсвет падал от прозрачного
капюшона вишневого цвета на ее лицо, грудь, руки обнаженные до самых подмышек (так
что видны были между плечом и грудью две маленькие нежные, расходящиеся веером
складочки ее буйного, упруго-налитого тела) руки обнаженные платьем из тех что
называют сногсшибательными, не то чтобы наступательные скорее уж отступательные,
другими словами, такое платье из-за своей прозрачности, бесплотности, более чем
скудных размеров производит впечатление будто половину его уже успели сорвать и то
малое что осталось держится бог знает иа чем, на ниточке что ли, и выглядит оно
бесстыднее ночной рубашки (или скорее оно действительно было бы бесстыдным на любой
другой женщине но па ней оно было вне, над бесстыдством, другими словами,
уничтожало, гнало даже самую мысль о бесстыдстве или стыдливости), Коринна
твердила: «Половину на половину, Иглезиа. Ставьте на нее. На выигрыш ставьте. Выбор
предоставляется вам; или
453
ставьте на нее, или убедите его чтобы ои позволил вам на ней скакать, и получите
тогда примерно ваше полугодовое жалованье. Или если вы считаете что ои может
выиграть, дело другое. Или если вы считаете что он не может выиграть, оставьте
деньги себе. Я не требую от вас показывать мне билеты. Так что же вы и сейчас
будете его убеждать что все мол само пойдет?», а Иглезиа: «Да я не успею сделать
ставки, мне еще тут надо кое-чем заня...», а она: «Дойти до касс и вернуться
обратно всего две минуты. Вы прекрасно успеете», и тут Иглезиа рассказал нам что в
ту минуту он испытал нечто противоположное тому что чувствовал в тот день когда он
увидел ее впервые, когда она шла рядом с де Рейшаком, другими словами ему
показалось что перед ним уже было не дитя, не молодая женщина, и не старая женщина,
а просто женщина без возраста, словно бы в ней сочетались все женщины, и старые и
молодые, так что ей вполне можно было бы дать пятнадцать, тридцать или шестьдесят
лет а то и всю тысячу, женщина дышащая или пылающая яростью, ненавистью,, злобой,
хитростью, и это вовсе не было равнодействующей силой некоего житейского опыта или
некоего наслоения прожитых лет, но совсем-совсем другое, и он подумал позже он
рассказал нам, о чем подумал тогда): «Старая курва! Старая шлюха!», но подняв глаза
обнаружил ангельское личико, над лбом прозрачный ореол белокурых волос, молодое,
буйное, неоскверненное, иеоскверняемое тело, и тогда он, поспешно опустив глаза,
заметил в ее руке целую пачку кредиток и быстро подсчитал что это примерно его
двухмесячный заработок, а сколько денег он смог бы получить если поставил бы так
как следовало бы поставить, потом снова поглядел на Коринну и снова подумал: «Ну
чего ей надо Разве она сама это знает Это все глупость одна Одна бессмыслица», и
наконец уже совсем не подымая глаз, сказал: «Да, мадам», а Коринна: «Что да?», а де
Рейшак все так же повернувшись к ним спиной, присел на корточки, проверяя пряжки
наколенников, и окликнул: «Иглезиа!», а она: «Что да?», а де Рейшак по-прежнему не
оборачиваясь: «Послушай: у нас и без того куча дел...», а она пристукнув ножкой:
«Значит вы допустите чтобы оп скакал? Значит... Вы...», а Иглезиа: «Да не
расстраивайтесь вы, мадам! Я же вам говорю, она сама пойдет. Вот увидите», а она:
«Другими словами вы все-таки будете на нее ставить или просто присвоите деньги
себе», и прежде чем он успел открыть рот для ответа:
454
«Но я ничего не желаю знать. Поступайте как вам заблагорассудится. Идите помогайте
ему выставлять себя на посмешище! Он вам в конце концов платит также и за это...»
Потом она и Иглезиа стояли рядом на трибунах, Иглезиа (он скакал в первом заезде) в
обтрепанном пиджачке накинутом прямо на блестящий камзол, с мокрым от пота лицом, и
чуть запыхавшийся от того что бежал к пей,— а до того еще семенил возле кобылки,
притащил полное ведро воды (хотя запросто мог велеть принести воду мальчику-конюху,
но он взял ведро у него из рук, вернее, просто вырвал), итак он бежал, как будто
его пригнула к земле тяжесть этого ведра, на своих коротеньких кривых типично
жокейских ножонках, задрав голову к де Рейшаку, то и дело протягивая ему губку
которую он окунал в ведро, отжимал, снова окунал, и все время без передышки семенил
рядом с лошадью и так же без передышки говорил, говорил, поток слов ни на минуту не
прерывался — советы, наставления, предупреждения? — слова слетали с его губ,
страстно, с задышкой, а де Рейшак лишь время от времени одобрительно кивал головой,
стараясь чтобы кобылка шла ровно а она пятилась, рвалась вбок, двигалась по
диагопали, плясала на месте, а он (де Рейшак) беря протянутую ему губку, выжимал ее
на голову лошади, между ушами, и бросал Иглезиа который ловил губку иа лету. Потом
когда они подошли к барьеру, де Рейшак, не глядя, последний раз швырнул губку через
плечо, и рыжая напряглась как пружина, взяла в галоп, рванув изо всех сил уздечку,
слегка вывернув вбок шею, выдвинув одно плечо вперед, длинный ее хвост яростно
хлестал воздух, а сама она подскакивала словно резиновый мяч, де Рейшак слился с
ней в одно, почти стоя в стременах, слегка наклонив торс вперед, розовое пятно его
камзола, от скачка к скачку, быстро и бесшумно уменьшалось в размерах, а Иглезиа
все стоял у белого барьера, следил, как они удаляются, становятся все меньше, как
на всем скаку, лишь чуть-чуть оторвавшись от земли, преодолели небольшую изгородь
перед самым поворотом, после которого он уже ничего не различал лишь черную шапочку
и камзол по-прежнему все уменьшающиеся в размере и мелькавшие сейчас — то
приподымаясь над седлом, то мягко на седло опускаясь — над изгородью с правой
стороны, и окончательно скрывшиеся за купой деревьев: тогда,^ отшвырнув ведро и
губку он повернул обратно и со всей скоростью какую позволяли его ноги (другими
сло-
455
вами как вообще может бежать во всю прыть жокей, другими словами почти так как
могла бы скакать лошадь если бы ей до половины подрезали ноги) бросился к трибунам,
натыкаясь на зрителей, задрав голову, ища глазами Коринну, пробежав мимо нее,
наконец ее обнаружив, вернувшись обратно, стал карабкаться по лестнице и,
очутившись рядом с ней, вдруг весь застыл, повернувшись к купе деревьев, наставив
огромный бинокль(тот которым обычно пользовался сам де Рейшак) бинокль уже
наведенный по его глазам, казалось будто он, на манер фокусника, держал его
наготове в кулаке — хотя бинокль был не меньше тридцати сантиметров в длину — или
быть может вытащил его из рукава: появившийся на свет божий, извлеченный, так
сказать, из небытия а не из обыкновенного футляра, потому что невозможно было за
такой краткий миг его открыть, потом вытащить все за тот же промежуток времени, то
есть за то мгновение когда он, еще не отдышавшись, добрался до Коринны и встал с
ней рядом, вцепившись в бинокль обеими руками, прижав его к глазам, а ниже торчал
орлиный (или вернее полпшинелевский) нос и, казалось, будто бинокль это просто
естественный функциональный орган (на манер тех маленьких черных трубочек, что
вставляют себе в глазницу часовщики), нечто резко выдававшееся, неестественно
разросшееся, внезапно возникшее, уже приведенное в боевую готовность — огромные
окуляры, блестящие, покрытые черной зернистой кожей, похожие на выпуклые, угольно-
черные фасеточные глаза какие можно видеть на микрофотографии при съемке мух или
других насекомых.
И вот он замер еще более неподвижный чем статуя. И вот Коринна тоже еще более
неподвижная чем статуя, тоже жадно пытающаяся увидеть что происходит там за
рощицей, не разжимая губ, не поворачивая головы, не повышая тона, бросает, совсем
так как недавно когда она поспорила с Рейшаком: «Холуй несчастный». А он так
сказать целиком уйдя в два окуляра огромного бинокля, конечно даже не слыша, или
возможно отдавая себе отчет что она к нему обращается но даже не пытаясь ее
слушать, не стараясь даже вникнуть в смысл ее слов, твердил: «Да-да, она совсем
неплохо прошла на пробном галопе, да-да, именно так, надо бы ее... Да: вон она, вон
скачет...», а вокруг них мерный гул голосов зрителей, замешкавшихся при заключении
пари, хлынувших к барьеру или осаждавших трибуны подобно медлительному черно-
456
му прибою, хотя многие бежали, уже не глядя себе под ноги, все головы были
повернуты в сторону рощицы, и тех что еще бежали и тех кто уже устроился на
трибунах или успел взгромоздиться на стулья разбросанные тут и там по лужайке:
фарфоровые размалеванные личики манекенов окруженные фотографами, морщинистые и
пергаментные физиономии старых полковников в серых котелках, лица миллионеров с
повадками барышников, торговцев чем ни попадя или виноделов или наследственных от
отца к сыну биржевых игроков, ростовщиков, владельцев скаковых конюшен, женщин,
рудников, целых жилых кварталов, трущоб, вилл с плавательными бассейнами, замков,
яхт, негров или индейцев усохших до состояния скелетов, игральных автоматов больших
и малых (от семиэтажных зданий из камня, бетона и стальной арматуры до пестро как
леденцы раскрашенных и мигающих дешевых аппаратов вырезанных из жести): род, или
класс, или раса, отцы коей, или деды, или прадеды, или прапрадеды в один прекрасный
день нашли способ с помощью прямого насилия, хитрости или принуждения
осуществленного более или менее законным манером (пожалуй более чем менее, если
учесть что во все времена право, закон работали иа обожествление, обоготворение
силы как таковой) нашли способ сколотить состояние которое они нынче и тратили но
которое, вследствие некоего неизбежного и закономерного проклятия, неотторжимого от
насилия и хитрости, обрекло их наблюдать как вкруг них кишит вся эта фауна
стремящаяся в свою очередь захватить (или воспользоваться) такое же самое состояние
(или просто наткнуться на столь же счастливый случай) тоже прибегая к насилию или
хитрости, и первым лишь с помощью довольно сложных трюков удавалось (дыша одним и
тем же воздухом, топчась на одном и том же пыльном гравии, так как будто они
находились в одном и том же салоне) не только изображать что не замечают
присутствия вторых, но — возможно — и вообще их не видеть: этих типов заключающих
пари с их сомнительными занятиями, с их сомнительной чистоты воротничками, с их
сомнительными мордами, с их ястребиными глазами, с неумолимыми, застывшими,
разочарованными, изглоданными, разъеденными страстью лицами: северо-африканских
чернорабочих заплативших почти половину своего поденного заработка за одно лишь
право влюбленно поглазеть вблизи на лошадь на которую они поставили весь свой
недельный заработок, сутенеров, сне-
457
кулянтов, жучков, подмастерин, шоферов автобусов, полицейских комиссаров, старух-
баронесс, и тех что явились еюда только потому что нынче хорошая погода, и тех что
все равно явились бы сюда, даже если бы пришлось шлепать по грязи и стучать от
холода зубами под порывами ледяного ветра, даже если бы разверзлись хляби небесные,
и все они сейчас теснящиеся на трибунах похожие па затейливо украшенный фигурками
торт плывущий в небе рядом с неподвижными облаками, точно сбитые сливки, нечто
вроде меренгов, другими словами пухлые, вздутые в верхней своей части и плоские в
нижней как будто их взяли и уложили рядком на невидимую стеклянную дощечку,
вытянули по шнуру ряд за рядом по ранжиру а дальше перспектива сводила их в одно
целое (как стволы деревьев вдоль дороги) чтобы там, ближе к подернутому дымкой
горизонту, сжать их в сплошную застывшую пелену потолком нависшую над кронами
деревьев и чахлыми заводскими трубами, так что если всмотреться получше можно было
заметить как все небо целиком неприметно скользит, как его сносит подобно
снявшемуся с места архипелагу, тащит над домами, над неестественно зеленым дерном
лужайки, над рощицей справа от которой наконец появились лошади идущие сейчас шагом
к старту: не одна, не три или десяток но, в пестрых смешавшихся пятнах камзолов,
волнистых хвостов, в самой поступи благородных животных, высокомерно переставляющих
ноги кажущиеся отсюда не толще былинки, возникло вдруг некое видение, нечто
средневековое, сверкающее там вдали (и не только там вдали, в дальнем конце
поворота, но как бы выступившее если можно так выразиться из глуби веков, на поле
блистательных битв где, на протяжении одного солнечного утра, одной стремительной
атаки, сокрушительного галопа, теряют или завоевывают целые державы а заодно и руку
принцессы); потом Иглезиа увидел его самого, как рассказывал он нам позже,
выдернутого из группы, отделенного биноклем от безликой радужной пестроты, на той
самой кобылке похожей на каплю расплавленной светлой бронзы, его в черной жокейской
шапочке и ярко-розовом с лиловатым оттенком камзоле в которых по ее желанию
щеголяли они оба (Иглезиа и де Рейшак) нечто вроде символа сладострастия и похоти
(наподобие цветов того или иного монашеского ордена или вернее эмблемы вполне
определенной так сказать оплодотворительной функции), уже можно было различить
между тем и другим (между
458
шапочкой и камзолом) это на редкость ничего не выражающее, казалось бы лишенное
мысли и чувства лицо, даже не сосредоточенное, или внимательное: а просто-напросто
бесстрастное (по словам рассказывавшего об этом позже Иглезиа, он подумал: «Но
тогда черт бы его побрал пусть бы разрешил скакать мне. Если это только для такой
вот демонстрации, ну и ну! На что он надеялся-то? Что после этого она только с ним
одним будет спать, что она лишит себя удовольствия обманывать его с первым
встречным просто потому что мол увидит его верхом на этой лошадке? Не я, так другой
нашелся бы. Потому что она уже в охоту вошла. Да еще при такой хреновой погоде вот
уж действительно ни к селу ни к городу. Еще до старта она уже вся взмокла!..»), и
уже можно было видеть словно они находились всего в нескольких метрах отсюда шею
лошади покрытую серой пеной в том месте где ее касались поводья, вся группа, весь
этот священный и средневековый кортеж по-прежнему держал путь к каменной стенке
пересекшей теперь развилку, и вот уже опять лошадей скрыла по самое брюхо живая
изгородь так что нижняя их половина исчезла будто их перерезало вдоль только спины
казалось скользят по зеленеющей ниве как утки по неподвижной глади пруда мне было
видно их по мере того как они сворачивали вправо на дорогу между высоких откосов и
он во главе колонны словно дело происходило на параде Четырнадцатого июля одни
потом два потом три потом первый взвод весь целиком потом второй лошади спокойно
шли шагом совсем как те игрушечные лошадки с которыми когда-то играли дети вроде
какие-то морские животные плавающие на брюхе подгребая воду невидимыми своими
перепончатыми лапами медленно скользя друг за дружкой с одинаково округло
изогнутыми шеями как у шахматных коней с одинаково измотанными всадниками одинаково
ссутулившимися наполовину убаюкан-пыми этим монотонным движением готовыми заснуть
тут же в седле хотя уже давно рассвело заря окрасила небо в розоватые тона поля
вокруг лежали разомлевшие тоже еще наполовину сонные, от земли поднимался влажный
парок с травинок должно быть свисали хрустальные капли росы которые скоро выпьет
солнце я без труда узнавал его там впереди эскадрона по его манере держаться в
седле очень прямо в отличие от всех своих обмякших спутников так словно его не
брала усталость, примерно половина эскадрона уже свернула на дорогу но вдруг
отхлынула к пере-
459
крестку другими словами совсем как аккордеон точно их отбросило назад каким-то
нажатием невидимого клавиша, задние еще продолжали двигаться вперед тогда как
голова колонны словно бы так сказать укоротилась шум донесся только спустя
мгновение (возможно через какую-то долю секунды но очевидно все-таки больше) и
тогда во всесветной тишине произошло лишь вот что: маленькие деревянные лошадки и
их всадники в беспорядке отброшенные друг на друга совсем так как падают цепочкой
шахматные фигурки не сплошной звук падения а как бы с легкими заминками вызывающий
в уме вполне определенное представление о шахматных фигурах из слоновой кости
падающих одна за другой барабанящих по шахматной доске вот скажем примерно: так-
так-так-так-так захлебывающиеся в спешке пулеметные очереди наслаивающиеся друг на
друга если можно так выразиться громоздящиеся друг на друга затем пад нашими
головами раздался перебор невидимо протянутых дрогнувших гитарных струн плетущих
невидимую воздушную цепь скомканной шелковистой смертоносной мелодии поэтому-то я и
не услышал приказа а только увидел как начиная с первых рядов и постепенно
приближаясь ко мне люди наклоняются к седлу а правые их ноги одна за другой
перелетают через лошадиные крупы наподобие страниц книги перелистываемой с зада
наперед и очутившись в свою очередь на земле я поискал взглядом Вака чтобы передать
ему поводья а правая моя рука закинутая за спину вела борьбу с этим сволочным
спусковым крючком карабина потом на нас уже сзади налетел громовой перестук копыт
несущихся галопом обезумевших лошадей без всадников прижавших уши с расширенными от
ужаса глазами пустые стремена и ненужные уже поводья хлестали воздух извиваясь как
змеи и позвякивая, две или три уже окровавленные лошади и на одной еще держался
всадник крикнувший Сзади тоже они они дали нам пройти а потом, конец фразы унесло
вместе с ним пригнувшимся к холке лошади с широко открытым как зияющая дыра ртом и
теперь я уже боролся ию со спусковым крючком карабина а боролся со своей клячей
которая начала хрипеть высоко вскинув голову вытянув словно мачту шею и так сильно
скосив глаза будто она пыталась заглянуть себе за уши неудержимо пятясь назад не
отпрянув одним махом а так сказать методически переставляя одну ногу за другой а я
безжалостно звонко хлопал ее по морде так что чуть не вывихнул ей челюсть
460
твердя Да ну Да ну же как будто она могла расслышать меня среди этого хаоса и рева
все подтягивая и подтягивая поводья так что мне удалось наконец потрепать ее
ладонью по холке повторяя Ну ну да ну же... пока она окончательно не остановилась
вся сжавшись напружившись дрожа всем телом расставив ноги врытые в землю как столбы
и в то время как я возился с ней очевидно дали какую-то другую команду потому что я
догадался (не видел нет так как был слишком занят лошадью, но почувствовал, почуял)
что среди этого переполоха этой неразберихи они все снова вскочили на коней я
приблизился к своей лошади (все такой же неподвижной такой же застывшей будто она
была деревянная) как можно осторожнее опасаясь как бы она от пережитого страха не
встала на дыбы или не упала бы па галопе как раз когда я буду вдевать ногу в стремя
по она по-прежнему не шевелилась только стоя на месте вся дрожала как мотор
работающий на малых оборотах и спокойно дала мне вдеть ногу в стремя даже не
шелохнувшись, только вот когда я схватился за седельную шишку и заднюю луку
намереваясь вскочить в седло оно вдруг сползло лошади под брюхо, этого номера я как
раз и ждал уже три дня я пытался найти кого-нибудь с кем можно было бы обменять эту
слишком длинную для моей теперешней лошади подпругу вполне подходившую Эдгару
которого я вынужден был бросить но пойди сговорись с этими крестьянами им скажешь
хочу мол сменить подпругу а они подумают что ты их облапошить хочешь и у Блюма
подпруга тоже была слишком длинная так нужно же было чтобы такой номер случился со
мной как раз в ту минуту когда по эскадрону били и били разом со всех сторон но у
меня времени не было даже на то чтобы чертыхнуться даже дыхание перевести не было
даже времени чтоб выдумать какое-нибудь наиболее подходящее к данному случаю
ругательство и хватило времени только как раз на то чтобы подумать пока я тут
вожусь с этим чертовым седлом стараясь взгромоздить его на спину лошади все эти
типы скачут мимо меня на полном галопе и тут я заметил что руки у меня дрожат ио я
не могу упять этой дрожи совсем так же как и лошадь не могла унять дрожи
сотрясавшей все ее тело и в конце концов я отказался от своих бесплодных попыток и
побежал рядом с лошадью держа ее под уздцы она шла манежным галопом седло теперь
окончательно сползло ей под брюхо я бежал среди лошадей со всадниками или без
всадников обгоня-
461
ющих нас смертоносная сеть гитарных струп была потолком натянута над нами но только
когда я увидел как падает один затем другой третий я догадался что попал в мертвый
угол у откоса тогда как верхами они смаху обходили его и их сшибали одного за
другим наподобие кеглей потом я увидел Вака (все это как ни странно разворачивалось
в некоем безмолвии в пустоте другими словами свист пуль и грохот разрывов — должно
быть били теперь также из минометов или из небольших танковых пушек — все эти звуки
будучи раз восприняты впитаны и если так можно выразиться забыты и вроде бы гасят
друг друга не слышно уже совсем ничего ни голоса ни криков безусловно потому что
никто не успевает крикнуть и это напомнило мне тот день когда я бежал на 1500
метров: лишь свистящее хриплое дыхание ругательства сами по себе задохнувшиеся на
подступах к губам когда внутри все ходит ходуном будто легкие захватили целиком
оставшийся свободным воздух чтобы распределить его по всему телу и употребить его
только на то что требуется сейчас: смотреть решать бежать, поэтому все происходило
отчасти как в фильме когда внезапно прерывается звук), я увидел Вака который только
что обогнал меня привалившись к лошадиной холке повернув в мою сторону лицо с
широко открытым ртом без сомнения тоже пытающегося что-то мне крикнуть хотя громко
крикнуть ему мешал недостаток воздуха и вдруг словно чья-то невидимая рука схватила
его за воротник шинели как крючком сдернула с седла и медленно приподняла другими
словами он казался почти неподвижным по отношению (другими словами двигался почти
на той же скорости) к лошади которая продолжала идти галопом а я все еще бежал хотя
уже не так быстро так что Вак его лошадь и я составляли некую группу предметов
расстояние между которыми изменялось с предельной медлительностью Вак теперь
находился как раз над своей лошадыо с которой его только что подняло сорвало
медленно вознесло в воздух в позе всадника с раскоряченными ногами как будто он все
еще продолжал скакать на каком-то невидимом Пегасе который взбрыкнув перебросил его
через голову вынудив таким образом выполнить все в том же замедленном темпе и так
сказать на месте двойное и весьма рискованное сальто которое оп вскоре показал мне
вниз головой по-прежнему с широко открытым ртом все в том же крике (или совете
который он пытался прокричать мне) в этом безмолвном крике потом ле-
462
жащим в воздухе на сппне как лежит в гамаке отдыхающий дачник свесив наги справа и
слева от туловища потом снова в вертикальном положении уже головой вверх а ноги
постепенно теряли прежнюю позицию всадника и сдвинутые вместе свисали уже
параллельно потом его развернуло на живот обе руки вытянулись вперед ладони
раскрылись словно он собирался схватить поймать что-то что находилось на некотором
от него‘расстоянии как цирковой акробат в тот миг когда он висит ни за что не
держась между двумя трапециями и тело его не подчинено закону земного притяжения
потом в конце концов голова его снова очутилась внизу ноги разошлись в стороны а
руки раскинулись крестом будто он желал преградить мне путь но теперь полностью
неподвижный влипший в придорожный откос не шевелясь больше и глядя прямо на меня на
его лице застыло удивленно-глупое выражение я подумал Бедняга Вак всегда-то у него
был идиотский вид но сейчас еще более идиотский чем обычно, потом я уже ни о чем не
думал что-то не то гора не то лошадь обрушилось на меня бросило на землю прошлось
по мне я чувствовал что выпускаю из рук поводья потом нахлынул мрак и во мраке
тысячи скачущих коней на полном галопе протопали по моему телу потом я уже не
чувствовал ничего даже лошадей только вроде бы запах эфира и мрак в ушах гудело и
когда я снова открыл глаза я валялся на дороге и ни одной лошади не было видно был
только Вак по-прежнему лежащий вниз головой на придорожном откосе и смотревший на
меня широко открытыми глазами все с тем же ошалелым выражением лица но я боялся
шевельнуться я ждал когда начнутся боли потому что слышал будто при тяжелых
ранениях человек находится сначала как бы под воздействием наркоза но по-прежнему
ничего не чувствуя я через минуту попытался приподняться но ничего не произошло мне
удалось встать на четвереньки вытянув вперед параллельно земле шею опустив голову и
д мог разглядывать сколько душе угодно дорогу убитую щебенкой там попадались
камешки то треугольные то многоугольные неправильной формы белые с чуть заметной
голубизной по краям на фоне блекло-охряной породы посередине дороги как бы
расстелили травяной ковер а по бокам справа и слева там где обычно проходят колеса
повозок и машин две голых борозды-коридорчика потом сно.-ва трава на обочинах и
приподняв голову я увидел свою тень еще пока бледную и вытянутую самым фантастиче-
463
ским образом и подумал: Значит солнце уже взошло, и в эту самую минуту я вдруг
ощутил тишину и увидел немного подальше от Вака какого-то типа сидевшего на
придорожном откосе: он придерживал руку чуть повыше локтя окровавленная кисть
свисала между раздвинутых колен но этот тип был не из нашего эскадрона, когда он
заметил что я на него смотрю он сказал Пропали к такой-то матери, я не ответил он
тоже очевидно забыл про меня и стал рассматривать свою окровавленную кисть где-то
очень далеко еще строчили пулеметы я взглянул на дорогу позади нас у перекрестка
увидел на земле что-то коричнево-желтое это коричнево-желтое пе шевелилось увидел
лошадей а совсем близко лошадь лежавшую на боку в луже крови судорожно и слабо
подергивавшую всеми четырьмя ногами тогда я сел на откос рядом с тем типом думая Но
ведь только-только занялась заря, я спросил Который час, но он ничего не ответил
потом пулеметная очередь прошла где-то совсем рядом на этот раз я бросился в
придорожную канаву услышав как тот тип снова повторил Пропали к такой-то матери, но
я даже не оглянулся дополз по канаве до того места где кончался откос и согнувшись
вдвое бросился бежать к купе деревьев но никто уже не стрелял, не стреляли также
пока я бежал от купы деревьев к живой изгороди я переполз изгородь на животе
приземлился с другой стороны упершись руками в землю и замер неподвижно пока мне
наконец не удалось отдышаться теперь уже не стреляли я услышал как запела какая-то
птичка тень от деревьев вытягивалась передо мной по лугу я двинулся вдоль изгороди
по-прежнему на четвереньках перпендикулярно к тени деревьев добрался до конца луга
потом стал карабкаться на холм с той стороны луга все еще на четвереньках и все еще
держась изгороди тень моя снова бежала передо мной и когда я очутился в лесу шагая
среди солнечных чешуек я старался чтобы моя тень так все время и была впереди меня
рассчитав что по мере того как шло время непременно нужно чтобы она находилась
сначала впереди меня и чуть правее потом позже еще правее но по-прежнему впереди в
лесу куковали кукушки пели еще какие-то неизвестные мне птицы но особенно
надрывались кукушки или возможно мне это только казалось потому что кукушку я зпал
различал ее кукование возможно также и потому что голос ее ни с чем не спутаешь
раскромсанное солнце просачивалось сквозь листву бросая па землю мою раскромсанную
тень а я все старался
464
чтоОы она бежала впереди меня а потом чуть правее, я долго шагал слыша лишь кукушек
и других неизвестных мне птиц, под конец я уже еле передвигал ноги устав от этой
бесконечной ходьбы прямо через лес и выбрался на просеку но тут моя тень
переместилась влево, вскоре я обнаружил другую просеку шедшую перпендикулярно к
первой я свернул на нее и тень моя снова побежала впереди меня чуть правее но я
рассчитал что придется шагать по этой просеке еще дольше чем по первой потому что
мне пришлось сделать ненужный крюк и в эту минуту я почувствовал что голоден и
вспомпил о кусочке колбасы завалявшемся в кармане шинели я сжевал его на ходу
вместе с кожурой сжевал до самого хвостика перевязанного веревочкой ее я выбросил
потом лес кончился уперся если можно так выразиться в небесный простор открыв пруд
и когда я лег на живот чтобы напиться маленькие лягушки бухались в воду почти
бесшумно как если б упала крупная дождевая капля: возле берега куда плюхались
лягушки в воде поднималось маленькое пыльно-серое облачко тины которое медленно
расплывалось среди камышей лягушки были зеленые и не больше мизинца весь пруд был
сплошь затянут крохотными круглыми бледно-зелеными листочками каждый размером с
кружочек конфетти вот почему я не сразу заметил что снова появились лягушки сначала
одна потом две потом три разрывая над собой пелену бледно-зеленого конфетти
высовывая только самый кончик мордочки с маленькими размером с булавочную головку
глазками и смотрели прямо на меня очевидно тут был подводный ключ и я заметил как
одна лягушка отдалась течению и ее медленно понесло среди архипелагов слипшихся
конфетти такого же лягушачьего цвета похоже было что плывет утопленник которого
перед этим четвертовали чуть высунув из воды голову раскинув свои тоненькие
перепончатые лапки потом лягушка встрепенулась и я ее потерял из виду вернее даже
не видел как она встрепенулась, просто куда-то исчезла осталось только маленькое
облачко тины которую она подняла, вода была вообще тинистая с тинистым привкусом
угря я пил раздвигая крошечные конфетти стараясь не глотнуть тины поднимавшейся от
малейшего движения просунув голову между камышами и большими листьями похожими на
клинки копья потом я так и остался сидеть на опушке леса за зарослями кустарника
слушая как перекликаются кукушки среди немотствующих стволов в по-весеннему зеленом
воздухе
465
глядя на дорогу огибавшую пруд и идущую потом вдоль леса время от времени из воды
выскакивала рыба и плюхалась обратно но мне никак не удавалось увидеть ни одной,
только концентрические круги широко расходившиеся от того места где она выскакивала
гоняясь за мухами внезапно прошли самолеты но очень высоко в небе я вроде разглядел
один вернее блестящую серебристую точечку неподвижно повисшую на какую-то долю
секунды в голубом провале между ветвями потом они ушли их гул казалось такой же
вибрирующий тоже повис в легчайшем воздухе потом он мало-помалу затих и я снова
услышал тонкий шелест листвы и снова кукование и вскоре из-за поворота дороги
появились два офицера проваживавшие своих лошадей но возможно здесь еще не знали
что война рядом во всяком случае ехали они спокойно не торопясь поглядывая по
сторонам когда я увидел что на них форма цвета хаки а не зеленая я поднялся
прикидывая в уме что они будут делать заметив меня а главное когда я им скажу что
немецкие танки мотаются по дорогам в шести-семи километрах отсюда ясно их забыли об
этом предупредить я встал на самом виду посреди дороги в этой лесной благодати
откуда по-прежнему слышалось кукование а иногда и стремительный невидимый глазу и
ленивый скачок рыбы над невозмутимым зеркалом воды потом я подумал Черт Черт Черт
Черт, узнав его узнав голос доносившийся теперь до меня или вернее падавший на меня
откуда-то сверху высокомерный отчужденный спокойный даже пожалуй жизнерадостный
чуть ли не веселый Вам тоже удалось выбраться? и сказал повернувшись к низенькому
младшему лейтенанту Вот видите не всех же их поубивало некоторым удалось выбраться,
потом снова было сказано в мою сторону Иглезиа едет сзади с двумя запасными
лошадьми Возьмите-ка одну, я слышал отсюда журчание воды там где пруд маленьким
водопадиком устремлялся вниз шорох листьев под еле заметным ветерком, на уровне
своих глаз я увидел колени незаметно сжимавшие лошадиные бока проплывшие мимо меня
начищенные до блеска сапоги лошадиные крупы со слипшейся ссохшейся от пота рыжей
шерстью хвосты потом снова мирный прудик пад которым теперь ветер шелестит как
бумагой длинными листьями похожими на железные копья, его голос уже издали долетел
до меня (но говорил он не со мной а продолжал вполне благопристойную беседу с тем
низеньким
466
младшим лейтенантиком и мне слышен был его небрежный изящный чуть раздраженный тон)
он говорил: ...дело скверное. По-видимому они используют танки как..., потом голос
удалился я совсем забыл что такие вещи определяются просто словом «дело» говорят же
«иметь дело» вместо «драться на дуэли» легкий эвфемизм формулировка более
сдержанная более элегантная ну и пускай тем лучше значит пока еще не все потеряно
раз по-прежнему находишься среди хорошо воспитанных людей когда можно сказать или
можно не сказать, например не сказать «эскадрон нарвался на засаду и был полностью
уничтожен», а сказать «при входе в такой-то и такой-то городок было горячее дело»
потом голос Иглезиа и его полишинелевская физиономия уставившаяся на меня круглым
глазом со своим обычным сконфуженным нетерпеливым и пожалуй неодобрительным видом
он сказал А ну садись на лошадь садись наконец Вот уж сколько времени я тащу этих
двух кляч а это не шутка уж поверь черт бы их побрал! я сел в седло и последовал за
ними пришлось ехать рысью чтобы догнать Иглезиа потом я перевел лошадь на шаг
теперь я мог видеть его со спины рядом с низеньким младшим лейтенантиком спокойно
ехавшего лошади шли с той чудовищной медлительностью, с тем абсолютным отсутствием
спешки которая встречается лишь у живых существ или вещей (у боксеров, змей,
самолетов) способных нанести удар, действовать или передвигаться с молниеносной
быстротой, небо, мирные пушистые облачка все еще скользили в лазури, дрейфовали в
обратном направлении на скорости тоже еле заметной (словно бы между хрупкими
средневековыми и изящными силуэтами которые все шли и шли к тому месту где, с
шамберьером в руке, их поджидал стартёр, словно бы между лошадьми и облаками
разворачивалось состязание в этой действующей на нервы медлительности, словно бы и
те и другие затеяли поединок величественности, даже вроде бы не замечая
лихорадочного и грошового нетерпения толпы: чопорные, изящные и хлыщеватые
чистокровки, способные не только прийти к цели но в мгновение ока обернуться не
только в нечто чему сообщается чудовищная скорость но в самое скорость как таковую,
и медлительные облака подобные тем горделивым армадам словно бы неподвижно
дремлющим в море и прыжками двигающимся на фантастической скорости вперед, глаз
устает от их кажущейся неподвижности но, стоит на секунду отвести взгляд, они вроде
бы по-прежне-
467
му неподвижны, но уже добрались до противоположного края горизонта, пробежав за
этот краткий миг воистину сказочное расстояние а под ними нескончаемой вереницей
проходят, крошечные и ничтожные, города, пригорки, леса, и под ними, хотя
невозможно будет уловить движения этих торжественных, пухлых и невесомых громад,
побегут еще другие города, другие леса, другие ничтожные пригорки, уже много позже
того как лошади, публика разойдутся прочь, трибуны, зеленые лужайки усыпанные,
оскверненные мириадами невыигравших билетов словно крохотными трупиками
мертворожденных грез и надежд (вечер бракосочетания не земли с небесами а земли с
человеком, безжалостно осквернившим ее отбросами, этой своего рода массовой
зародышевой поллюцией, клочками в гневе разорванных бумажек), и после того как
последняя лошадь на ходу вырвет копытом взлетевший в воздух последний кусок дерна,
ее уведут, окружат конюхи, лишь бы уберечь ее нервную систему будут обращаться с
ней заботливее, осторожнее, внимательнее чем с кинозвездой, и когда эхо самых
последних и самых яростных воплей растворится среди безмолвных скамей амфитеатра,
куда выйдет потом целый отряд подметальщиков, и будет слышно лишь легкое и вполне
прозаическое шварканье метел), Коринна уже не глядя на то что происходит там на
повороте, снова яростно топнув ногой, сказала: «Вы что не можете оторваться хоть на
секунду от этого проклятого бинокля, что ли? Вы слышите, ведь я с вами
разговариваю? Сейчас ие на что смотреть. Они идут к старту. Они... Да вы слышите
меня наконец?», и он нехотя оторвавшись от бинокля, повернув к пей свои огромные
рыбьи глаза, хлопая веками, глядя на нее затуманенными, мутными зрачками, еще не
освоившимися с этой новой слишком близкой после бинокля перспективой, произнес
своим тонким, боязливым, ноющим голоском: «Вы... Вам не следовало бы. Он...», голос
его оборвался, замер, растворился, потонул (несмотря на резкое и назойливое
звяканье колокола) в протяжном облегченном вздохе обмирающей алчной толпы (это в
буквальном смысле слова еще не оргазм, но нечто подобное, так сказать предоргазм,
как когда мужчина берет женщину), а там, внизу, можно было теперь видеть растянутое
пестрое пятно бешено несущееся среди зелени, над самой землей, лошади сразу же
перешли от небрежной полунеподвижности к движению, вся группа быстро вытянулась в
горизонтальную линию, плавно, слов-
468
но двигалась вдоль натянутой проволоки или будто скользя на колесиках, подобно
детским игрушкам, все лошади были сбиты в один клубок словно их вырезали всех
вместе из одного и того же куска картона или пестро размалеванной жести и заставили
иа всей скорости скользить по нарочно устроенному склону среди пейзажа
отлакированного до блеска и иллюзорно правдоподобного, все жокеи одинаково
пригнулись к лошадиной холке, а сами лошади до брюха скрыты изгородью; потом они
все так же впритирку вышли иа дорожку и, на минуту, стали видны их ноги быстро
ходящие взад и вперед, то раскрывающиеся то складывающиеся вместе на манер ножек
циркуля, но по-прежнему все в том же механическом, непогрешимо-точном и абстрактном
ритме заводной игрушки; потом снова ничего не стало видно за рощицей, только
рассеченное стволами и ветвями мелькание шелковых камзолов словно кто-то там
швырнул полную горсть конфетти и камзолы казалось — возможно из-за шелковистого
блеска материи, или ослепительно ярких тонов — вбирали в себя, сосредотачивали на
себе все сверкание послеполуденного света, и крошечное розовое пятнышко (и однако
под ним торс человека, вся его живая плоть, его набрякшие мускулы, бьющаяся в
артериях кровь, все сдавленные и перенапряженные органы) на четвертом месте:
«Потому что умел он все-таки скакать. Что правда то правда: знал он это дело.
Потому что уж больно ловко старт взял», рассказывал нам потом Иглезиа; теперь они
все трое были вместе (Жорж, Блюм и сам Иглезиа: два молодых человека и этот
итальянец (а может испанец) с продубленной кожей и было ему почти столько же лет
сколько тем двоим вместе взятым и конечно раз в десять больше опыта, а если
говорить об одном лишь Жорже то и во все тридцать раз потому что, вопреки тому
обстоятельству что они с Блюмом были примерно ровесники, Блюм владел неким знанием
перешедшим к нему по наследству (интеллектом говорил Жорж, но пе только
интеллектом: больше чем интеллектом: атавистическим, нутряным опытом, уже прошедшим
стадию человеческих рефлексов, глупости и злобы) знанием которое было втрое ценнее
того что мог получить юноша из хорошей семьи от изучения французских классиков
равно как и классиков греческих и римских, и еще десяти дней боев, вернее десяти
дней отступления, или еще вернее охотничьих забав когда он — юноша из хорошей семьи
— с бухты-барахты попал на неожи-
469
данную для него роль перепелки) итак они все трое различного возраста а также и
различного происхождения были свезены сюда если можно так выразиться со всех
четырех сторон света («Нам только негра не хватает, говорил Жорж. Кто мы теперь?
Сим, Хам и Иафет, но нам требуется четвертый; следовало бы его изобрести: в конце
концов гораздо труднее раздобыть эту муку и доволочь ее сюда чем отделаться от
своих ручных часов!») они сидели на корточках в дальнем углу лагеря еще не
окончательно достроенного, позади кучи кирпичей и Иглезиа стряпал на огне то что
они украли или обменяли (на сей раз половину мешочка муки которую Жорж получил в
обмен за свои часы — те самые которые ему подарили две его старенькие тетки Мари и
Эжепи когда он сдал свой первый экзамен на бакалавра — как раз у черного — у
сенегальца из колоний — который сам свистнул муку один бог знает где (как свистнул
тоже одному богу известно где и притащил в лагерь один бог знает почему — с каким
намерением? очевидно просто на всякий случай, ради суеверного удовольствия
грабастать, владеть и припрятывать — все что можно потс*м продать, купить или
обменять, другими словами бог знает что, целый ассортимент — даже пожалуй
пошикарнее — большого магазина, полки с кружевными и антикварными изделиями,
включая продукты питания: не только такие вещи как мешок муки — вещь полезная и
могущая быть съеденной, по также предметы явно бесполезные и даже громоздкие, и
даже нелепые, например дамские чулки или штанишки, философские книги, фальшивые
бриллианты, туристские справочники, порнографические открытки, зонтики, теннисные
ракетки, труды по агротехнике, магнето, цветочные луковицы, аккордеоны, птичьи
клетки — иной раз даже с птичкой^— Эйфелевы башни из бронзы, стенные часы,
презервативы, не говоря уже разумеется о сотне и сотне ручных часов, хронометров,
портфелей из телячьей кожи, под крокодила или попроще из обыкновенной кожи, все что
составляет ходячую монету в этой вселенной, вещицы, вещи, реликвии, трофеи все что
с такими трудностями тащили на себе тысячи километров эти орды истощенных
оголодавших людей, все это припрятанное, отнимаемое при шмонах, сохраненное вопреки
прямым запретам и угрозам, вдруг неудержимо возникающее, появляющееся на подпольных
черных рынках, лихорадочных и ожесточенных, главный смысл которых подчас не
приобрести что-либо а
470
иметь что-либо для продажи или покупки), так что, учитывая стоимость часов, лепешка
обходится (ибо Иглезиа как раз и колдовал над лепешкой, положив на кусок ржавой
железяки тесто замешенное на воде, муке и с добавкой чуточки древесного маргарина
который раздают военнопленным по тоненькому ломтику), так что порция лепешки
обходится в такую головокружительную цену которую ни один владелец самого шикарного
ресторана не осмелился бы спросить за порцию черной икры) итак все трое сошлись
здесь (один сидел на корточках, двое остальных стояли на стреме), похожие на трех
изголодавшихся бродяг из тех что ютятся где-нибудь на пустырях на окраинах больших
городов, и ничего уже нет в них солдатского (или вернее переодеты они в нелепую
ветошь ибо такова участь любого разбитого воинства, и даже не в свои собственные
лохмотья а так, словно бы победитель в веселую минуту решил еще позабавиться на их
счет, еще глубже ткнуть носом эти обломки, эти отбросы в яму куда их уже привело
положение побежденных (но разумеется это было совсем не так: просто логическое
завершение приказов, возможно и разумных в корне, но чисто безумных в стадии
выполнения, как это бывает всякий раз когда исполнительская машина недостаточно
гибка, как в армии, или слишком стремительна, как в годину революций, и обрушивает
на человека без предварительной подгонки приспособления все то что вытекает из
неправильного применения приказов, либо просто из самого времени, то что
представляет идею в ее абстрактно обнаженном виде), все трое не в своих
кавалерийских накидках которые у них отобрали, а в солдатских шинелях чешских или
польских, полученных в обмен (прежние их владельцы возможно уже умерли, или
возможно — шинели эти — военные трофеи, захваченные в армейских складах, еще не
тронутые, из интендантских запасов Варшавы или Праги), и естественно все это не по
мерке, не по росту, рукава шинели доставшейся Жоржу доходят ему только до локтей а
Иглезиа, сейчас уже совсем огородное пугало, окончательно Полишинель, утонувший в
необъятной шинели (его легкого жокейского скелетика вообще из-под нее и не видно)
из которой торчит только его нос похожий на те носы что надевают на карнавале да
самые кончики пальцев:) три призрака, три нелепые нереальные тени с их изглоданными
физиономиями, с блестящими от голода глазами, бритыми черепами, в смехотворных
своих одеяниях, склонившиеся к чахлому
471
запретному огоньку среди этой фантасмагорической декорации: бесконечные бараки
выстроенные в ряд на песчаной площадке, здесь и там, где-то на горизонте торчат
несколько сосен да висит в небе побагровевшее перед заходом солнце, а другие
полуживые силуэты бродят вокруг, <гопчутся с ненавистью (со стыдом), подбираются
поближе к этим счастливцам бросая на них завистливые, голодные и лихорадочные
волчьи взгляды (и все они подряд тоже переряжены в это хламье, цвета желчи, грязи,
словно бы какая-то плесень, какая-то гниль цвета самой войны, земли, покрыла их,
сглодала сначала одежду, напала на них еле державшихся на ногах, потом коварно
пробрав лась глубже, завладев мало-помалу ими самими, их землистыми лицами, их
землистыми лохмотьями, а также их землистыми глазами грязного оттенка, неотличимо
одинакового что уже уподобляло их этой глине, этой грязи, этой пыли из которой они
всклубились и в которую, суетливые, стыдящиеся, ошалевшие от тоски, постепенно изо
дня в день превращались сами), и даже никакие не волки, то есть конечно
изголодавшиеся, отощавшие и злобные, опасные, но на собственную беду наделенные той
слабостью что неведома волкам а ведома лишь людям, другими словами наделенные
разумом, другими словами, в противоположность тому что произошло бы будь они
настоящими волками, нм мешало напасть на нас именно то соображение которое подвигло
бы волков броситься па добычу (численное превосходство), а людей заранее
обескураживало поскольку они успевали рассчитать что несколько жалких но
вожделенных лепешек такой в сущности пустяк если придется делить их между целой
тысячью, и все-такн они оставались здесь, бродили около с убийственным блеском в
глазах,— и вдруг брошенный чьей-то рукой кирпич, задев плечо Иглезиа перевернул
железку, и почти готовая лепешка свалилась в огонь, и Жорж бросил кирпич который он
тоже на всякий случай держал в руке в того самого типа пустившегося наутек (и
разумеется не из желания убить или причинить вред, а с отчаяния, и потому что голод
как неутомимая крыса угнездившаяся в утробе грызла кишки, и этот жест — брошенный
кирпич — бесконтрольный, неконтролируемый, и сразу же этот жалкий рывок в сторону,
и даже не от страха перед отпором, а перед собственным своим стыдом, перед
собственным своим бессилием), Иглезиа худо ли хорошо подобрал лепешку, водрузил ее
на железяку и снова поставил допекаться, а в са-
472
мой лепешке остались черные вкрапленные кусочки угля, которые они старались
поначалу выковыривать, но так и не выковыряли до конца, и когда они жевали лепешку
уголь хрустел на зубах и они все время отплевывались, но все-таки съели все, до
последней крошки, сидя как обезьяны на пятках, и когда тянулись за новой лепешкой
обжигали пальцы о печурку — вернее сказать о кусок ржавой искореженной железяки
заменявшей печурку,— Иглезиа (теперь он уже завелся, говорил без передышки,
медленно, ровным тоном, терпеливо рассказывал и, казалось, для самого себя, а вовсе
не для них, устремив прямо перед собой, куда-то вдаль, свои огромные глазища все с
тем же удивленно-серьезным и восхищенным выражением) рассказывал пережевывая
лепешку: «А ведь в этом забеге скакали два-три субчика которые старались его
затереть так что гладко все получиться не могло, я ж тебе говорю, потому что когда
какой-нибудь тип скачет как настоящий джентльмен вместе с жокеями, жди сюрпризов.
Только оп сумел-таки их ловко обойти: он был уже на четвертом месте, и все что он
мог тогда сделать только этого места и держаться, у него и так забот хватало, уж ты
поверь мне, потому что эта кобылка все что могла дать уже дала, шлюха...»
Наконец они появились из-за последнего дерева, все в том же порядке, конфетно-
розовое пятно по-прежнему на том же месте когда они вышли из-за поворота на
последний круг, лошади превратились в один сплошной клубок (задние казалось
нагоняют передних) и этот слитый клубок, на правой линии, был лишь зыбыо,
вспенившимися барашками голов равномерно опускающимися и подымающимися, на минуту
почудилось даже что сбившиеся в кучу лошади вообще не движутся (просто над ними
мерно подымаются и опускаются камзолы жокеев) пока наконец первая лошадь не то что
взяла барьер а как бы прорвала его, то есть вдруг две передние лошадиные ноги
очутились уже по эту сторону барьера, напряженные, вытянутые в ниточку или вернее
одна чуть-чуть впереди другой, два передних копыта одно выше другое чуть ниже, сама
лошадь вроде бы застряла между коричневыми прутьями подвязанными к барьеру для
придания ему высоты, казалось, на какую-то долю секунды, прилегла отдохнуть на нем
брюхом чудом удерживая равновесие и в следующий миг рванула вперед, а потом вторая,
а потом третья, а потом все другие вместе постепенно застывали в состоянии
473
равновесия, похожие на деревянные лошадки-качалки, замирали иа месте, чуть
наклонившись вперед, но стоило нм коснуться земли как они снова обретали
способность движения, теперь уже скачет вся группа, снова слитая воедино, скачет в
направлении трибун, увеличиваясь в размерах, берет следующее препятствие, потом
начинается вот что: нарастает безмолвный гром, глухое дрожание земли под копытами,
комки дерна разлетаются во все стороны, шелковистые уже изрядно помятые камзолы
хлопают по ветру поднятому самой скачкой, и жокеи пригнувшиеся к холке, вовсе не
неподвижные как казалось раньше когда они были на той стороне, а слегка
покачивающиеся взад и вперед в ритм лошадиного бега, и у всех одинаково раскрытые
рты жадно ловят воздух, у всех одинаковый вид рыб выброшенных из воды,
полузадохшихся, они проносятся мимо трибун окруженные или вернее закованные в
обойму сводящей с ума тишины которая кажется отделяет их от всего света (отдельные
крики взлетающие над толпой звучали — и не только в ушах жокеев, но и в ушах самой
публики — как доносящиеся откуда-то издалека, какие-то пустяковые, зряшные, нелепые
и столь же слабые как бессвязное лопотание младенца), идет за ними следом, и уже
после того как они промчатся мимо, останется, надолго заляжет колея тишины и внутри
ее постепенно стихнет, истончится, замрет барабанный бой лошадиных подков, лишь
изредка прерываемый сухим щелканьем (словно ветка хрустнула) хлыста, но и эти
слабенькие взрывы тоже удаляются, убывают, последняя лошадь перескакивает через
зеленую изгородь и после легчайшего прыжка, пу точно заяц скакнул, на сетчатке
глаза еще на некоторое время запечатлевается вскинутый лошадиный круп словно лошадь
взбрыкнула, застывший в неподвижности и наконец исчезающий, и жокеи и лошади уже
невидимые сейчас, несутся по склону по ту сторону изгороди, так словно бы этого
никогда и не было, словно и не было этого головокружительного пролета дюжины
лошадей и жокеев, оставившего после себя только облачко дымки, вроде той за которой
скрываются волшебники и домовые, какую-то гряду розоватого тумана, взвешенной пыли
застывшей перед барьером, там где лошади ударили перед прыжком копытами, мало-
помалу редеющей, разжижающейся, медленно оседающей в свете клонящегося к закату
дня, и Иглезиа повернувший к Коринне свою карнавальную маску Полишинеля,
одновременно и страшную и жалостли-
474
вую, но в ту минуту горящую каким-то детским восторгом, мальчишеским восхищением,
бормочущий: «Видели? Видели? Он... То есть я хочу сказать она... все идет как надо,
ему следует только...», и Коринна молча взглянувшая на него все с тем же гневным,
леденящим выражением лица, все с той же безмолвной яростью, и он лопочущий,
заикающийся, совсем сбившийся с толку: «Он... она... Вы...», окончательно
запутавшийся, Коринна, по-прежнему не разжимающая губ, посмотрела на него все с тем
же неумолимым презрением и вдруг резко пожала плечами, отчего вздрогнули,
шевельнулись обе ее груди под легким платьицем, все ее юное, упругое и дерзкое тело
излучающее что-то безжалостное, яростное, но также и детское, другими словами
полное отсутствие моральных представлений или милосердия на что способны одни лишь
дети, эту простодушную жестокость заложенную в самой природе детства (горделивое,
неудержимое и неустранимое кипение жизни), Коринна холодно произнесшая: «Если он
как вы тоже может прийти первым на этой лошади, так за что же вам тогда
спрашивается платят деньги?», оба смотрели друг другу прямо в лицо (она в этом
своем платьице, в чисто символическом платье прикрывающем лишь одну четверть ее
тела, выставляя напоказ три его четверти, он в старом замызганном пиджаке который
так же не шел к блестящему шелковому камзолу торчащему из-под пиджака как и к этому
страдальческому, побитому оспой лицу, с таким видом (отрешенным, ошалелым) как если
бы она ткнула его в живот кулаком, или своей сумочкой, или биноклем) смотрели
возможно всего какую-то долю секунды, а вовсе не бесконечно долго, как ему
почудилось, как рассказывал он потом, рассказывая что обоих их пробудил, оторвал от
этого взаимного гипноза, от этой безмолвной дикой схватки, даже не крик — или
тысячи криков,— или восклицание — или тысячи восклицаний,— а какой-то неясный гул,
вздох, шелест, что-то странное пробежавшее по толпе, так сказать воспарившее над
толпой, и когда они оглянулись, они увидели розовое пятно не на третьем, а примерно
на седьмом месте, теперь уже распавшийся клубок лошадей растянувшийся сейчас метров
на двадцать по диагонали пронесся по пригорку, и Коринна бросила: «Я же говорила. Я
была уверена. Идиот. Кретин, идиот. А вы...», но Иглезиа уже не слушал, он снова
направил бинокль на невозмутимое мокрое от пота лицо де Рейшака только всякий раз
когда он вскидывал руку державшую хлыст тело его
475
еле заметно вздрагивало, двухлетка убыстряла шаг, мало-помалу догоняя мощным
движением всего тела обошедших ее лошадей, и так удачно что скоро вновь очутилась
почти на третьем месте когда они подъезжали к канаве, золотисто-рыжая, длинная и
блестящая будто капля расплавленной бронзы, она казалось стала еще длиннее, вся
вытянулась, оторвалась, невесомая, не только от земли но словно бы от собственной
тяжести потому что после прыжка не приземлилась а как бы продолжала бег над землей,
теперь уже на втором месте, когда они шли по кривой, ее светлое пятно струилось
совсем горизонтально, Рейшак больше не нахлестывал ее, Коринна все твердила:
«Идиот, идиот, идд-от...», пока наконец Иглезиа все еще не отрываясь от своего
бинокля грубо не осадил ее: «Да замолчите же вы, черт бы вас побрал! Замолчите вы
или нет?», Коринна так и осталась стоять с глупо открытым ртом, а слева от них
лошади удалялись теперь в золотистой дымке пыли под незыблемым архипелагом облаков
висевших, а возможно просто намалеванных на небе, лошади явно разбились на две
группы: впереди скакало четыре, потом на расстоянии метров пятнадцати вторая группа
плотно сбившихся в клубок лошадей тащившая за собой растянувшихся как шлейф
отставших, вплоть до самой последней которую хлестал на каждом шагу жокей, передняя
группа взяла вправо, вновь скрылась за рощицей, разноцветные камзолы как за минуту
до того то появлялись то исчезали между деревьями, но только в обратном
направлении, то есть слева направо, а тем временем толпа на лужайке стала
расходиться (сначала одна черная точка, две, потом три, дотом десять, потом целая
гроздь) мимо изгороди вдоль которой только что проскакала группа лошадей, люди
бежали (черные точечки похожие на мух, на брошенную пригоршню шариков) в том же
направлении что и лошади, слились в одно пятно на поперечном скаковом кругу,
розовый камзол на сей раз появился первым, но скакавший непосредственно за ним
жокей все больше и больше наседал на него, Рейшаку удалось занять внешнюю сторону
дорожки, опередив других, в то же самое время две лошади, обойдя его слева, почти
одновременно круто свернув, вышли иа правую сторону, так что он очутился почти на
самой середине дорожки в полном одиночестве и легко обошел вторую лошадь,
оторвавшись от двух других примерно метров на пять, и все четверо скакали на галопе
к бульфинчу не таком плавном как раньше, а неровном, поначалу даже показалось
476
будто золотисто-рыжая кобылка лишь от усталости несколько умерила свой порыв, но
Иглезиа нелегко было провести и он не отрывая глаз от бинокля, в отчаянии сжимал
его обеими руками, а лошадь шла галопом не прямо па препятствие, а как-то боком по
диагонали, де Рейшак с силой тянул противоположный повод и молотил ее хлыстом, ему
удалось повернуть лошадь налево, она еще замедлила шаг, казалось, если только так
можно выразиться, скорчилась что ли под всадником и преодолев опасное препятствие
(потому что в конце концов ему все же удалось подчинить животное своей воле), но не
так как она перепрыгнула через ров с водой, но почти остановившись, сделав свечку,
одновременно вскинув в воздух все четыре ноги, и так тяжело опустилась на землю что
де Рейшак почти упал ей на шею но тут же свирепо стегнул ее и она снова пошла на
препятствие, но теперь отстав уже метра на два от двух шедших за пей па бульфинч
лошадей, Ко-ринне и Иглезиа было видно как вооруженная хлыстом рука беспрерывно
хлещет лошадь, в ушах у них гудело от разочарованных, диких криков толпы, и еще раз
четыре лошади взялн последний барьер, де Рейшак сейчас шел вплотную за третьей
лошадью, а перед ними только огромное нарядное как ковер зеленое пространство па
котором они (и жокеи и лошади) казались до смешного крохотными, как бы
распавшимися, лихорадочно мечущимися, разобщенными, чуть покачивающимися вперед и
назад когда галоп замедлялся, трогательными п смехотворными, четыре лошади совсем
выбившиеся из сил, с запавшими боками, четыре жокея с лицами снулых рыб, жадно
ловящие воздух широко открытым ртом, уже па три четверти задохнувшиеся, крики толпы
окружали их как бы неким прочным сплошным веществом, через которое они тщетно
пытались продраться (стартовое впечатление еще подчеркивалось тем что окуляры
бинокля искажали перспективу) словно через невидимую и враждебную завесу страсти
столь же плотную как вода — или как пустота,— потом крик стих, замер, и, оторвав от
глаз бинокль, Иглезиа вдруг отдал себе отчет что ее рядом нет, обнаружив вызывающе
злое красное платьице где-то там внизу у нижних скамей, увидел ее несущуюся сломя
голову вниз по лестнице, догнал, схватил за плечо, она на ходу обернулась к нему
(Иглезиа успел только подумать: «Куда это она прется? Чего ей надо?»), посмотрела
па пего, словно бы он был мухой, и даже не мухой а пустым пространством, потом
477
отвела от него глаза, а он: «Все-таки оп пришел вторым, все-таки сумел обойти
двоих...», она не ответила, казалось даже не слышала, а он семенил с ней рядом и
все твердил: «Вы же сами видели, она хорошо прошла, особенно к концу...», и Коринна
не останавливаясь бросила: «Вторым! Чудесно! Браво! Вторым! Ведь он обязан был
выиграть. И вы еще находите, что это...», потом вдруг резко остановилась,
повернулась к нему таким внезапным, таким неожиданным движением что он едва не
налетел на нее, и закричала (хотя голос не повысила, но, рассказывал он, лучше бы
уж она орала как оглашенная): «Скажите-ка вы на него в ординаре или в дубле
ставили? Вы что только на одного него ставили?», потом, прежде чем он успел
раскрыть рот, снова крикнула, крикнула еле слышпо что было похуже чем если бы она
на самом деле повысила голос: «Нет, я вовсе не прошу чтобы вы мне показывали
билеты! Я вам уже говорила, что не попрошу вас их показывать, что если хотите
можете оставить деньги себе... Ну вроде бы на чай что ли...», и в эту минуту, по
его словам, он буквально ошалел заметив что она плачет: «Может быть просто от
злости, рассказывал он потом, а может быть у нее настроение было скверное, а может
еще что. Поди знай с этими дамочками. Но так или иначе она плакала, не могла даже
удержаться. А ведь кругом народ...», и он рассказывал что оба они стояли лицом к
лицу, словно застыли на месте, среди медленно покидавшей трибуны толпы, и она
твердила Нет я вам говорю нет слышите нет я не хочу не хочу их видеть я только хочу
чтоб вы мне сказали хочу просто услышать от вас самого я... потом добавила: «Боже
мой, о боже мой, вы все-таки... вы... вы...», тупо глядя иа пачку билетов которую
он не спеша вытащил из кармана, протянул ей, она не взяла, даже отстранилась, как
будто это был огонь или что-то в этом роде, Иглезиа с минуту постоял с протянутой
рукой, потом, по-прежнему не спеша, не спуская с Коринны глаз, отвел руку и, зажав
пачку в ладони, преспокойно порвал ее и билеты вовсе не бросил злобно на землю а
просто разжал пальцы и клочки бумаги упали между ними, между его старыми
растрескавшимися и тонкими от бесконечной чистки, как папиросная бумага, сапожками
и ее нежными ножками абрикосового цвета с кроваво-красными ноготками в немыслимых
туфлях которые словно на пари выдумал сумасшедший сапожник, побившись об заклад что
заставит-таки в них стоять или даже ходить женщину (то
478
есть все же разновидность человеческой породы, все же стопоходящее) и не терять при
этом равновесия ходить на (потому что сказать «в» было бы просто нелепо) чем-то
таком что так же мало пригодно для ходьбы как скажем бутафорские ботинки акробата:
некий вызов, не только равновесию, не только здравому смыслу, но также и простейшим
законам экономики, короче товар стоимость коего была бы обратно пропорциональна
количеству затраченного на него материала, так будто весь смысл этой игры
заключался в том чтобы продать по максимальной цене минимум кожи и...
А Блюм: «Как я понимаю ты хочешь сказать что ставил на него одного? Да черт подери!
то ты ухнул все эти деньги на типа который...»
А Иглезиа все тем же кротким, раздумчивым, назойливым голоском: «Не на него. На
лошадь. Это такое животное... И потом оп вовсе неплохо скакал. Только чересчур
нервничал, и она это почувствовала. Лошади это штука тонкая. Они сразу все
угадывают. Если бы он так не нервничал он мог бы первым прийти и обойтись без
своего хлыста».
А Блюм: «Значит поэтому-то опа после скачек и предпочла твой? Надо же! А ведь ты с
лица не слишком на киногероя похож!» А Иглезиа не отвечая, аккуратно затаптывал еще
тлевшие головешки, засыпал их землей и был особенно похож (в этих шутовских
отрепьях, в этой огромной не по мерке шинели цвета земли, цвета желчи, из которой
торчали только его крохотные ручонки и орлиный профиль цвета земли, цвета желчи) на
ярмарочного паяца и твердил: «Если только эти курвы фрицы заметят что мы здесь
кухарили, они нам такого покажут... А завтра на разводе надо постараться встать
впереди и не, зевать, когда нас поведут в сарай за инструментом, потому что
передние всегда ухитряются расхватать все лопаты а тебе остаются одни только кирки,
а попробуй целый день с ней покорячься все руки отмахаешь а с лопатой хоть можно
делать вид что ты мол все время гнешь спину а на са-мом-то деле по-пастоящему ни
разу и не копнуть а поди тыщу раз подыми эту самую кирку...»
А Блюм: «Значит...» (но на сей раз Иглезиа уже не было с ними: все лето они
провели, не выпуская из рук кирки (или, в случае удачи, лопаты) на земляных
работах, потом в начале осени их послали копать картошку и свеклу, потом Жорж
сделал попытку убежать из лагеря,
479
но его поймали (по чистой случайности, даже не солдаты или жандармы посланные за
ним вдогонку а — было это в воскресенье утром — самые мирные охотники, в лесу где
он прилег отдохнуть и заснул), потом его снова отправили в лагерь и посадили в
одиночку, потом заболел Блюм и он тоже вернулся в лагерь, и там они так и остались
вдвоем, зимой разгружали вагоны с углем, ворочая огромными вилами, а когда часовой
отходил останавливались передохнуть, два жалких смехотворных силуэта, нахлобучив
пилотку на уши, подняв воротник шинели, повернувшись спиной к ветру швырявшему
дождем или снегом дуя на окоченевшие пальцы и одновременно пытаясь мысленно
перенестись туда так сказать по доверенности (другими словами силой своего
воображения, другими словами собирая по крохам и складывая в более или менее
стройное целое то что они сумели наскрести в своей памяти пользуясь прежним опытом
— всем увиденным, услышанным или прочитанным, для того чтобы здесь — среди
блестящих от дождя рельс, черных вагонов, черных насквозь промокших сосен, холодным
и* мертвенно-бледным днем саксонской зимы — воссоздать многокрасочные и сверкающие
картины посредством эфемерной, но обладающей свойствами воплощения магии языка,
посредством тут же изобретенных слов в тайной надежде сделать более съедобной —
наподобие той тоненькой сладкой оболочки которой покрывают для детей горькие
лекарства — отвратительную реальность) среди этого пустопорожнего, таинственного и
дикого мира где, вместо тел от которых осталось так мало, действовала только лишь
их мысль: нечто возможно столь же нереальное как сон, как слова, срывающиеся с их
губ: звуки, просто шумок чтобы заклясть холод, рельсы, белесое небо, мрачные
сосны:) «Значит он, я хочу сказать де Рейксаш... (а Жорж: «Рейшак», а Блюм: «Что?
Ах да...») решил скакать на этой рыжей кобылке, то есть укротить ее, разумеется
лишь потому что видел что какой-то вульгарный жокей займет с ней первое место,
потому что он несомненно думал что и она тоже... (на сей раз я имею в виду ко-
былку-женщину, рыжее существо женского пола которое он не мог или не сумел укротить
и которая пялила глаза — а на самом-то деле тут не только о глазах речь, а еще кое
о чем — на этого...) Короче: он возможно надеялся, если можно так выразиться, убить
разом двух зайцев, надеялся что если ему удастся проскакать па одной, он
480
усмирит другую или наоборот, другими словами если он усмирит одну то сможет
проскакать столь же блистательно на другой, другими словами и ее тоже приведет к
финишу, другими словами при помощи так сказать своих личных достоинств ему удастся
довести ее до того до чего ему никогда не удавалось ее довести, и таким образом
отбить у нее вкус или охоту искать утешения на стороне (надеюсь, я выражаюсь
ясно?), другими словами если ему удастся действовать в этом плане столь же успешно,
как этому жокею, который...», а Жорж: «Да замолчи ты! Замолчи! А то ты бог знает до
чего договоришься...», а Блюм: «Ладно, извини пожалуйста. А я-то думал тебе это
интересно: ведь ты тут мусолишь, строишь разные предположения, выдумываешь и
сочиняешь разные романы, небылицы, и пари держу что любой человек кроме тебя видит
во всех твоих небылицах лишь вульгарнейшую постельную историю с участием одной
шлюхи и двух идиотов, и еще когда я говорю...», а Жорж: «Одной шлюхи и двух
идиотов, а мы с тобой окончательно похожи на жмуриков, и лишены всего как жмурики,
а возможно завтра и превратимся в настоящих жмуриков стоит только одной из тех вшей
что кишмя кишат у нас под рубахами занести нам сыпняк или же какому-нибудь генералу
вдруг приспичит бомбить этот вокзал и он пошлет сюда самолеты и тогда что же могу
я-то, что можем мы-то, что могу я-то делать другое как не...», а Блюм: «Прекрасно,
прекрасно, прекрасная речь. Браво, браво. Значит, давай продолжим. Значит он, я
говорю о де Рейксаше...», а Жорж: «Рейшаке: икс выговаривается как ша, а ша как ка.
Когда же ты, черт бы тебя побрал, наконец запомнишь...» а Блюм: «Ладно, ладпо,
пусть будет Рейшак. Чудесно. Если тебе по душе быть таким же занудой как
Иглезиа...», а Жорж: «Я не...», а Блюм: «Но ведь ты же не щеголял в его ливрее?
Ведь ты-то не состоял у него на службе? Тебе-то он никогда не платил за то чтобы ты
одергивал людей которые коверкают его фамилию? Или может ты тоже считаешь себя
обиженным, оскорбленным? Хотя бы из уважения к вашим общим предкам, к памяти
другого рогача», а Жорж: «Рогача?», а Блюм: «...который столь театральным образом
пустил себе пулю из револьвера в...», а Жорж: «Да ие из револьвера: из пистолета. В
те времена револьверы еще не были изобретены. Но почему именно рогач?..», а Блюм:
«Ладпо: пистолет так пистолет. Что впрочем ничуть ие спимает с этой мизансцены
налета
16 М. Бютоп ц д.-.
431
театральности, живописности: ведь ты же сам говорил что оп нарочно пригласил для
этого случая художника. Дабы увековечить для памяти своих потомков, и в частности
дать богатую пищу для светской болтовни твоей матушки когда она будет прини...», а
Жорж: «Художника? Какого художника? Я же тебе говорил что единственный его
существующий портрет был сделан задолго до...», а Блюм: «Знаю, знаю. А все прочие
дополнения, струйки крови все это было работой времени, облупились краски, их
разъел дневной свет, словно пуля которая разнесла череп и следы которой ты все свое
детство искал на стене пробила затем намалеванное и неизменно ясное чело, знаю,
знаю: и потом есть еще гравюра...», а Жорж: «Но ведь...», а Блюм: «...изображающая
всю сцену и ты толкуешь ее со слов своей матушки то есть согласно версии наиболее
лестной для вашего семейного самолюбия, безусловно в силу того закона, по коему
История...», а Жорж (если только это был действительно по-прежнему Блюм, сам себе
задающий вопросы, паясничающий, если только он (Жорж ) действительно вел диалог под
ледяным саксонским дождем с хилым еврейчиком — или с тенью еврейчика
превратившегося в очередной труп — а не сам с собой, со своим двойником, в полном
одиночестве под серым дождем среди хитросплетений рельс, вагонов с углем, или
возможно многими годами позже, но по-прежнему один (хотя рядом лежало излучающее
тепло женское тело), все еще наедине с тем двойником, или с Блюмом, или с пи-кем):
«Вот мы и договорились: История. Так и знал рано или поздно дело до нее дойдет. Я
ждал этого слова. Редко бывает чтобы оно не проскользнуло где-нибудь в разговоре.
Как слово Провидение в речи доминиканца. Как Непорочное Зачатие: сверкающее и
доводящее до экстаза видение по традиции предназначенное для простых сердец и
вольнодумцев, чистая совесть доносчиков и философов, прЛпедшая через века басня —
или фарс — благодаря которой палач начинает чувствовать в себе призвание сестры
милосердия, а пытаемый проникается радостной, ребяческой, чисто бойскаутской
веселостью первых христиан, мученики и мучители примиряются сообща погрязая в
слезливом разврате который можно было бы назвать пылесосом или вернее сточной
канавой разума беспрерывно питающегося этим чудовищным скоплением нечистот, этой
общественной помойной ямой где представлены в равной мере и на равных пра-
482
вах кепи с кокардой в виде дубового листка и полицейские наручники, халаты, трубки
и ночные туфли наших мыслителей а на вершине мусорного гребня восседает гориллус
сапиенс надеясь все же в один прекрасный день достичь высоты куда не сможет
последовать за ним его душа; и горилле дозволено будет наконец вкусить от некоего
наверняка пе поддающегося гниению счастья, гарантируемого при помощи массового
выпуска холодильников, автомобилей и радиоприемников. Но продолжаю: в конце концов
нам вовсе не заказано представлять себе что воздух вырывающийся из кишок до краев
налитых добрым немецким пивом которое бродит в утробе нашего стража, прозвучит в
мировом концерте как менуэт Моцарта...», а Блюм (или Жорж): «Кончил?», а Жорж (или
Блюм): «Могу и продолжить», а Блюм (или Жорж): «Тогда валяй», а Жорж (или Блюм):
«Но я в равной мере обязан вносить и свою лепту, увеличивать размеры кучи, добавляя
к пей еще несколько брикетов угля...», а Блюм: «Ладно. Итак этот закон по которому
История должна»... а Жорж: «Да ешь ты!», а Блюм: «...История (или если тебе угодно:
глупость, отвага, гордыня, страдания) оставляет после себя лишь некий отстой
неправомочно конфискованный продезинфицированный, а следовательно годный в пищу,
предназначенную для одобренных школьных учебников и породистых семейств... Ну что
ты знаешь на самом-то деле? Только то что тебе известно из болтовни дамы которая
возможно больше хлопочет о том чтобы уберечь репутацию другой дамы чем начищать до
блеска — вообще-то такая работенка поручается слугам типа Иглезиа — герб и
достаточно потускневшее имя...», а Жорж: «Неужели ты воображаешь что эта куча угля
сама разгрузится если мы не будем хотя бы делать вид что делаем вид будто помогаем
ей в этом деле ради того чтобы вон тот мешок с моцартовской утробой который уже
поглядывает на нас косо не стал бы...», а Блюм: «...так что это патетическое и
благородное самоубийство могло бы не... Верно: давай, давай!» (тщедушный шутовской
силуэтик начинает действовать, суетиться, нагибается содрогаясь всем телом, пока
наконец-то ему удается подцепить на вилы четыре-пять мокрых брикетов, потом вилы
быстро описывают полукруг, брикеты на миг застывают в воздухе, как бы в состоянии
невесомости, медленно вращаются вкруг собственной оси, потом с глухим стуком
сыплются в грузовик, потом вилы снова принимают вертикальное положение, зубцами
вниз,
16*
483
обе ладони Блюма сцеплены на ручке вил а подбородок уперт в ладони поэтому когда он
снова заводит разговор то не нижняя его челюсть — которая так сказать заблокирована
— а вся голова чуть приподымается и наклоняется и чудится будто этими
многозначительными кивками он одобряет каждое свое слово:) «...Потому что ты ведь
сам уверял, что эта наполовину обнаженная женщина в проеме двери, грудь и лицо
которой освещены снизу свечой, так что она похожа на одну из тех гипсовых Марианн
которые стоят себе где-нибудь в классе или в мэрии и с которых ни разу пе обмахнули
метелочкой пыль безнаказанно скапливающуюся серым слоем на всех выпуклостях, что
полностью меняет рельеф или вернее свет и даже выражение лица коль скоро глазные
яблоки тоже затянуло пылыо, зачернившей их верхнюю часть, и поэтому кажется будто
незрячий взгляд вечно устремлен в небеса,— ведь ты сам утверждал, что эта женщина
была служапкой прибежавшей вслед за тем кого ты именуешь камердинером или лакеем
который был разбужен звуком выстрела и который возможно и был ее любовником,— не
служанки вовсе а жены, супруги, другими словами любовником вашей общей
прапрапрабабки, а мужчина — любовник — впрочем возможно он и впрямь как ты говоришь
принадлежал к лакейскому сословию, если только она в области сексуальной имела
столь же плебейские или вер-пее лошадиные вкусы, я хочу сказать ту же страсть к
верховой езде, я хочу сказать ту же склонность искать себе любовников на
конюшне...», а Жорж: «Но...», а Блюм: «Разве ты мне сам не рассказывал что, на пару
к тому окровавленному портрету, была еще картина примерно той же эпохи где она
изображена вовсе не в охотничьем костюме что вполне соответствовало бы костюму ее
мужа но что все это носит отпечаток (платье, поза, общий вид, то как смело она
смотрит на художника воспроизводящего на полотне ее черты а, позже, и на того кто
па них взирает) какой-то дерзости, вызова, умело укрощаемой жестокости (тем паче
что в руке она держит нечто гораздо более опасное чем любое оружие, чем простое
охотничье ружье: держит маску, неизменную принадлежность венецианских карнавалов
одновременно и комическую и устрашающую, с прорезями для глаз в черном бархате и с
огромным носом придающим людям вид каких-то чудовищных птиц да еще впридачу все это
подчеркивается черным плащом с развевающимися при ходь-
484
бе полами который, в неподвижном состоянии, облегает человека как сложенные птичьи
крылья), а над вырезом корсажа выступает нечто неосязаемое, нечто пенное,
хитросплетенность оборочек тончайших кружев ускользающих словно бы это был сам
аромат ее тела, ее груди прячущейся там ниже в шелковистом мраке, тайное дыхание
цветка самой ее плоти...», и вдруг совсем другим голосом, как будто не он говорил
все эти слова, а громким, гремящим, на два тона выше: «Короче эта самая
Дежанира...», а Жорж: «Виржини», а Блюм: «Чего?», а Жорж: «Ее Виржини звали». А
Блюм: «Подходящее имечко для шлюхи. Короче эта самая девственная Виржини
задыхающаяся и нагая, или вернее больше чем нагая, то есть одетая — или скорее
раздетая — в одной ночной сорочке из тех которые несомненно изобрели для того чтобы
дать возможность запутавшимся несвободным рукам скользить по текучему теплу живота,
добираться до груди, собирая по дороге складки в шелковистую пену над бедрами, дабы
обнажить, показать — совсем как на витринах шикарного магазина самые ценные,
хрупкие или немыслимо дорогие предметы выставляют среди пенного кипения атласа —
свои сокровенные сокрытые уста...
...и вдруг он (де Рейшак или короче просто Рейшак) возвращается...
А Жорж: «Да нет!»
А Блюм: «...возвращается неожиданно (а иначе потрудись объяснить почему это он
вернулся если не ради нее? Потому что по моему мнению для того чтобы в спешном
порядке отправить себя самого в лучший из мирон годится любое место, ну как скажем
выбрасывают мусор под первый попавшийся куст, поэтому-то я и не думаю что в такие
вот минуты требуется какой-то особый комфорт...), итак он бросив свое разбитое
воинство, эту пехтуру, этих дезертиров, тоже без сомнения орущих во всю глотку что
их предали, несущихся сломя голову, поддавшихся панике, этой моральной диареи (а ты
заметил, что ее зовут также поносом?), которую ничем невозможно сдержать, даже
силою разума — но что еще требовать от солдата, разве вся муштра не имеет как раз
одной-единственной цели заставить его как лицо подчиненное тем или иным способом
совершать некие действия наперекор разуму, так что когда он бежит оп без сомнения
подчиняется той же силе или если тебе
485
угодно тому же самому чувству отчаяния которое в других обстоятельствах подвигло
его или подвигнет на действие какое не способен оправдать его разум, как например с
победными криками кинуться на строчащий по нему пулемет: отсюда-то разумеется и
идет та легкость с какой войско может в течение всего нескольких минут превратиться
в улепетывающее со всех ног обезумевшее стадо... А он сам дважды предатель,— первым
делом оп предал ту касту из которой вышел а потом отрекся от нее, от нее
отступился, разделавшись с собой, совершив в некотором роде первое самоубийство,
ради прекрасных глаз (если только так можно выразиться) некоей довольно слезливой
швейцарской морали, каковую ему никогда бы и не узнать ежели бы его деньги, его
положение не дали ему такой возможности, другими словами достаточно досуга для
чтения,— во-вторых изменил делу за которое взялся, но на сей раз по неспособности,
другими словами был виновен в том (он, человек благородного происхождения для
которого война — то есть в известном смысле забвение самого себя, то есть известная
развязность, или известная степень легкомыслия, то есть в известном смысле душевная
пустота — была профессией) что пожелал слить воедино — или примирить — отвагу и
мысль, не догадываясь о том непреодолимом антагонизме в силу коего любая мысль
противостоит любому действию, так что отныне ему оставалось лишь смотреть или
вернее избегать смотреть (еле сдерживая, так по крайней мере полагаю я, знаменитую
тошноту подступающую к горлу) как разбегается во все стороны этот сброд (а как же
иначе, какое для них еще найти слово, так как они знали теперь слишком много — или
недостаточно много — чтобы продолжать жить в качестве сапожников или булочников, а
с другой стороны недостаточно т— или слишком много — чтобы продолжать вести себя
как солдаты) ибо в воображении своем или в мечтах он конечно уже видел себя
вознесенным возведенным в то высокое состояние духа которого, как думалось ему,
можно наверняка достичь путем неудобоваримого чтения двадцати пяти томов...», а
Жорж: «Двадцати трех», а Блюм: «Двадцати трех книжонок отпечатанных в Гаагской
типографии на экспорт в переплетах из настоящей телячьей кожи с тисненым гербом...
По-моему ты говорил три безголовые утки?»* а Жорж: «Голубки а вовсе не утки..,», а
Блюм:
486
«Значит три голубки, символически обезглавленные...», а Жорж: «Да нет!», а Блюм:
«...являющиеся в некотором роде семейным пророческим гербом: потому что он про-Сто-
иапросто позабыл что можно прибегнуть к помощи своих мозгов если только таковые
имелись в его миленькой аристократической башке...», а Жорж: «Ох ты господи... К
сожалению вот эта куча угля, эта историческая куча угля...», а Блюм в мгновенном
приступе лихорадочной деятельности как безумный шлепает по черным лужам
приговаривая: «Ладно, ладно: потрудимся и мы тоже во славу Истории, впишем и мы в
Историю нашу будничную страничку! В сущности я считаю что ничуть не позорнее или
глупее перелопатить груду угля чем умереть задарма как говорится ради прекрасных
глаз прусского короля, так отдадим же ее за деньги вот этому бранденбургскому
Моцарту...», несколько раз подряд вилы подымаются и опускаются на полной скорости,
в результате чего три целых брикета плюс еще половинка взлетают в воздух, два
брикета шлепаются на землю рядом со скатами грузовика, потом Блюм останавливается и
отдышавшись продолжает: «Я ведь еще не кончил! Еще не все тебе рассказал. На чем
это я бишь остановился? Ах да, вот на чем: итак возвращается он нежданно-негаданно,
бросив на произвол судьбы своих сбитых с панталыку сапожников, равно как и свои
собственные иллюзии и свои идиллические мечтания, а сам бежит с поля боя в надежде
укрыться возле того что единственно ему еще осталось — по крайней мере он верил в
это — то есть возле того что он еще мог считать подлинным: возможно не сердце (ибо
разумеется он уже успел порастрясти чуток свою наивность) но хотя бы во всяком
случае тело, теплую реально ощутимую плоть этой самой Агнессы (ведь ты же мне сам
говорил что она была моложе его на двадцать лет так что...», а Жорж: «Да нет, ты
все спутал. Спутал его с ...», а Блюм: «...с его праправнуком. Верно спутал. Но
считаю что я все-таки вправе так думать: ведь в ту пору тринадцатилетних девчушек
выдавали за старичков, и даже если на тех двух портретах они примерно одних лет то
лишь благодаря сноровке художника (другими словами его светской обходительности,
другими словами его умению польстить) поэтому-то супруга вышла чуть помоложе. Нет,
вовсе я не ошибся, я верно сказал: другими словами он сумел смягчить, затушевать ее
явственно проступающий во всем облике жизненный опыт,
487
ладно, пускай будет ложь и двуличие, так как она примерно на тысячу лет его
старше)... Итак, сей Арнольф-филантроп, якобинец и вояка окончательно отказавшийся
от мысли улучшить род людской (чем объясняется без сомнения тот факт что его
отдаленный потомок, в силу семейных воспоминаний и будучи более благоразумным,
полностью посвятил себя улучшению конской породы), во весь опор покрывает двести
километров отделяющих ее от него...», а Жорж: «Триста», а Блюм: «Триста километров,
что по тогдашнему счету составляет примерно восемьдесят лье, так что загнав коня
можно добраться на худой конец за четыре дня (ну скажем за пять), и вот наконец
поздней ночью па пятые сутки, он доскакал весь разбитый весь покрытый грязыо...», а
Жорж: «Да не грязыо, а пылыо. В тех краях дождей почти никогда не бывает», а Блюм:
«Черт побери! А что ж там тогда бывает?», а Жорж: «Ветер. Если только так можно
выразиться. Потому что тамошний ветер так же похож на настоящий как пушечный
выстрел на выстрел из игрушечного пистолетика. Но чего это ты...», а Блюм: «Значит,
весь покрытый пылью, так словно оп приволок на себе неощутимую по упорную пыль
поражения, остатки своих развеянных в прах надежд: поседевший до времени от пепла
костров потому что должен же он был, в течение этих четырех дней и пяти ночей, на
дорогах разгрома, сидеть у костра, размышлять, пересматривать и сжигать все что
боготворил, боготворя отныне лишь ту к которой мчался горя единым желанием увидеть
ее, и вот: в ночной тиши шум, перестук лошадиных подков, потому что он конечно пе
один ехал, при нем тоже был кто-нибудь, ну скажем его сопровождал верный слуга,
ведь тот-то другой притащил же с собой на фронт чтобы пользовать его лошадь и
надраивать ему до блеска сапоги верного своего жокея или скорее жеребца ибо
неверная Агнесса тоже не прочь была его надраить, вернее это он доводил ее, так
сказать, до блеска...», а Жорж: «О, черт!..», а Блюм: «Но ведь можно же представить
себе такое: глухое цоканье копыт на мощеном дворе, громко фыркают загнанные лошади,
голубоватый мрак — или возможно уже занимается заря — свет фонаря который держит
прибежавший привратник рельефно почти скульптурно обрисовывает мускулы на
взмыленных гнедых лошадиных грудях, и взмах плащей когда всадники соскакивают на
землю, и он бросив поводья жокею отдав какое-то приказание, нет даже не приказание,
даже не звук его голоса, только звук его ша-
488
гов, потренышванье шпор, когда он быстро взлетает по ступенькам крыльца, берет его
штурмом: все это слышит она, внезапно пробудившаяся, еще во власти сладкой неги сна
и наслаждения но уже все соображающая — возможно не разумом который еще наполовину
спит, еще тычется во все стороны спросонок, а чем-то иным, утробным чего не
способны притушить ни сон ни сладострастие и что отнюдь не нуждается в том чтобы
она окончательно проснулась, дабы начать действовать безошибочно и на полной
скорости: инстинкт, хитрость которой нет нужды учиться, и пока голова, самый мозг
еще не здесь, еще дремлют, тело проворно подымается (отбрасывая простыни, на миг
показав ноги старающиеся высвободиться из-под одеяла так что между быстрыми ляжками
мелькает эта тень, это пламя — но ведь ты сам же говорил о роскошной золотистой
шевелюре? итак значит — этот мед, это золотое руно сразу же исчезнувшее стоило ей
присесть на край постели с задранной выше колен рубашкой открывающей теперь тесно
сжатые спущенные с постели ноги подобные двум параллельным струям расплавленного
золота, ослепительно перламутровый поток, нежно-розовые ступни вслепую нашаривающие
ночные туфельки) и все это не переставая думать (я говорю о теле), рассчитывать,
соображать, комбинировать с молниеносной быстротой, прислушиваясь в то же самое
время к скрипу сапог взлетающих через две ступеньки, топающих на лестничной
площадке, потом по соседней комнате, все близящихся (ног сейчас уже не видно,
рубашка спущена), и она — эта девственная Агнесса — вскочив, трясет за плечи своего
любовника — кучера, конюха ошалевшего деревенского олуха — толкает его к
неизбежному и ниспосылаемому самим Провидением шкафу или чулану из водевилей и
трагедий которые всякий раз в нужный момент оказываются под рукой подобно тем
таинственным ларцам в фарсах и ящикам с сюрпризом которые стоит их открыть в равной
мере могут вызвать оглушительный хохот или бросить в дрожь ужаса ибо водевиль
всегда был и будет неудавшейся трагедией, а трагедия фарсом лишенным юмора, руки
(по-прежнему тело, мускулы, а пе мозг, который только высвобождается из пыльной
дымки сна, итак одни только руки, всевидящие руки) хватают по мере продвижения по
спальне разбросанные повсюду части мужской одежды и швыряют их кучей в тот же шкаф,
шум шагов стихает, он теперь (сапоги, или вернее их отсутствие, внезапное и
страшное
489
прекращение всякого шума) прямо за дверью, дверная ручка ходит вверх и вниз, потом
по двери стучат кулаком, и она кричит: «Иду, иду!», захлопывает шкаф, бежит было к
дверям, но замечает скажем еще жилет или мужской ботинок, хватает его, снова кричит
в сторону двери: «Иду, иду!» сама бегом бросается к шкафу, открывает его, яростно
швыряет, куда ни попадя, то что подобрала по пути, створка уже стонет под мощными
ударами плеча (та самая дверь, которая по твоим словам слетела с петель когда на
нее навалился мужчина — только это не лакей навалился!), потом она ребячливая,
невинная, способная обезоружить любого, протирая глаза, с улыбкой тянет к нему
руки, объясняет ему что заперлась на ключ потому что боится воров а сама жмется к
нему, обнимает, обволакивает, спустив как бы ненароком с одного плечика рубашку,
обнажив грудь, трется до боли нежными сосками о пыльный мундир который уже начинает
расстегивать лихорадочными пальчиками, шепчет ему что-то почти прильнув губами к
его губам чтобы он не успел разглядеть ее губ распухших от поцелуев другого, а он
стоит в полной растерянности, в замешательстве, в отчаянии: расстроенный, сбитый с
толку, загнанный в тупик, лишенный всего и возможно уже от всего отрешившийся, и
возможно уже наполовину рухнувший... Разве не так?», а Жорж: «Нет!», а Блюм: «Нет?
А ты-то откуда знаешь?», а Жорж: «Нет!», а Блюм: «Он надеявшийся разыграть в натуре
басню о двух голубках, только он и был голубком-простофилей, то есть вернувшись иа
свою голубятню с перешибленным крылом, с колченогими своими мечтаниями, заметил что
позволил водить себя за нос, и не только потому что ему пришла в голову злосчастная
мысль, ему, помещику и дворянину, предаваться блуду в запретной зоне, в тряской
трясине идей, но еще и оставить при этом в одиночестве свою курочку или вернее свою
обожаемую голубку которая и воспользовалась его отсутствием чтобы тоже предаться
блуду, впрочем, что касается ее, то самым что ни на есть естественным манером,
другими словами как то практикуется с первого дня творения, просто взяв себе в
партнеры не золотушные мечтания а здоровенного малого с крепкими ляжками, и когда
он наконец понял это было уже слишком поздно; без сомнения он увидел себя совсем
голого — возможно ей удалось раздеть его донага пользуясь его замешательством, тем
что его совсем пришибло — рядом с этой двадцатилетней голубкой которая все ворко-
490
вала и ворковала и терлась об него, а он (возможно только тогда он заметил
сладострастный беспорядок смятых простынь, или услышал шорох, или просто в нем
заговорил инстинкт) оттолкнув ее, решительным шагом напра-» вился — хотя она теперь
цеплялась за него, молила все, отрицала, пыталась его удержать, но ее сил без
сомнения было маловато, он мог таких как она десяток протащить за собой, раз уж он
целых четыре дня таскал с собой тяжеленный, разложившийся и смердящий труп своих
разочарований — к шкафу, открыл дверцу, и получил прямо в рожу, прямо в упор пулю
из пистолета, так что милосердная судьба пощадила его хотя бы тут, другими словами
не дала ему увидеть того, кто прятался в шкафу, познать эту вторую и высшую
немилость, ларчик фокусника сработал в нужный момент, хлопушка сослужила свою
службу, другими словами положила конец этому мучительному и невыносимому
напряженному ожиданию развязки, приведя к счастливому концу, к спасительному
облегчению через, если так можно выразиться, черепораз-мозжение...»
А Жорж: «Нет!»
А Блюм: «Нет? Нет? Нет? Но ты-то, ты-то откуда в конце концов знаешь? Почем ты
знаешь, не положили ли они его там, сунув ему в руку еще дымящийся пистолет, и все
это в течение двух-трех минут, пока не сбежалась остальная челядь, даже не дав себе
труда (спешка, суета, каждая секунда на счету, а она теперь окончательно
проснувшаяся, теперь уже в работу включился и мозг тоже стряхнувший с себя дрему, и
с помощью непогрешимого инстинкта, позволяющего женщине единым взглядом определить
все ли готово для приема гостей, еще сообразила выставить конюха в коридор наказав
ему начать дубасить в уже выбитую дверь когда он услышит что сбежалась вся челядь),
даже не дав себе труда (впрочем и времени на это не хватило бы) хотя бы попытаться
натянуть на покойника его пыльный мундир который всего за несколько минут до этого
стащила с него в надежде что...»
А Жорж: «Нет».
А Блюм: «Но ведь ты же сам говорил что его обнаружили голым? Чем же это тогда
объяснить? Разве что тут сыграли свою роль его убеждения сторонника жизни па
природе? Или это волнующее чтение швейцарского мудреца? Разве он — я имею в виду
этого швейцарца-мелома-на, краснобая и философа, чье полное собрание сочинений
491
он вызубрил наизусть — разве тот тоже не был отчасти эксгибиционистом? И разве не
было у него сладостной мании показывать молоденьким женщинам свой зад...», а Жорж:
«Да замолчи ты, замолчи! Христа ради замолчи! До чего же ты можешь быть
утомительным! Помолчи хоть немножко...», потом голос его прервался (или возможно он
перестал его слышать) а сам оп глядел пе узнавая, другими словами не отождествляя
говорящего с Блюмом а лишь с бедами, страданием, с предельной нуждой, на эту маску,
па это изможденное осунувшееся, голодное лицо которое трагически опровергало
наигранно веселый тон, этот шутовской тон, и ему начинало казаться будто он снова и
снова переживает все это: медленная одинокая агония, ночные часы, тишина (может
быть только, в старом спящем особняке, ее нарушает глухое эхо от удара лошадиного
копыта о стенку стойла, а может быть также и ветер черный, шелковистый, тревожащий,
пробегающий порывами по двору) и де Рейшак, стоявший во весь рост среди этой
декорации галантной гравюры, стягивающий, срывающий с себя, отбрасывающий в
сторону, отринувший свое одеяние, этот претенциозный и эффектный костюм который без
сомнения стал для него ныне символом того во что ои верил и в чем сейчас уже не
видел ни малейшего смысла (голубой мундир со стоячим воротником, с шитыми золотом
отворотами, треуголка, страусовые перья: жалкая, нелепая и уже неживая ветошь,
скомканная усыпальница того (не просто власти, почестей, славы, по и идиллической
сени, идиллического и трогательного до слез царства Разума и Добродетели), того что
было навеяно всем этим чтением); и что-то внутри пего окончательно распалось,
сотрясаемое чем-то вроде страшнейшего поноса который яростно выталкивал из него не
только все нутро но и самую кровь, и было это вовсе не морального порядка — как
утверждал Блюм,— а так сказать порядка умственного, другими словами уже не сомнения
и вопросы, а просто отсутствие материала для сомнений и вопросов, и оп (Жорж)
произнес вслух: «Но ведь генерал тоже себя убил: не только де Рейшак, искавший и
нашедший на этой дороге пристойное и приукрашенное самоубийство, но и тот другой
тоже на своей вилле, в своем саду с аллеями аккуратно посыпанными гравием...
Помнишь тот смотр, торжественное построение, мокрое поле, это зимнее утро в
Арденнах, и он сам — тогда мы его впервые увидели — с маленькой как- у жокея
головкой, с этим сморщенным как
492
печеное-перепеченое яблоко личиком, с маленькими жокейскими ножонками в надраенных
до блеска детских сапожках невозмутимо шлепавших по грязи когда он йро-ходил мимо
нас па пас даже не взглянув: миниатюрный старичок или вернее миниатюрный гомункул
только что выбравшийся из банки со спиртом дабы явиться сюда, великолепно
сохранившийся, недоступный для царапин времени, непоседливый, шустрый и сухонький,
быстро обходивший выстроившиеся в боевом порядке эскадроны, а за ним целый хвост,
все в расшитых мундирах, все в перчатках, у каждого чашка сабли на сгибе локтя, и
все еле переводящие дух, так им трудно было поспевать за своим генералом по
размякшей земле а он даже не глядел себе под ноги, не оборачивался и вел беседу
только с одним из них, капитаном ветеринарной службы — единственным кого он
удостаивал словом — о состоянии конского поголовья и о том, что от этой почвы — или
от здешнего климата — или вообще в здешней местности лошади страдают мокрецом) ; и
вот когда он узнал, другими словами отдал себе отчет, накопец-то уразумел что его
бригады больше не существует, что разбита она не по законам — или по крайней мере
по тому что он считал законами войны: исчезла так сказать нормально, вполне
благопристойно, скажем идя па приступ явно неприступной позиции, или в результате
артиллерийского обстрела, или даже — с этим он, на худой конец, еще как-нибудь
согласился бы — не выдержав атаки превосходящих неприятельских сил: но опа если так
можно выразиться всосалась, распылилась, растворилась, поглотилась, исчезла с карты
генерального штаба, а куда и когда именно, он так и не узнал: одни только
фельдъегери прибывали друг за другом ничего не видевшие в тех местах — кроме
деревни, леса, пригорка, моста — где полагалось бы находиться эскадрону или отряду,
и пропала она по всей видимости не в результате паники, беспорядочного бегства,
расстройства в рядах — может быть и эту неприятность он еще как-нибудь принял бы,
во всяком случае отнес бы к разряду событий катастрофических но в общем-то
нормальных, уже бывавших когда-то, к разряду неизбежных случайностей возможных при
любой битве и которые можно еще исправить тоже давно известными средствами
поставить скажем на всех перекрестках заслон жандармов или расстрелять с десяток
первых попавшихся беглецов,— следовательно то была не паника, коль скоро приказ
который давался каждому
493
из фельдъегерей и который тот должен был передать дальше был неизменно приказом об
отходе, и так как позиция, где по предположениям штаба должно было находиться
соединение которому и был направлен этот приказ, сама стала местом отхода но ее
видимо никто и не достиг, фельдъегери продолжали теперь продвигаться вперед,
другими словами к предыдущей позиции отхода так ничего и не увидев ни справа от
дороги ни слева, кроме неистребимо однообразных и загадочных следов бедствия,
другими словами даже не сожженные грузовики или повозки, или мужчины, или дети, или
солдаты, или женщины, или дохлые лошади, а просто какие-то отбросы, нечто вроде
общественной свалки растянувшейся на десятки километров и распространявшей не
традиционный и героический запах падали, разложившегося трупа, а просто вонь идущую
от мусора, как скажем вонь от кучи старых консервных банок, картофельных очистков и
жженых тряпок, все это не трогательнее или не трагичнее обыкновенной груды мусора и
возможно пригодно лишь жестянщику да тряпичнику, и ничего больше, пока продвигаясь
все дальше и дальше, они (фельдъегери) сами не попадали под обстрел где-то на
повороте дороги, в результате чего в придорожном рву оказывалось одним мертвецом
больше, перевернутый вверх колесами мотоцикл еще продолжал трещать в пустоте или же
загорался, в результате чего появлялся еще один обугленный и почерневший труп все
еще сидевший верхом иа металлическом искореженном каркасе (ты заметил неслыханное
ускорение времени, удивительную быстроту с которой война подгоняет процессы, все то
что — ржавчина, грязь, распад, коррозия,— в обычное время совершается в течение
месяцев а то и лет?) похожий на зловещего карикатурного гонщика-мотоциклиста
продолжающего мчаться, пригнувшись к рулю, на сокрушительной скорости, точно так же
разлагаясь (и под ним на зеленой траве расплывается какая-то темная и липкая
жидкость, какое-то коричневое пятно не то битума, не то экскрементов — что это,
отработанное масло, смазка, обгорелое мясо?) на сокрушительной скорости,— итак
фельдъегери возвращались один за другим так ничего и не обнаружив, и даже совсем
уже не возвращались, его бригада, которая словно бы испарилась, исчезла, словно бы
стерли ее с лица земли, даже следов после нее не осталось разве что несколько
ошалевших, куда-то бегущих типов, прячущихся в лесах или пьяных, и напоследок у
меня уцелело разве что чу-
494
точку рассудка, чтобы посидеть перед рюмкой можжевеловой которую уже не хватало сил
выпить и придавленный к диванчику собственной своей тяжестью я пытался с упорством
пьяного встать и уйти, понимая что они (Иглезиа и тот старик в дом которого мы
сначала ворвались, которого потом чуть не убили и который пообещал нас ночыо
провести через линию фронта) оба были пьяны не меньше меня, и все еще не упав
окончательно духом я предпринимал все новые попытки наклониться всем туловищем
вперед чтобы его тяжесть перевесила тяжесть непослушных ног, помогла бы мне встать
с этого диванчика к которому меня словно пригвоздило, и одновременно обеими руками
я старался оттолкнуть от себя стол, отлично понимая что все эти разнообразные
движения совершенно бесполезны и что я по-прежнему окаменел в неподвижности, как
будто бы мой призрачный и насквозь просвечивающий двойник без всякого толку
повторял те же движения, наклоняя вперед туловище, напрягал одновременно ноги и
отталкивал руками стол, пока наконец пе замечал что ничего на самом-то деле не
происходит и тогда возвращался вспять снова отождествляясь с моим телом все еще
прикованным к диванчику снова пытаясь оторвать его от сидения но опять-таки
безрезультатно вот почему я и попробовал навести порядок хоть в мыслях рассудив что
ежели мне удастся упорядочить свои впечатления возможно мне удастся также управлять
своими движениями приказать телу повиноваться и поэтому я по порядку начал с самого
начала:
прежде всего дверь с которой мне пришлось первым делом справиться которую я смог
одолеть, дверь отражавшуюся в зеркале висящем над стойкой, в обыкновенном
прямоугольном зеркале какие можно видеть или вернее в какие можно увидеть себя сидя
у парикмахера, с закругленными верхними уголками борт рамки примыкающий к стеклу
идет легкими уступами и узенькой плоской полоской потом орнамент наподобие четок
потом рамка потолще но покрыта не белой эмалевой краской как в парикмахерских
салонах а коричневой клеевой, рамка с почти незаметным нитеобразным выпуклым
рисунком вроде вермишели с лепными украшениями в виде астрагалов звездочек идущих
от главного орнаменту типа пальметты в центре с обеих сторон рамы, и так как
зеркало висело наклонно отражавшиеся в нем вертикальные плоскости тоже все
получались наклонными, начиная с самого пер-
493
вого плана и горлышек бутылок выставленных внизу строем на полочке прибитой сразу
же под зеркалом затем деревянный пол даже не натертый который тоже казалось шел
вверх градусов этак на двадцать следуя за наклоном зеркала, в тени пол был серый, а
желтый там где на него падал из открытой на улицу двери вытянутый косой
прямоугольник солнца идущий прямо от порога, два вертикальных дверных косяка тоже
наклонных как будто сама (цена собиралась вот-вот рухнуть каменная плита заменявшая
дверной порог дальше тротуар еще дальше длинные прямоугольные плитки обрамляющие
тротуар и еще дальше первый ряд булыжника на мостовой к которой я повернулся спиной
и разумеется из-за того что я уже охмелел, я был в состоянии воспринимать зрительно
только это зеркало и то что в нем отражалось и вот за это-то отражение мой взгляд
если только так можно выразиться судорожно цеплялся как цепляется пьяный за
фонарный столб как за единственно прочную опору в смутном невидимом и бесцветном
мире откуда до меня доходили лишь голоса без сомнения голос женщины (хозяйки) и
двух-трех неопределенных типов находившихся здесь, и тут один из них как раз сказал
другому Армия разбита, а мне послышалось Собака убита, и я ухитрился даже увидеть
дохлую собаку которую несет вниз течение реки а брюхо у нее бело-розовое раздутое
шерсть слиплась словом похоже на уже разлагающуюся крысу
потом солнечный прямоугольник на полу исчез снова появился снова исчез но не
целиком: на сей раз я благодаря все тому же зеркалу успел заметить в проеме двери
край женской юбки две лодыжки и две ступни обутые в ночные туфли и все это тоже
наклонное как будто и она тоже валилась назад
голос ее доносился из-за ее плеча с улицы проникал внутрь кафе потому что она
конечно стояла немного повернув голову назад другими словами если бы зеркало висело
чуть повыше я мог бы разглядеть ее профиль; со своей позиции она могла одновременно
следить за тем что происходит на улице и говорить так чтобы ее было слышно нам
Гляди-ка солдаты
а мне на сей раз удалось подняться уцепившись за край стола и одновременно с моим
движением я услышал как одна из рюмок опрокинулась покатилась по столу разумеется
выписывая круги вокруг собственной ножки докру-
496
тилась до края столешницы которую я еще к тому же толкнул упала и разбилась а я тем
временем ухитрился добраться до хозяйки кафе и глядя через ее плечо увидел как
удаляется серая машина с каким-то странным кузовом чем-то напоминающим гроб весь
вроде собранный из отдельных кусков а в автомобиле четыре спины и четыре круглые
каски и я Черт но это же... Черт но вы же
а она Да знаете я что-то плохо в военной форме разбираюсь а я Черт
а опа Я уже встретила одного такого утром когда за молоком ходила, он по-французски
говорил и наверняка офицер потому что сидел на мотоцикле вернее в коляске мотоцикла
и всё карту рассматривал, он меня спросил это и есть дорога я сказала Да вы как раз
на дороге Потом только я сообразила что вид у него какой-то странный
я вернулся в кафе и стал трясти Иглезиа который спал уткнувшись щекой в
растопыренные на столе локти Проснись черт бы тебя побрал проснись же надо отсюда
смываться бежим отсюда черт бы тебя побрал
через минуту женщина все так же стоявшая на пороге сказала А вон еще и другие.
на этот раз я сразу же встал у нее за спиной смотря в ту сторону куда смотрела она
то есть не туда где исчезла та первая машина а в противоположном направлении так
что казалось несущиеся на полном ходу мотоциклисты преследуют ту машину но эти были
в хаки
на MPir в голове у меня мелькнула мысль видение солдаты обеих армий преследуют друг
друга и кружат вокруг блока домов как в Опере или в комическом фильме люди втянуты
в пародийную и шутовскую погоню любовник муж потрясающий револьвером горничная из
отеля неверная жена камердинер булочник полицейские потом снова любовник в
кальсонах и подвязках бегущий выпятив грудь прижав локти к бокам и высоко вскидывая
колени муж с револьвером жена в пышных панталонах в черных чулках и лифчике и так
далее всё кружилось в солнечном свете я не разглядел ступеньки вернее просто более
высокой плиты тротуара и чуть было не вылетел головой вперед я сделал несколько
шагов держа корпус почти горизонтально с трудом удерживая равновесие нависая над
моей упавшей на тротуар тенью потом схватился за руль
лицо того типа под каской, жирное багровое небритое
497
яростное все в каплях пота с яростными обезумевшими глазами с яростно вопящим ртом
Да что же это такое да что же это такое Катись отсюда отцепись от меня, потом я
увидел грузовичок в каких развозят товары кое-как закамуфлированный с наляпанными
на кузове желто-коричневыми и зелеными пятнами его занесло на повороте но он тут же
выправился а я стоя посреди дороги широко размахивал обеими руками
по нашивкам я догадался что он был из инженерных войск должно быть из запаса
служащий дорожного ведомства путей сообщения у пего был вид чиновника и очки в
тоненькой металлической оправе, выскочив из кабины он нервно жестикулируя
надвинулся па меня уже заранее крича не слушая меня и тоже твердил не переставая
Чего вам нужно ну чего чего чего зам нужно, я попытался было ему объяснить но он
все так же нервически и злобно поглядывал через плечо в том направлении откуда они
приехали держа в руках револьвер направленный сначала иа меня потом забыл о
револьвере и просто размахивал им в такт фразам а сам ухватился за пуговицу моей
куртки, синего комбинезона который мне дал тот тип, и все орал Что это еще у вас за
форма, я снова попытался ему объяснить но он не слушал и все судорожно оглядывался
на угол улицы, я вытащил свою бляху свой военный билет который решил сохранить но
он все оглядывался через плечо тогда я сказал Вон туда, показав на тот угол за
которым скрылась маленькая серая машина он крикнул Что? а я Они проехали здесь
минут пять назад их было четверо в маленькой машине, и он крикнул А если я велю вас
расстрелять? я снова попытался объяснить ему что к чему но он уже выпустил меня
отступая задом к грузовичку по-прежнему бросая искоса взгляды на тот угол улицы
откуда они появились (я тоже поглядывал туда почти ожидая что вот-вот покажется
серенькая машина напоминавшая гроб ведь по моим предположениям ей уже пора было
обогнуть жилой массив) потом он все так же задом влез в машину сел захлопнул дверцу
и через опущенное стекло направил револьвер прямо на меня а сам все высовывал
наружу свое сероватое потное худое лицо и нагибаясь смотрел назад через очки
близорукими своими глазами, потом грузовичок тронулся с места
я бросился за ним: их примерно с десяток сидело под брезентом на двух скамеечках
расположенных друг против друга, я вцепился в задний борт грузовичка и побежал
498
пытаясь влезть внутрь они меня оттолкнули но так как все они были по-видимому тоже
пьяные мне удалось перекинуть через борт одну ногу тут кто-то из них размахнулся
чтобы ударить меня прикладом но очевидно слишком уж оп набрался и железяка
хлопнулась о борт рядом с моей рукой тогда я отцепился от борта но успел еще
разглядеть чью-то запрокинутую морду обладатель ее жадно пил прямо из горлышка
потом он нацелил на меня полузакрытый глаз и швырнул бутылку мне но они были уже
слишком далеко и бутылка упала примерно в метре с лишним от меня разбилась в ней
еще было вино оно расплылось по мостовой темным пятном распустив вокруг себя
щупальца поблескивали разлетевшиеся во все стороны осколки чер-по-зеленого стекла
потом я услышал выстрел но пуля пролетела мимо, и не удивительно их пьяных вдымину
еще и подбрасывало трясло в грузовичке, потом он скрылся из глаз
ему удалось окончательно проснуться он стоял перед дверыо бистро впереди хозяйки
его огромные рачьи глаза смутно поглядывали на меня, я крикнул Надо смываться
Пойдем соберем наше барахло Он чуть не велел меня расстрелять один из этих типов
стрелял в меня из своей пушки
но он даже пе шелохнулся продолжал смотреть на меня с холодным неодобрительным
порицанием потом ткнул рукой в сторону бистро и сказал Он обещал что нынче к вечеру
он нам утку зажарит
а я Какую еще утку?
а он Жрать-то ведь тоже надо Он обещал что
тогда я перестал слушать, пошел прямо через поле поднялся на холм солнце упрямо и
назойливо торчало в небе как и обычно после полудня в слишком длинные весенние дни
когда оно мешкает все стоит и стоит высоко в небе день тянется бесконечно солнце
застывает на месте как раз п тот миг когда ему следовало бы спускаться а оно все ие
решается точно его остановил какой-нибудь Иисус Навин вот уже два а то и три дня
как оно забывало закатываться после того как вставало окрашивая поначалу совсем
слабо в нежпо-розовый цвет предрассветное сиреневое небо заря раскидывала по нему
свои лепестки но я не замечал той минуты когда оно появлялось я видел только свою
непомерно вытянутую полупрозрачную тень четвероногого животного на дороге где не
было ничего кроме неподвижных куч какого-то тряпья и идиотского лица опрокинутого
499
навзничь Вака глядящего на меня, а теперь солнце неподвижно стоящее в белесом небе
светило мне прямо в глаза
обернувшись я заметил что он идет за мной следом; значит решился-таки, он добрался
только еще до подножья холма с трудом обогнул последние дома спотыкаясь шлепал по
лугу раз оступился упал ио тут же поднялся тогда я остановился и стал ждать когда
он меня догонит но ноги у него снова стали заплетаться и он опять упал с минуту
постоял па четвереньках его вырвало потом оп поднялся и побрел вперед вытирая на
ходу губы обшлагом рукава.
Возможно как раз в эту самую минуту генерал и покончил с собой? А ведь у него была
машина, был шофер, был бензин. Ему стоило только нацепить каску, натянуть перчатки
и выйти, спуститься с крыльца виллы (думаю это наверняка была вилла: в виллах
обычно размещают КП бригадного генерала, замки по традиции отводят под КП дивизии и
выше, а фермы простым полковникам): итак вилла конечно, сливовые деревья в цвету на
зеленом газоне, портал выкрашенный белой краской, посыпанная гравием аллея идущая
между двух рядов боярышника с усыпанными белыми точками листиками, и вполне
буржуазный салон с неизбежным букетом из остролиста пли из больших специально
обработанных перьев выкрашенных — серебряной краской или под осеннюю рыжину — на
углу камина или рояля, сдвинутая в сторону ваза уступившая место широко раскинутым
штабным картам, откуда (из виллы) в течение недели шли приказы и распоряжения почти
столь же бесполезные как и те что в течение того же самого отрезка времени
разрабатывали для собственной утехи стратеги в каком-нибудь провинциальном кафе
комментируя ежедневные военные сводки: итак ему достаточно было только спуститься с
крыльца, спокойно сесть в свой автомобиль с флажком на радиаторе и катить себе без
остановки прямо до штаба дивизии или армейского корпуса, долго торчать в приемной
ожидая аудиенции а затем, как и все прочие, получить новое назначение. А вместо
всего этого, когда его офицеры уже уселись во вторую машину, когда уже завели
моторы, а мотоциклы трех или четырех фельдъегерей оглушительно трещали, и
автомобиль с флажком ждал с открытой дверцей, он взял и пустил себе пулю в лоб. И в
грохоте мотоциклетных и автомобильных моторов никто ничего и ие услышал.
500
И возможно это было даже не сознание бесчестья, внезапное понимание своей
бесталанности (в конце концов возможно он вовсе и не был уж таким безнадежным
идиотом — поди знай — можно даже предположить что приказы его вовсе не были глупыми
а напротив наилучшими, самыми уместными, даже удачными — но опять-таки поди знай
раз ни один из его приказов так и не дошел до тех кому был адресован?): а возможно
совсем другое: некая пустота, дыра, яма. Бездонная. Безысходная. Где ничто больше
не имело ни смысла, ни права на существование — иначе зачем бы ему снимать с себя
одежду, стоять вот так, голым, не чувствуя холода, и безусловно до ужаса спокойным,
до ужаса проницательным, аккуратно положив на стул (касаясь их, трогая с каким-то
внутренним отвращением и бесконечными предосторожностями как будто касался он
нечистот или взрывчатки) свой сюртук, пап-талоны, поставив перед стулом сапоги,
увенчав все это шляпой, этаким экстравагантным головным убором похожим на
фейерверк, совсем так будто эти вещи снова облачали, обували, украшали голову
некоего воображаемого и несуществующего персонажа, глядя на них все тем же сухим,
заледеневшим, испуганным взглядом, по-прежнему стуча зубами от холода, ко всему
безучастный, понемножку отступая чтобы лучше оценить эффект своего сооружения, он в
конце концов наверняка опрокинул стул задев его рукой, ведь на гравюре стул
валяется на полу а одежда...»
А Блюм: «Как какая гравюра? Ведь была же гравюра! Ты сам мне говорил...»
А Жорж: «Да нет. Никакой гравюры не было. Откуда ты взял?» И не было также — во
всяком случае он ее никогда не видел — картины изображавшей эту битву, это
поражение, этот разгром, без сомнения потому что побежденные нации не любят
увековечивать память о своих военных катастрофах; от той войны осталась лишь
картина украшающая большой зал Ратуши, на ней запечатлен победоносный этап
кампании: по победа эта пришла лишь годом позже, а еще примерно лет через сотню
официальному живописцу было поручено ее увековечить, поставив во главе оборванных
солдат похожих на статистов кино некий аллегорический персонаж, женщину в белом
платье оставляющем открытой ее левую грудь, во фригийском колпаке, потрясающую
саблей и с широко раскрытым ртом, она стоит облитая желтым светом яркого солнечного
501
дня среди синеватых победных полос дыма, вокруг опрокинутые габионы а, на переднем
плане, изображен в перспективе мертвец с тупым перекошенным лицом лежащий на спине,
одна нога согнута в колене, руки раскинуты крестообразно а голова свисает, вылезшие
из орбит глаза смотрят прямо на зрителя, черты искажены гримасой которой суждено
остаться на века, последующие поколения избирателей слушают разглагольствования
последующих поколений политиков которым эта победа даровала право
разглагольствовать — а слушателям слушать их разглагольствования — на сцене
украшенной трехцветными знаменами.
«Но начали-то они с поражения, говорил Жорж, и испанцы здорово их потрепали как раз
в том бою где командиром был де Рейшак, и тогда им пришлось отступать по всем
дорогам идущим от Пиренеев, другими словами, очевидно, просто по тропкам. Но,
дороги или тропки один черт: все те же трупы в придорожных рвах, все те же дохлые
лошади, сгоревшие повозки и брошенные орудия...» (На сей раз было воскресенье и оба
они, он и Блюм, сидели рядышком надеясь хоть чуточку согреться под белесым
саксонским солнцем, все в тех же нелепых шинелях польских или чешских солдат,
опершись спиной о дощатую стенку барака и каждый по очереди передавал соседу
сигарету всего на одну затяжку, и оба старались как можно дольше удержать табачный
дым в легких в самой их глубине, медленно выпуская его через ноздри чтобы лучше
пропитаться им, равнодушные к кишению насекомых которыми они были покрыты с головы
до ног, десяткам крошечных сероватых вшей а самую первую вошь они обнаружили с
ужасом, отчаянно охотились за следующими, а потом сдались перестали их бить, и
теперь вши безнаказанно ползали по ним отчего не проходило чувство беспрерывного
отвращения, беспрерывного своего бессилия и беспрерывного ощущения что гниешь
заживо, в открытое окно до них долетали голоса затеявших ссору уроженцев Орана,
Жорж затянулся в последний раз стараясь взять все что возможно от последнего
крошечного бычка который жег ему кончики пальцев, потом отшвырнул его или вернее
(так как от бычка теперь уже не осталось ничего за что можно было бы его ухватить)
просто отлепил его большим пальцем от уголка губ потом поднялся, потопал затекшими
ногами, повернулся к солнцу спиной, положив локти па подоконник, уперев подбородок
в ладони и так и остал-
502
ся стоять глядя на них, сидящих вокруг сального стола, с засаленными картами в
руках, на их невозмутимые жесткие лица картежников напряженные, неумолимые,
изглоданные этой холодной, терпеливой и зоркой страстью, отделявшей их от всех
прочих как бы клеткой внутри которой они укрывались, спасались от жесткого мира
насилья (совсем так как пловец укрывается в воде от дождя) как иод стеклянным
колпаком, под защитой своей собственной ауры риска и насилья которую они
секретировали на манер каракатицы выбрасывающей чернила: банкомет, своего рода
содержатель игорного притона где выигрывали или проигрывали, где переходили из рук
в руки час за часом целые состояния в жалких лагерных марках (а у кого не было
больше марок, расплачивались табаком, а те у кого не было табака, расплачивались
хлебной пайкой, а те у кого не было сегодняшней пайки, расплачивались завтрашней а
иной раз и послезавтрашней — и был там один болонец (итальянец) который проиграл
хлебную пайку за четыре дня, и, начиная со следующего дня, каждый вечер пунктуально
подходил к банкомету и вручал ему свою порцию черного хлеба и подозрительного
маргарина, и при этом ие произносилось ни слова, просто взаимосоглашение,
неприметный кивок того кто этот хлеб брал, присоедииял к собственной пайке вроде бы
даже не замечая должника, а на третий день итальянец потерял сознание, и когда он
пришел в себя когда снова стал видеть и понимать банкомет — по-прежпему на него не
глядя — взял порцию хлеба и маргарина которую тот только что ему вручил и протянул
ее обратно: «Хочешь?», а тот: «Нет», и, по-прежнему не глядя на него, банкомет
спрятал хлеб и маргарин в свою сумку, а на следующий день тот (проигравший) снова
их принес (было это в четвертый и последний раз, а днем, на работе, он снова
потерял сознание), а тот другой, как и во все предыдущие разы не глядя на него,
взял пайку и молча положил ее себе в сумку, и кто-то присутствующий при этой сцене
сказал примерно «Вот сволочь», а он (банкомет) даже не шевельнулся, продолжая есть,
только на один миг вскинул холодные, мертвые глаза на лицо обругавшего его
человека, на редкость невыразительные, на редкость холодные, потом отвернулся,
челюсти его по-прежнему двигались перемалывая пищу, а тем временем двое или трое
соседей вели спотыкающегося на каждом шагу итальянца к его койке), итак, банкомет,
содержатель игорного притона — или же банкир — мальтиец (или ва-
503
лансьенец, или сицилиец: какая-то смесь, один из этих ублюдков, синтетический
продукт портов, трущоб и островов этого моря, этой старой лужи, этой древней
купели, этого извечного горнила всей и всяческой торговли, всей и всяческой мысли,
всей и всяческой хитрости) с ястребиным профилем, с маленькими змеиными мертвыми
глазками, с сухоньким, черным лицом без выражения, без возраста и, разумеется,
одетый как и все прочие в неопределенные солдатские обноски однако при виде пего
сам собой возникал вопрос что он делал там (другими словами на этой войне, другими
словами в армии, другими словами почему призвали, мобилизовали типа с физиономией
(и возможно даже имевшего судимость) вроде вот этой (или вот той) кто явно годился
лишь на то чтобы при первом же удобном случае всадить пулю в спину офицера или
сержанта казначея батальона или полка и удрать с деньгами — разве что ему удалось
натурализоваться и его призвали на военную службу, обрядили в форму п дали пет не
ружье — что все же было бы неосторожно — просто вручили воинский билет в
продвидеиии одиой-едпиствепиой возможности — коль скоро для того чтобы создать
армию все идет в дело,— позволить ему в будущем сыграть роль содержателя игорного
притона в бараке для военнопленных); а напротив него благодушный, величественный,
тучный еврей (нет вовсе не жирный: а именно царственно тучный, и без сомнения
единственный на весь наш лагерь — по каким образом? почему? ведь в течение двух
первых месяцев он ни разу, в отличие от остальных, не получил ни одной посылки —
кто ухитрился за то время что сидел здесь не потерять ни грамма веса), был он в
Алжире чем-то вроде сводника и его смехотворный воинский наряд, смехотвор-пая
желтая шинель, бесформенная пилотка выглядели на нем как шитое золотом облачение и
золотая тиара, и все время казалось оп по-библейски царственный и бесстрашный
восседает на троне в окружении своего двора состоящего из подонков-доходяг которые
оспаривали друг у друга великую честь поднести к его сигарете зажженную спичку а он
казалось даже не замечает их, хотя вполне был способен протянуть свой котелок
отхлебнув разве что одну-две ложки — Жорж сам это видел — какому-нибудь наидох-
лейшему из доходяг со словами: «Я не голоден. Держи!», и протесты
облагодетельствованного прерывал простым: «Ешь!», таким тоном каким отдают приказ,
распоряжение, и больше ни звука, а только посасывал сигарету, подносил
504
к ней спичку — или ему подносили спичку его прихлебатели — и сидел, безмятежный,
важный, тяжеловесный, возможно только чуть побледневший, и медленно затягивался
сигаретой медленно выпускал дым а тем временем все прочие жадно хлебали
омерзительную похлебку вонючую и затхлую которая казалось ему вообще ни к чему, ему
который не только ухитрялся не худеть, но которого никто ни разу не видел за
работой или хотя бы для приличия делавшим вид что работает, вместе со всеми он шел
на стройку таща за собой лопату которую ему совали в руки а явившись на стройку
втыкал ее в землю, и все восемь ч^сов простаивал, опершись об эту самую лопату,
курил (ибо, совсем так как казалось оп, в силу остававшихся ему еще королевских
привилегий, может свободно обходиться без еды, он, несомненно в силу тех же самых
привилегий, никогда не сидел без курева) или поглядывал даже но без всякого
презрения на военнопленных суетившихся рядом, и при этом ни разу не случалось чтобы
часовой или надсмотрщик сделали ему замечание, а в день Йом Кипура, ои ни разу в
жизни не переступавший порога синагоги, не соблюдавший никаких религиозных обрядов,
наверняка даже не знавший что значит суббота, а тем более тора, и пе умевший даже
читать (Жорж узнал это потому что он — то ли не желая чтобы об этой его слабости
знала льнущая к нему шпана, то ли предпочитая прибегнуть к помощи иностранца —
просил Блюма или его (Жоржа) писать под его диктовку письма к матери (не к
женщинам: к собственной матери) и читать ему вслух ответные письма), итак, в день
Йом Кипура в той самой стране где сотнями тысяч уничтожали и жгли евреев, он
объявлял себя больным чтобы не выходить на работу, и пе только целый день сидел без
дела, чисто выбритый, ничего не ел даже спичек в руки не брал, но еще оставалось в
нем столько силы чтобы принуждать своих ближних (тех из своего племени для кого в
свое время он был — да еще и теперь оставался — верховым владыкой) поступать так
же; итак, оба они сицилиец и царь сошедший прямо со страниц Библии сидели друг
напротив друга, а вокруг них (или в их кругу, или вернее в кругу того что исходило
от них, в этой невидимой клетке которую они возвели или вернее которая возводилась
вокруг них сама собою стоило им сесть за стол и вынуть карты и на стенах этой
клетки чья-то невидимая рука казалось вывела слова «закрытый сеанс», как пишут на
505
дверп особых зал в казино или в клубах) обычные физиономии игроков, проходимцев или
простофиль, сутенеров, или приказчиков, или парикмахерских подмастерьев которые
держатся с независимым видом и заранее обречены на то чтобы их общипали, все эти
лихорадочные и невозмутимые лица, еле двигающиеся губы, еле двигающиеся руки
вытягивающие каждую карту лишь чуть-чуть чтобы был виден правый ее уголок, а в
конце каждой партии нечто вроде безмолвного вздоха, стона, оргазма исходящего не от
игроков, чьи лица по-прежнему ровно ничего не выражали, но от зрителей, и, во время
одного такого затишья, Жорж пошарив в кармане извлек оттуда и быстренько пересчитал
жалкое свое богатство, жалкое свое сокровище, заключавшееся в маленьких бумажках
(плата которую победитель со спокойной совестью где-то рядом убивавший малых детей,
считал себя обязанным выплачивать, и вовсе не в насмешку, не в шутку, но в силу
некоего принципа, некоего закона, в силу некоей благоприобретенной или вернее
зазубренной морали, или вернее насаждаемой, безрассудной и внешне нерушимой,
носящей в силу традиции даже некий священный характер (хотя лет за сто до того
совершенно неизвестной): короче всякий труд должен оплачиваться, пускай мало, но
все-таки оплачиваться,— итак плата хотя победитель вполне мог бы заставить плен-пых
вкалывать бесплатно, что он и делал в других местах, но отдавая своего рода дань
уважения некоему принципу скорее всего суеверному хотя и чисто символическому,
считал себя обязанным им платить), отсчитал примерно две трети, поманил пальцем
одного из зрителей тот поднялся с места, взял деньги, подошел к сицилийцу, о чем-то
с ним пошептался, возвратился к окошку pi протянул две сигареты и Жорж тут же
закурил, потом, отвернувшись, проехался спиной по дощатой стенке барака и наконец
уселся на собственные пятки, протянув другую уже зажженную сигарету Блюму, а Блюм
ахнул: «Ты что окончательно рехнулся?», а Жорж: «А ну их всех туда-то! Ведь сегодня
у нас воскресенье, правда?», и устроившись поудобнее, все затягивался и затягивался
сигаретой чтобы табачный дым пробрал его до самого нутра, чтобы почувствовать его
всеми легкими, выпуская дым с почти неестественной медлительностью, он сказал:/
«Значит, он был там, на этой дороге, отступая самым жалким образом, в этой шляпе, в
своей треуголке с перьями как у паяца, в плаще пола которого как тога римлянина
эффектно заки-
506
нута за плечо, в грязных сапогах — нет скорее в пыльных — погруженный в свои мысли,
или вернее в полное отсутствие мыслей, скованный физической невозможностью мыслить,
сопоставлять, связать более или менее последовательно одну идею с другой, лицом к
лицу с тем что оп безусловно считал полным крушением всех своих чаяний, не
догадываясь еще что всего вероятнее все как раз наоборот — но к счастью для него он
не дожил до тех дней когда ему пришлось бы убедиться в этом воочию,— другими
словами убедиться в том что революции крепнут и мужают в горниле катастроф дабы
развратиться, переродиться и погибнуть в апогее военных триумфов...»
А Блюм: «Ты говоришь, словно по книге читаешь!..»
А Жорж вскинул голову, с минуту молча, растерянно глядел на Блюма, потом пожав
плечами произнес: «Ты прав. Прошу прощения. Ничего не поделаешь привычка,
наследственный порок. Отец мой так хотел чтобы я сдавал в Эколь нормаль и
провалился. Он так хотел чтобы я впитал хотя бы частицу той чудесной культуры что
была завещана нам веками мысли. Всеми силами души он желал чтобы его дитя
наслаждалось бы теми несравнимыми преимуществами что дает западная цивилизация.
Будучи сам сыном неграмотного крестьянина, ои был так горд тем обстоятельством что
научился читать и поэтому в глубине души был убежден что не существует таких
проблем, это касается в частности и проблемы человеческого счастья, которые нельзя
было бы разрешить путем чтения хороших книг. Он даже в один прекрасный день нашел
средство урвать (и поверь мне если бы ты знал мою матушку ты бы понял какой это
подвиг, какое проявление воли, и следовательно какая степень волнения, смятения)
пять строчек среди пошлых ламентаций которыми заполнены все материнские письма — к
счастью лагерное начальство ограничивает размеры направляемой к нам корреспонденции
— чтобы присоединить к этому мощному концерту и свои собственные ламентации делясь
со мной своим отчаянием при известии о бомбежке Лейпцига с его кажется уникальной
библиотекой...» (он вдруг прервал свою речь, замолчал, и ему не потребовалось даже
вытаскивать из бумажника письмо чтобы увидеть его воочию — единственное письмо
которое он сохранил из многочисленных посланий Сабины где внизу отец обычно после
неизбежного «Крепко тебя целуем» только и мог что-то нацарапать крошечными
буковками и лишь один Жорж догадывался,
507
что эти мушиные следы следует расшифровывать как «Папа»,— словом вновь увидеть (еще
более мелкие буковки, еще теснее посаженные одна к другой, сжатые в сплошняк за
неимением места и из-за желания сказать как можно больше на до невозможности малом
пространстве) тонкий и аккуратный почерк человека окончившего в свое время
университет, нескладный телеграфный стиль: «...мама уже написала тебе обо всех
наших новостях и как ты сам видишь неплохих... в той мере в какой хоть что-нибудь
может быть хорошим сейчас зная тебя беспрерывно думая о тебе находящемся там и о
том мире где человек яростно разрушает самого себя не только в плоти собственных
детей но также и в том что он смог сделать, оставить после себя в том лучшем что он
мог бы передать последующим поколениям: со временем История разберется что потеряло
в тот день от бомбежки все человечество всего за несколько минут, наследие многих
веков, самую ценную библиотеку в мире, все это бесконечно грустно, твой старый
отец», и он воочию увидел его, слоноподобного, массивного, почти бесформенного, в
полумраке беседочки где они оба сидели в тот последний перед его отъездом вечер а к
ним вместе с взревыванием трактора то неистового то приглушенного это их арендатор
заканчивал косить большой луг, доносился пронзительный зеленый аромат
свежескошенной травы реявший в теплых сумерках, окружал их одуряющими испарениями
лета, размытый силуэт арендатора на высоком как насест сидении трактора в огромной
соломенной шляпе с зазубренными разлохмаченными полями стоявшими надо лбом черным
ореолом дважды отраженный очками, проплывший медленно по выпуклой и блестящей линзе
очков а за ними грустное с трудом различимое в полумраке отцовское лицо, и оба сидя
бок о бок не знали о чем говорить, оба наглухо замурованные в то трогательное
непонимание, в эту полную невозможность взаимного общения уже давно установившуюся
между ними и которое он (отец) попытался еще раз сломить, Жорж слышал как с его губ
продолжали срываться (и до этого конечно срывались) слова, до него доходил его
голос и он сказал:) «...на что я ответил что ежели содержание тысяч и тысяч книг
этой уникальной библиотеки как раз и оказалось бессильным помешать таким вещам как
бомбежка уничтожившая их, то в конце концов я не совсем отчетливо понимаю какую в
сущности потерю понесло человечество от того что под бомбами погибли ты-
508
сячи книжонок и бумажного хламья доказавшие тем самым полнейшую свою никчемность.
Если составить подробный список более непреложных ценностей, предметов первой
необходимости в которых мы испытываем здесь более острую нужду чем во всех томах
прославленной Лейпцигской библиотеки, то получится следующее: носки, кальсоны,
шерстяные ткани, мыло, сигареты, колбаса, шоколад, сахар, консервы...»
А Блюм: «Ну ладно. Хорошо. Ну ладно. Хорошо. Знаем сами. Ладно. Хрен с ней с
Лейпцигской библиотекой. Ладно. Согласен. Но, опять-таки, твой чудак, тот тип с
портрета, слава и позор вашего семейства, ведь не был же он первым генералом, или
миссионером, или комиссаром, или ком тебе угодно который...»
А Жорж: «Да. Конечно. Я и сам знаю. Да. Возможно это вовсе и не было следствием
проигранной битвы, простого военного поражеппя: пе только то что он видел там,
панику, трусость, беглецов бросающих оружие, кричащих как всегда кричат в таких
случаях об измене и проклинающих командиров чтобы оправдать собственную панику, и
вот мало-помалу выстрелы становятся все реже, все малоубедительнее, просто
одиночные выстрелы, за которыми не следуют другие, бой сам себя исчерпал, умирает
сам по себе в предзакатной истоме. Мы-то это видели, испытали: это затихание, этот
постепенный переход к неподвижности. Это вроде колеса ярмарочной лотереи —
пулеметная басовитая трескотня металлического (или из китового уса) языка по
блестящему ободу ограничителя если так можно выразиться расчленяется, слитное как
звук трещотки щелканье распадается, дробится, разрежается, в эти последние часы
когда битва кажется продолжается лишь в силу взятой первоначально скорости, то
замедляется, то снова набирает силу, затухает, снова вспыхивает в бессмысленных
бессвязных взрывах чтобы сникнуть опять вдруг начинаешь слышать пенье птиц, вдруг
отдаешь себе отчет что вовсе они и не переставали ни па минуту петь, равно как и
ветер не переставал раскачивать ветви деревьев, а облака ползти по небу,— итак, еще
несколько выстрелов, теперь уже каких-то странных, бессмысленных, то тут то там
лениво раздирающих вечернее благорастворение, еще завязываются кое-где короткие
стычки между арьергардными частями и преследователями, которые вовсе не обязательно
собственно испанские войска (другими словами регулярные, королевские войска,
509
другими словами вполне возможно состоящие вовсе и не из испанцев а из наемников, из
ирландской или швейцарской солдатни под командованием какого-нибудь малолетнего
инфанта или старика генерала с лицом как у мумии фараона, с пергаментными, в
сплошных веснушках ручками, но в равной мере (ребенок или старая мумия) в золотом
шитье, орденах, бриллиантовых звездах, похожие иа разубранную раку, на статую
мадонны в своем непорочно белом одеяшш, с широкими муаровыми лентами цвета небесной
лазури через плечо, с унизанными перстнями пальцами, царственное дитя верхом на
пегом коне с вершины пригорка весело ищет в подзорную трубу которую не умеет толком
навести последние части отступающего неприятеля, пергаментная древняя мумия
восседает в своей берлине и волнует его уже сейчас место бивака, ферма, обед,
постель — а возможно н девочка — которую ему отыщут офицеры), и стреляют
(спорадическими выстрелами) те тайные и загадочные союзники которых любая армия-
победительница как бы стихийно порождает вокруг, впереди и позади себя, без
сомнения это крестьяне, или контрабандисты, или грабители с большой дороги из
местных или из дальних вооруженные старинными мушкетонами или калечными
пистолетами, с целой связкой медалек и эксвото на шее, а физиономии, клюв и когти у
них примерно такие же как у сего высокоуважаемого джентльмена потомка калабрийцев
или сицилийцев который сидит сейчас за покером в качестве банкомета, переодетый в
солдатскую форму, и приторговывает сигаретами из расчета две штучки за наш
четырехдневный заработок или около того, и целующие (крестьяне или контрабандисты)
старый замызганный крестик вытащив его из-под ворота рубахи прежде чем разрядить в
упор свой старинный мушкетон в укрывающегося в зарослях пробкового дуба или в
кустарнике раненого или отставшего от своей части неприятельского солдата в
приступе священной ярости, святого и смертоносного гнева, выкрикивая одновременно с
выстрелом что-нибудь вроде: «Держи, сволочь, ешь!», и он (де Рейшак) внешне ко
всему глухой и слепой (к выстрелам, к птичьему щебету, к заходящему солнцу),
угрюмый, отсутствующий, отдавшийся на волю своего коня, бросив даже поводья, уже
дошедший вернее вошедший в иное состояние, в иную стадию, то ли сознания, то ли
чувствительности — или бесчувственности — и как раз в эту минуту какой-то тип —
солдат без головного убора, без ору-
510
жия, без петлиц и нашивок — выходит ему навстречу (из-за угла дома, из-за живой
изгороди, из придорожной канавы где он притаился) и бросается бежать рядом с ним
вопя: «Возьмите меня с собой, господин капитан, возьмите меня, разрешите мне
поехать с вами!», а он даже не взглянув на него, или нет возможно даже взглянув, но
так как глядят на булыжник, на какой-нибудь случайный предмет, и тут же
отвернувшись, и разве чуть-чуть повысив голос, бросает: «Убирайтесь прочь», а
солдат все продолжает бежать — или вернее трусить рядом с его сапогом, и безусловно
в том никакой необходимости не было, не нужно ему было так торопиться чтобы
двигаться на такой же скорости как и лошадь, но очевидно вот этот бег стихийно
отвечал в его душе желанию убежать вообще, удрать,— и задыхаясь канючит: «Возьмите
меня я отстал от своего полка возьмите меня господин капитан я теперь без полка
остался возьмите меня разрешите мне уехать с вами...», а он-уже теперь не отвечая,
не слыша его, конечно уже и не видя, замурованный в высокомерном молчании где с ним
возможно теперь уже на равных беседуют все его предки бароны, все эти Рейшаки,
которые...»
А Блюм: «Но о чем это ты...»
А Жорж: «Да нет, слушай, ты меня: итак этот субчик замедлил шаг и пристал к нам
или, вернее просто перестал бежать, остановился как побитая собачонка, задрав
голову, приходившуюся на уровне колена де Рейшака, и так и застыл посреди дороги,
ожидая появления колена следующего всадника, чтобы снова завести свое: «Разрешите
мне сесть на лошадь», и Иглезиа державший запасную неоседланную лошадь на случай
обстрела тоже ничего ему не ответил, так же как и Рейшак, вроде бы его ие видел, и
тогда я сказал: «Ты же сам видишь что седла нет, на рыси тебе не удержаться», но
теперь он уже бежал рядом с нами или вернее снова затрусил, но все-таки ухитрился
обогнать меня на этом своем судорожном прискоке, голова его так болталась что
казалось сделай он еще шаг непременно рухнет на землю, и все поглядывал на меня,
без передышки тянул свое монотонное, мрачное, умоляющее: «Разрешите мне сесть на
лошадь разрешите сесть», и я, под конец, не выдержав сказал: «Да взлезай если
хочешь!», и я никак уж не мог вообразить себе что он, казалось еле-еле на ногах
державшийся, окажется способным на такую штуку, я еще договорить не успел как он,
уцепившись за подпругу, с какой-то лихорадочной поспешностью мощным
511
движением поясницы, уже вскочил на круп этой лошади, и как только он уселся на нее,
сразу выпрямился, де Рейшак тут же обернулся, словно у него глазка были на затылке,
хотя казалось он даже того что впереди не видит, и крикнул: «Что это вы там
вытворяете? Я же вам сказал катитесь отсюда! Кто вам разрешил сесть на лошадь и
ехать с нами?», а тот тип снова начал канючить, снова завел все ту же канитель,
снова: «Разрешите мне уйти с вами Я отстал от своего полка они меня схватят
разрешите мне...», а он: «Немедленно долой с лошади и катитесь отсюда!», и этого
типа как ветром сдуло: он еще быстрее чем вскочил на лошадь соскочил на землю и
оглянувшись я увидел его, стоявшего на обочине, жалкого, одинокого, растерянного,
он смотрел нам вслед, а через минуту Иглезиа сказал мне: «Это шпион», а я: «Кто
шпион?», а Иглезиа: «Да этот тип. Неужели ты сам не заметил? Ведь это же фриц», а
я: «Почему фриц? Ты совсем видать рех-пулся. Почему он фриц?», а Иглезиа пожав
плечами ничего мне не ответил как будто разговаривал с идиотом каким-то, и по-
прежнему мерное цоканье лошадиных подков, и прямая спина де Рейшака сидящего как
влитой в седле, лишь чуть покачивающегося в такт лошадиному шагу, и это солнце, и
этот пласт усталости, недосыпа, пота и пыли, словно бы приклеившийся к лицу
наподобие маски, отделял меня ото всего мира, и через минуту снова раздался голос
Иглезиа пробившийся через эту пленку, откуда-то издали, откуда-то со стороны через
эту пыльно-солнечную дымку, через густой воздух: «Это фриц был я же тебе говорю.
Слишком он по-французски здорово чешет. Да разво ты его морду не разглядел? Волосы
тоже не разглядел? Ведь он же рыжий!», а я: «Рыжий?», а Иглезиа: «У черц ты что
видать совсем сдурел? Даже не способен...»
«И вот тогда-то и раздалась пулеметная очередь», сказал оп (стоя перед ней, а она
продолжала рассматривать его с каким-то скучающим любопытством, терпеливо, вежливо,
а временами даже (пет не страх, но как бы тайное вызывающее и настороженное
недоверие, какое неуловимо превращает вдруг равнодушные глаза кошки в два острых
буравчика) нечто ускользающее, пронзительное, грозное вспыхивало в ее взоре и тут
же гасло, и это ее пе-возмутимо-правильное лицо, эта безмятежная, великолепная и
пустая маска, «Как у статуи, подумал он. Но возможно она и есть статуя, и не нужно
ничего просить у нее ведь не просят же ничего другого у мрамора, камня или
512
бронзы: лишь одного — смотреть на нее, трогать, если она только разрешит смотреть и
трогать!», но он даже не пошевелился, думая: «Но ведь плакала же она. Он сам
говорил что плакала...»), и тут ему почудилось будто оп видит их вдвоем, ее и
Иглезиа, среди топота множества йог под несмолкаемый хруст гравия усеянного или
вернее оскверненного невыигравшими билетами, и крохотные обезьяньи ручки Иглезиа
рвущие на клочки теперь уже не имеющие никакой цены маленькие листочки бумаги, оба
стоят выпрямившись во весь рост, застывшие, глядя друг другу в глаза: он со своим
лицом цвета дубленой кожи, обалдевший, испуганный и грустный, в белых своих
рейтузах, в кукольных сапожках а между отворотами заношенного пиджака виден
треугольник розового и блестящего шелкового камзола, и она теперь уже не выдуманная
(как говаривал Блюм — или вернее сфабрикованная в течение долгих месяцев войны,
плена, вынужденного воздержания, начиная с краткого и единственного ее видения в
день скачек, рассказов Сабины или обрывков фраз (в свою очередь воспроизводящих
обрывки действительности), признаний или вернее почти невнятного мычания вырванного
у Иглезиа терпением и хитростью, или начиная просто с нуля: с гравюры вообще
никогда и не существовавшей, с портрета написанного полтораста лет назад...), но
такая какой он мог видеть ее сейчас въяве, по-настоящему, стоявшую перед ним, раз
он мог (раз он собирался) ее тронуть, а сам думал: «Сейчас трону. Пусть она ударит,
выставит прочь из дома, а я все равно трону...», а она продолжала по-прежнему
разглядывать его словно бы смотрела сквозь стекло, словно бы находилась по ту
сторону прозрачной, но достаточно прочной перегородки, через которую так же
невозможно было пройти как через стеклянную хотя обе были одинаково невидимы и за
которой, все время его визита, она держалась как бы в укрытии или вернее вне
пределов досягаемости и только на долю ее губам (губам, а не ей самой,— то есть
тому острому или вернее заостренному, хрупкому и грозному — возможно даже ей самой
неведомому — что двигалось с немыслимой быстротой, вспышками зажигало равнодушный и
безмятежный взгляд) достался труд возвести еще один как бы предохранительный барьер
потоком равнодушных слов, равнодушных вопросов (например: «Значит вы были... я имею
в виду: служили в одном и том же эскадроне который...», не договаривая фраз, не
упоминая (то ли из-за
17 М. Бютор и др.
513
стеснения, из стыдливости — или просто от лености) имени (или двух имен) которое он
сам не мог решиться написать в письме, содержавшем только упоминание номера полка и
эскадрона, как будто и его тоже сковывал этот стыд, эта невозможность), и вдруг он
услыхал ее смех, ее слова: «Но мы с вами кажется в каком-то родстве, вернее в
свойстве, разве нет?..», произнесенные шесть лет спустя и почти в тех же самых
выражениях что произнес тогда он (де Рейшак) ранним холодным зимним утром а за его
спиной мелькали неясные рыжеватые пятки это вели с водопоя лошадей чтобы они могли
напиться пришлось разбить в колодах корочку льда, а сейчас было лето,— не первое а
второе после того как все кончилось, другими словами затянулось, зарубцевалось, или
вернее (не зарубцевалось, ибо прошлое не оставило после себя ровно никаких внешних
следов) приладилось, склеилось, и до того ладно что нельзя было обнаружить даже
крохотной трещинки, так водяная гладь смыкается над брошенным в нее камнем, всего
на миг разбился, раздробился отражавшийся в ней пейзаж, рассыпался на множество
бессвязных осколков, на множество разрозненных кусочков неба и деревьев (то есть
уже не неба, не деревьев, а перебаламученной лужи синевы, зелени и черноты), и вот
уже восстанавливается вновь, синева, зелень и чернота перегруппировываются,
коагулируются если так можно выразиться, упорядочиваются, еще чуть колышутся словно
опасная змея, потом вастывают на месте, и тогда уже ничто больше не нарушает эту
лакированную, вероломную, безмятежную и таинственную поверхность где
упорядочивается мирное изобилие веток, небес, мирных и медлительных облаков, ничто
уже теперь не тревожит эту полированную и непроницаемую поверхность, он (Жорж)
думал: «Значит можно наверняка вновь в это поверить, выстраивать в определенном
порядке, располагать как положено одну за другой ничего не значащие, звучные,
приличествующие случаю и бесконечно успокаивающие фразы, такие же гладкие, такие же
блестящие, такие же ледяные и такие же нестойкие как зеркальная водная гладь
прикрывающая, стыдливо прячущая...»
Но Жоржу незачем было подходить теперь к беседочке, он наблюдал за ним издали,
следил за ним даже не глядя в его сторону (ибо в этом не было нужды, для того чтобы
видеть ему не было нужды в том чтобы на его сетчатке запечатлелся этот образ все
это массивное тело все больше
514
и больше заливаемое жирами, чудовищное, все больше и больше придавленное
собственным своим весом, с чертами лица все больше и больше расплывающимися под
воздействием чего-то а ие просто жира и это что-то мало-помалу завладевало им,
заполняло его, замуровывало в некоем немотствующем одиночестве, в горделивой и
тяжеловесной печали), как следил за ним, приглядывался к нему сразу после своего
возвращения, и все тогда происходило так: Жорж объявил, что намерен заняться
землей, и получил поддержку (хотя он притворился что не слышит, хотя делал вид что
беседует с ними обоими на равных, однако подчеркнуто повернувшись к ней одной и
подчеркнуто отвернувшись от отца, и однако обращаясь лишь к нему, и подчеркнуто не
принимая в расчет ее самое или то что она могла сказать) итак, получил шумную,
непристойную, утробную поддержку Сабины; и ничего больше, то есть ни одного слова,
ни одного замечания, ни сожаления, по-прежнему все та же неподвижная,
немотствующая, грузная гора жиров, тяжеловесная и трогательная масса бездействующих
и изношенных органов и внутри этой массы или вернее непосредственно под ней
сохранилось что-то что было как бы частью самого Жоржа, до такой степени что
несмотря на полную неподвижность, несмотря на полное отсутствие внешних реакций
Жорж отлично и куда яснее понимал не оглушительную болтовню Сабины а еле уловимый
шорох, как бы похрустывание какого-то тайного и хрупкого готового вот-вот
надломиться органа, и больше ничего, ровно ничего, кроме этой брони молчания, когда
Жорж садился вечерами за стол в грязном своем комбинезоне, не то чтобы с грязными а
просто пеотмывающимися руками с ладонями так сказать инкрустированными землей и
автолом после медлительно длинных и пустых дней работы от зари до зари на тракторе,
медленно двигавшемся по длинной борозде, и при каждом повороте туда или обратно он
смотрел на свою тень сначала непомерно вытянутую, медленно менявшую свои очертания
и размеры в то время как она медленно обегала вокруг него на манер часовых стрелок,
уменьшалась, уплотнялась, распластывалась, потом снова вытягивалась, росла, и
становилась уродливоогромной, пр мере того как солнце клонилось к закату, скользя
по равнодушной ко всему забывчивой земле, вероломный мир снова становился
безобидным, знакомым, обманчивым, а в голове иной раз проходили смутные видения,
обглоданное лицо Блюма, Иглезиа, и то как они пекли
17*
515
тогда лепешки, и размытый силуэт всадника, вскинувшего руку, потрясавшего саблей,
медленно сползающего набок, исчезающего, и она, такая какой он, или вернее они (но
теперь уже не с кем было поболтать о ней, и Сабина говорила что ей говорили будто
она повела себя так что теперь они — другими словами несомненно те дамы и господа
которые принадлежали или которых Сабина считала достойными принадлежать к той среде
или к той касте к какой она сама себя причисляла — теперь ее в порядочном обществе
не принимают), значит такую какой они (другими словами он сам, Блюм — или вернее их
воображение, или еще вернее их тела, то есть их кожа, их органы, их молодая плоть
силком отлученные от женщин) создали ее из плоти и крови: вот она стоит вся залитая
послеполуденным солнцем спиной к свету, в том самом платьице красно-леденцового
цвета (но возможно он тоже выдумал насчет цвета, то есть выдумал что оно ядовито-
красное, возможно просто потому что она была чем-то таким о чем думалось не умом,
а' губами, всем ртом, возможно причиной тому было ее имя «Коринна», похожее на
«коралл»?..) четко выделяясь на фоне ярко-зеленой травы по которой скачут лошади; а
порой ему доводилось видеть ее в образе трефовой или червонной дамы как их
изображают на картах которые он теперь сам медленно сдавал одну за другой стараясь
придать себе равнодушнейший вид (а сам думал: «Во всяком случае я хоть чему-то на
войне научился. Значит не зря я там побывал. По крайней мере хоть научился в покер
играть...» Ибо теперь он играл в покер вечерами, в задней комнате бара,
находящегося неподалеку от скотопригонной ярмарки (приходил он туда в том же виде,
в каком обедал за отцовским столом, то есть в комбинезоне и с неотмываемыми руками
куда въелись и земля и автол), в компании трех или четырех типов с одинаково ничего
не выражающими лицами, с одинаково сдержанными, скупыми жестами, играли они по
крупной, и осушали (с теми же самыми жестами с какими играли в карты, все в той же
манере, молчаливо, быстро и внешне вроде без всякого удовольствия) бутылку за
бутылкой самого дорогого шампанского а тем временем две или три девочки с которыми
каждый спал в свой черед ждали сидя на потертом диванчике и зевая показывали друг
другу свои колечки); итак, простой кусочек картона на котором изображена одна из
этих сдвоенных загадочных дам в пурпуровом одеянии, симметрично расположенных,
словно бы отраженных
516
зеркалом, одетых наполовину в зеленые, наполовину в красные платья с тяжелыми
ритуальными украшениями, с ритуальными и символическими атрибутами (роза, скипетр,
горностай): нечто столь же лишенное плотности, реальности и жизни как лицо
изображенное штрихами на белом фоне плотной бумаги, такие же непроницаемые,
невыразительные и роковые, как лик самой удачи; потом — от одного игрока — он узнал
что она снова вышла замуж и живет в Тулузе, и вот теперь единственное что отделяло
его от нее было то самое стекло через которое она казалось сейчас смотрела на него,
с ним говорила, произносила какие-то слова, слова которые он (да очевидно и она
сама) не слышал, совершенно так как если бы он стоял перед стеклянной стенкой
аквариума, и глядя на нее, он по-прежнему думал: «Сейчас тропу.. Пусть она меня
ударит, пусть кликнет кого-нибудь, пусть выставит за дверь, все равно трону...», а
она — то есть ее тело — еле заметно шевелилось, то есть дышало, то есть то
расширялось то сжималось так словно воздух проникал внутрь не через рот, не через
легкие, а через всю ее кожу, словно бы она была сделана из какого-то материала
наподобие губки, только с невидимыми порами, сжимающимися и расширяющимися,
наподобие тех цветов, тех морских созданий стоящих где-то на полпути между
растительным и животным миром, ну, скажем, как дышит звездчатый коралл, чуть
подрагивающий в прозрачности вод, а он по-прежнему не слушал что она говорит, даже
не старался делать вид что слушает, смотрел на нее, а она снова попыталась
рассмеяться, наблюдая за ним, прикрывая свои опасения смехом, наблюдала со смесью
любопытства, недоверия, а возможно и страха, так словно он был вроде бы призраком,
привидением, он мог видеть себя в толще зеленоватого зеркала висящего за ее спиной,
видел свое коричневое от загара лицо, всего себя похожего на отощавшего,
изголодавшегося пса, и думал: «Ух! Оказывается вот у меня какой видик! Вот-вот
укушу...», а она по-прежнему болтавшая разные пустяки: Какой вы смуглый Вы отдыхали
на море? а он: Чего? а она: Вы ужасно загорели, а он: Какое море? Поче... Ах да!
Нет я знаете просто работаю на земле Целый день на тракто..., потом он вдруг увидел
свою собственную Руку, попавшую в поле его зрения, другими словами как если бы он
погрузил ее в воду, а сам смотрел как она движется, отдаляется от него, смотрел
тупо, с удивлением (словно рука отделилась от тела, оторвалась от плеча, так
517
бывает когда солнечный луч зримо проходит сквозь толщу воды и погруженный в нее
предмет чуть смещается в сторону): худая, загорелая рука, с длинными тонкими
пальцами, которую даже восьмилетнее орудование вилами, лопатами, кирками, даже
земля и автол не сумели превратить в руку крестьянина и которая так и осталась до
отчаяния гибкой, та самая рука о которой Сабина влюбленно и гордо твердила что у
него рука пианиста, что он обязан посвятить себя музыке, что он конечно загубил,
растратил на пустяки свой талант, свой единственный шанс (но теперь он даже не
давал себе труда пожимать в ответ плечами), прогнав образ и голос Сабины, глядя по-
прежнему как завороженный на собственную свою руку ставшую вдруг так сказать ему
чужой, то есть вошедшую составной частью на равных правах с деревьями, небесами,
синевой, зеленью, в тот чуждый, блистательный, непредставимый мир где находилась
она (Коринна), нереальная, тоже непредставимая вопреки тяжко-душному своему запаху,
голосу, дышавшая теперь все быстрее и быстрее, так что груди ее вздымались и
опадали как птичье горлышко, чуть трепетали, воздух (или кровь), приливали резкими
толчками и одновременно говорила она все поспешнее, подняв голос почти на полтона:
«Так вот я была очень рада вас повидать Но сейчас мне пора уходить По-моему уже
поздно Мне надо...», однако не тронулась с места, а его рука бесконечно далекая
сейчас от него (так, в кинотеатре, зрители сидящие на балконе, рядом с проекционной
будкой, машут руками, шевелят пальцами, всей широко растопыренной пятерней норовя
попасть в световой луч, отбрасывая на экран огромные движущиеся тени словно бы для
того чтобы завладеть, ухватить недоступную мерцающую мечту), его рука теперь уже
окончательно отделилась от тела, до того отделилась что когда он тронул ее за плечо
(за обнаженное предплечье чуть ниже самого плеча) он испытал странное чувство будто
не по-настоящему тронул ее, а словно бы зажал в ладони птичку: такое же чувство
неожиданности, удивления вызванного различьем между внешним объемом и подлинной
тяжестью, немыслимая легкость, немыслимая нежность, трагическая хрупкость перышек,
пуха, и она сказала: Да что же это такое... что это вы..., и казалось была в равной
мере не способна закончить фразу как и шелохнуться, только дышала учащеннее, чуть
ли не задыхаясь, и все смотрела на него с тем же самым выраже-
518
ним страха, беспомощности, а между его ладонью и шелковистой кожей вроде бы
находилось еще что-то, не толще листка папиросной бумаги, но нечто промежуточное то
есть чувство осязания чуточку опаздывает, как бывает когда касаешься обмороженными
пальцами какого-нибудь предмета и ощущаешь его лишь через пленку что ли, через
роговую оболочку бесчувственности, и оба они (Коринна и он сам) застыли на месте,
глядя друг на друга, потом его рука еще сильнее сжала ее предплечье, стиснула его,
и тут только он смог закрыть глаза, лишь вдыхая ее аромат, аромат цветка, слыша ее
дыхание, слыша как воздух быстро-быстро входит и выходит из ее губ, потом он
услышал не то глубокий вздох, не то стон, не то слова: Вы мне больно делаете,
потом: Оставьте же меня вы мне Да оставьте же меня..., и тогда только он наконец
сообразил что теперь сжимает ее плечо изо всех сил, но руки не отнял, а лишь
немного расслабил мускулы, заметив в то же время что он дрожит всем телом, что его
бьет мелкая, беспрерывная, неподвластная его воле дрожь, а она все твердила: Прошу
вас Может вернуться муж Прошу вас Оставьте меня Прекратите, но по-прежнему не
двигалась с места, чуть задыхаясь, твердя монотонным, каким-то механическим,
испуганным голосом: Прошу вас Слышите Прошу вас Прошу..., а Жорж все продолжал
держать свою руку там где она была, и больше ничего, и сам тоже не двигался с
места, как будто теперь не только между ними но и вокруг них стоял, сжимал их
воздух приобретший обманчивую плотность стекла, невидимый и ломкий воздух
трагической хрупкости, и тогда он (Жорж) замер здесь не шевелясь не смея двинуться
с места, стараясь удержать дыхание, утишить бурный ток крови в жилах, в зеленых и
прозрачных майских сумерках словно бы стеклянных, а к горлу его подступала тошнота
которую он силился сдержать, затнать внутрь, думая между двумя оглушительными
напорами воздуха: Это потому что я слишком долго бежал, а потом: А может выпил
лишнего? думая что и ему бы тоже стало легче если бы его вырвало как Иглезиа сейчас
на лугу, думая: Но чем же меня будет рвать? стараясь вспомнить когда и что ел он в
последний раз ах да этот огрызок колбасы который он сжевал нынче утром в лесу (но
было ли это утром или нет?), желудок был до краев полон можжевеловой водкой которую
он ощущал сейчас внутри себя как некое неприемлемое, чужеродное тело, как плотный
шар или скорее наполовину
519
плотный и тяжелый, пожалуй что-то вроде ртути, ему бы следовало сунуть пальцы в рот
чтобы его стошнило, хоть полегче бы стало, когда они были в том доме снова
натягивая на себя военную форму, и потом когда он стоял (снова отяжелевший,
одеревенелый, изможденный, скованный своей одеревенелой и тяжелой кожано-суконной
амуницией) уже один в комнате, по-прежнему размышляющий будет его рвать или нет и
куда мог деваться Иглезиа, он смотрел как мимо окна на полной скорости неслись по
шоссе грузовички отступавших инженерных войск, маленькие грузовички не больше
игрушечных, следуя беспрерывной чередой друг за другом в поспешном своем бегстве,
потом Иглезиа снова появился хотя неизвестно когда и как (так же как неизвестно как
и когда он исчез), Жорж вздрогнув, обернулся, уставился на него все тем же усталым,
недоверчивым взглядом, а Иглезиа: «Должны же эти клячи все-таки пожрать», а он
подумал: «Вот черт. Как это он ухитрился об этом подумать. А ведь сам мертвецки
пьян. Как тот другой нынче утром когда их надо было напоить. Как...», потом он ни о
чем уже не думал, ничего не додумал, перестал им интересоваться и все смотрел на то
на что смотрели сейчас два рачьих желтых.глаза, ошалелых, тоже недоверчивых, оба
постояли с минуту неподвижно в то время как там, по ту сторону незаметно
горбившегося луга, продолжали нестись в хвост ДРУГ другу маленькие игрушечные
автомобильчики: потом оба скатились с лестницы, бегом пересекли пустынный двор
фермы и бросились по дороге не в ту сторону откуда они прибыли утром а в
противоположную,— и все что он сейчас мог видеть (лежал он на животе вытянувшись во
весь рост в придорожной канаве густо заросшей травой, задыхаясь, стараясь впрочем
без особого успеха побороть страшный шум в груди словно там бил кузнечный молот)
была узкая идущая горизонтально полоска к которой, для него лично, сводился ныне
весь мир, ограниченный сверху козырьком каски, а снизу переплетением травинок
росших во рву прямо перед его глазами, нечто расплывчатое, потом поотчетливее,
потом снова уже не отдельные травинки; зеленое пятно в зеленых сумерках, сначала
вроде сужавшееся но потом кончавшееся в том самом месте где мощенная щебнем дорога
выходила на шоссе, потом каменные плиты шоссе и пара черных, до блеска начищенных,
сапог часового набегавших на лодыжки блестящими складками на манер мехов гармошки,
линия сапог обри-
520
совывающая основание перевернутой буквы V в просвете которой то появлялась то
исчезала, по ту сторону дороги, между колесами грузовиков подпрыгивавших на плитах,
дохлая лошадь, она все еще лежала на том самом месте что и утром но, казалось,
стала более плоской, словно истаяла к концу дня совсем как те снежные бабы которые
с первых дней оттепели кажется незаметно уходят в землю, словно их что-то
подтачивает снизу, медленно оседают, валятся на бок, так что в конце концов
остаются только отдельные самые крупные куски и то что служило каркасом — ручка
метлы, палки; а у этой живот, ставший теперь огромным, раздутым, растянутым, и
кости, словно бы нутро, сердцевина тела всосала себе на потребу все соки бесконечно
длинного остова, кости с круглыми головками походили на косо поставленные стойки
кое-как поддерживавшие словно навес корку растрескавшейся грязи служившую ей
оболочкой: но мух теперь не было ни одной, словно и они тоже бросили ее, словно
больше нечего было им из нее извлечь, словно бы уже — но это же невозможно, подумал
Жорж, не за один же день — это было не прокопченное и вонючее мясо но оно
превратилось во что-то иное в результате химических процессов, уже вошло составной
частью в самую глубь земли скрывающую в себе под шевелюрой травы и листвы кости
усопших Росинантов и усопших Буцефалов (и усопших всадников, усопших кучеров
фиакров и усопших Александров Македонских) уже перешедших в состояние хрупкой и
ломкой извести или... (но он ошибся: вдруг одна муха вылетела -г на этот раз из
глубины ноздри — и хотя он находился на расстоянии пятнадцати а то и больше метров
он ее увидел (разумеется благодаря этой тошнотворной зоркости зрения до
неестественности обостренного алкоголем) так же отчетливо (мохнатая, черно-синяя,
вся блестящая, и хотя в ушах у него стоял беспрерывный грохот от несущихся на
полной скорости грузовиков, он все же услышал ее: ее победное, кровожаждущее,
злобное жужжание) как и головки гвоздей на всех четырех лошадиных подковах попавших
в его поле зрения на поверхности шоссе и сейчас находившихся, по отношению к Жоржу,
на переднем плане) ...итак, перешедших в состояние хрупчайшей извести, некоей
окаменелости на пути к чему и сам он несомненно находился в силу своей
неподвижности, вынужденный присутствовать при этой медленной трансмутации материи в
которую вот-вот готов был превратиться
521
начиная со скрюченной в неудобном положении руки, ощущая как опа мало-помалу
отмирает, теряет чувствительность, как ее уже пожирают не черви а так называемые
мурашки медленно торжествующие над живой плотью и возможно эти мурашки не что иное
как подспудная возня атомов меняющихся местами для того чтобы перестроиться в некую
совершенно отличную от живого организма структуру, в нечто минеральное или
кристаллическое п кристальных сумерках от которых его по-прежнему отделяло что-то
тончайшее как листок папиросной бумаги, а може г это вовсе не было папиросной
бумагой но прикосновением самих сумерек к его коже ибо такова, думалось ему, и
пленительная нежность женского тела даже с трудом верится будто ты впрямь касаешься
его, тела подобного птичьему пуху, траве, листьям, прозрачности воздуха, столь же
хрупкого как хрусталь, и он даже мог различить его слабое дыхание, если только это
не было его собственным дыханием, если только он уже не был сейчас столь же мертв
как эта лошадь и уже наполовину поглощен, взят землей, и его собственное тело
перемешалось с влажной глиной, кости перемешаны с камнями, ибо возможно все это
лишь вопрос неподвижности и тогда самым обыкновенным образом становишься горсткой
мела, песка и грязи, и он думал что именно это он должен был сказать отцу, он даже
видел его сейчас, таким каков несомненно был он в этот самый предвечерний час, в
полумраке темноватой беседки откуда сквозь квадратики цветных стекол мир предстает
единым, как бы сотканным из одной и той же субстанции, зеленой, лиловатой или
голубой, наконец-то согласившихся слиться воедино, если только там не выдался
слишком теплый для мая вечер и невозможно было оставаться в беседке, в таком случае
он и она должно быть еще сидели под огромным каштаном куда им подавали вечерний
чай, а каштан был сейчас весь в цвету, сотни его белых соцветий похожих на
канделябры нежно и фосфорически мерцали в сумерках, и падавшая теперь на них густая
тень отдавала синевой, их как бы покрывал непрозрачный и сплошной слой краски
словно на картине, его самого и его вечные листки бумаги разложенные перед ним на
столе рядом с блюдом которое он сдвинул в сторону, а на листки поставил блюдце
чтобы их не унесло дыханием вечера потому что конечно и сам он уже не мог разобрать
свой собственный мелкий почерк которым они сплошь были исписаны, и несомненно ему
приходилось до-
522
вольствоваться или на худой конец пытаться довольствоваться сознанием что эти
буковки, эти значочки здесь при нем, так среди своего безоглядного мрака слепой
знает — ощущает — существование огораживающих его стен, стула, кровати которые в
случае надобности можно ощупать дабы убедиться в их реальности,— тогда как день,
или свет (думал Жорж, по-прежнему лежа в придорожном рву, весь сплошное внимание,
весь напряженный, теперь уже полностью потерявший чувствительность и наполовину
парализованный судорогами, скованный, и столь же недвижный как вот эта дохлая
кляча, уткнув лицо в бесчисленные травинки, в бархатистую землю, распластавшись
всем телом он словно бы стремился полностью исчезнуть в пасти рва, растаять,
проскользнуть, протолкнуться целиком в эту узкую расселину дабы вновь соединиться с
первородной мирной материей (недрами), думая о тех вечерах когда они обедали в саду
куда, как раз в этот час, Жюльен приносил керосиновую лампу и, пока убирали со
стола, отец снова брался за работу, как бы заключенный — он и его листки с
загнутыми, истершимися уголками которые стали в некотором роде частью его самого,
неким дополнительным органом столь же неотъемлемым от него как скажем собственный
его мозг, или собственное сердце, или собственная его грузная старческая плоть —
заключенный в некий защитный кокон, или в яичный белок, словом в некую маслянистую
желтоватую и замкнутую оболочку которая отграничивала от темнеющего парка и
комариного писка свет керосиновой лампы), так вот, свет все равно не мог бы
принести иной уверенности кроме разочаровывающего появления этих каракулей не
имеющих иного реального существования кроме того какое приписывал им разум и он сам
тоже лишенный реального существования чтобы суметь растолковать вещи им выдуманные
и возможно тоже лишенные подлинного существования, и тогда уж если разбираться
строго большего стоило ее птичье щебетанье, бренчание ее ожерелья, ее беспрерывная
и бессмысленная болтовня имевшие хотя то преимущество что все это существовало
реально, если только это не было просто ввуками и жестами, при том допущении что
звук и жест не составляют еще пустопорожних и иллюзорных форм противоположных
реальному существованию: вот что следовало бы ему знать, вот что следовало бы ему
спросить у дохлой лошади, и возможно именно этот-то вопрос и мог бы решить Жорж не
будь он так пьян или
523
так измучен, и тогда возможно вопрос решился бы с минуты на минуту сам собой и
решился бы наиболее простым образом выстрелом, другими словами тем что присущая
материи инерция была бы на мгновение нарушена (сгорание, расширение, пуля с силой
вытолкнутая из дула), превратив его за милую душу в простую кучку лошадиного праха
лишь по очертанию разнившуюся от этой дохлой клячи, или достаточно было чтобы
часовому шагавшему взад и вперед по дороге параллельно придорожному рву вдруг
взбрело в голову ходить перпендикулярно рву, то есть делать десяток шагов поперек,
и естественно он (Жорж) мог бы попытаться выстрелить первым что, допустим, ему
удалось бы сделать достаточно быстро а затем столь же быстро перескочить через
ограду, и это дало бы ему в последний раз на краткий миг насладиться этой ничтожной
иллюзорной жизнью которая есть движение (промежуток времени достаточный для того
чтобы в свою очередь пробежать десять — пятнадцать метров) прежде чем он узнал то
чего не знали еще мухи и что они в свою очередь тоже когда-нибудь узнают, то что
узнает в конечном счете весь мир, но никогда ни лошадь, ни человек ни муха еще не
возвращались оттуда чтобы рассказать тем кто еще не знает, и тогда он и вправду
умрет, а если часовой окажется шустрее у пего не хватит времени даже на то чтобы
приподняться, и таким образом он так и останется здесь на этом самом месте, и что в
сущности изменится разве только будет он лежать не в этом положении раз он
попытается вскинуть ружье и прицелиться, и на этом все кончится, ибо в конце концов
будет все тот же мирный и теплый майский вечер полный зеленого аромата травы и
легкой голубоватой сырости уже спускающейся на фруктовые сады и палисадники: будет
только один или два выстрела какие можно услышать в сентябре после открытия охоты
вечером, когда окончивший труды крестьянин или подросток прихватив на всякий случай
ружье решит сделать небольшой крюк в ту сторону где накануне он поднял зайца и на
сей раз заяц окажется на том же месте и в него пустят пулю, и будет всего лишь та
разница что Жоржа никто не понесет домой держа за уши но он навечно останется
здесь, на том же месте, но уже полностью и бесповоротно недвижимый и конечно с
таким же удивленно-глупым выражением как у Вака, как у всех мертвецов, с нелепо
открытым ртом, с открытыми глазами смотрящими и не видящими ту узкую полоску
524
Вселенной которая простирается перед ним, эту самую стену из темно-красного кирпича
(кирпичи кургузые, коротенькие и толстые, зернистой структуры, на тех что посветлее
цвета ржавчины видна россыпь темпых вкраплений, те что потемнее цвета высохшей
крови коричневато-пурпуровой переходящей местами в темный розоволиловый, почти в
голубой оттенок, так словно бы материя из которой они сделаны, содержала железистые
шлаки, окалину, словно бы огонь на котором их обжигали так сказать сплавил воедино
нечто кровавое, минеральное и яростное, ну как скажем говядина на витрине мясной
лавки (те же самые оттенки начиная с оранжевого и кончая фиолетовым), самая
сердцевина, твердая и багряная плоть этой земли к чреву которой он так сказать
прилип животом), стена где выделяются более светлые швы сероватого известкового
раствора там можно было разглядеть вкрапленные песчинки, нежно-зеленая густая трава
неровными кустиками пробивающаяся у самого низа стены (как бы для того чтобы скрыть
стык кладки, грань, ребро угла образуемого стеной и землей), а чуть дальше, впереди
начиналось царство мощных стеблей но козырек каски мешал ему видеть чем эти стебли
кончались, цветы ли там (или бутоны: может это были штокрозы или молодые
подсолнечники?): толщиной они были примерно с палец, все исчерчены параллельными
каннелюрами или вернее продолговатыми желобками более светлого зеленого оттенка,
даже почти белого, и покрыты легким пушком, но пушок к ним не прилегал, а торчал
перпендикулярно к стеблю, нижние листья уже успев увянуть и высохнуть, вяло свисали
внизу, как обглоданный гусеницами салат, с пожелтевшими краями, но те что повыше
были еще совсем крепкие, свежие, со светлым рисунком прожилок разветвленных как
симметричная сеть мелких вен, рек, притоков, сама фактура листьев мягкая,
бархатистая, нечто (особенно на фоне шероховатых минерально-кровавых кирпичей)
невероятно нежное, нематериальное, почти недвижные травинки только изредка слегка
подрагивающие, мощные стебли каких-то высоких растений, те вообще ни разу не
шелохнулись, широкие листья время от времени вяло трепетали в спокойном воздухе, а
с шоссе продолжал налезать этот всесветный гам и грохот: нет не пушечные выстрелы
(пушки били сейчас где-то далеко, и лишь изредка, в мирном и чистом предвечерье,
вызывая последние содрогания воздуха неубедительно, с запозданием, чисто
525
условный момент любого боя — подобно тем жестам, той притворной лихорадочности
труда, той показной деятельности в ритме которой продолжают лениво трудиться
служащие или рабочие ожидая часа закрытия конторы или мастерской), но сама война
как таковая словно сорвавшись с цепи гремела и грохотала вроде того как — только в
многократном умножении — грохочут вокзалы, оглушая стуком сталкивающихся буферов,
потревоженного металла, чего-то железного, непривычного, безнадежно унылого; а
дальше, чуть левее, вырвавшись как раз из-под стыка между землей и ребром кладки,
торчал кустик бурьяна: пучок, или вернее сказать венчик листочков расположенных
короной (подобно струе воды падающей с высоты) с разномастными зубчиками, неровными
и стоящими торчком (как скажем у старинного оружия или остроги), темно-зеленые,
шероховатые, потом, чуть подальше, еще один стебель — этот слегка наклонившийся
вправо — такой же высокий как соседний, потом, прикрепленная к стене железным
штырем (разумеется там был и другой повыше, но его он тоже не мог видеть), стойка
или вернее сказать деревянное стропило на котором была подвешена дверь курятника:
штырь, вделанный в кирпичную стену, окончательно заржавел, цемент вокруг крепкой
металлической пластинки застыл плотным ободком похожим на венчик взбитых сливок, на
нем еще можно было разглядеть следы мастерка которым ровняли раствор, четкий
рисунок отпечатков заусенцев (еле заметное узловатое почкование плотно убитого
состава), это стропило — в сущности косяк двери, как впрочем и сама рама —
выцветшее от дождей, сероватое, и, если так йожно выразиться слоистое, на манер
сигарного пепла, а рама наполовину развалилась, один из двух деревянных шипов
державших нижний угол почти совсем вылез из своего гнезда, все разошлось,
расшаталось, нижняя перекладина таким образом составляла с вертикальной стойкой
угол только не прямой а скорее уж тупой так что когда открывали дверь перекладина
очевидно скребла по земле, жесткие и густые пучки травы росшие вокруг стойки
прибитой к стене становились все ниже и ниже пока на проторенном куске земли не
остались лишь, коротенькие и полегшие, стебельки, потом просто гладкая земля вся в
концентрических холмиках соответствовавших выступам нижней перекладины которая
поворачиваясь вместе с дверью бороздила землю вокруг стойки,
526
решетка из оцинкованной проволоки была не в лучшем состоянии, хотя проволоку по
всей видимости перетягивали много позже (йо всяком случае много позже чем строили
сам курятник и навешивали дверь) так как проволока еще не успела заржаветь (а вот
маленькие гвоздики с головками в форме лошадиных подков прикреплявшие ее к дверной
раме, те успели), зато прогнулась (решетка), вмялась, сгорбатилась и снизу
(возможно получилось это потому что дверь приходилось закрывать ударом ноги)
провисла мешком, восьмиугольные ячейки вытянулись, или скорее неравномерно
растянулись, у второй деревянной стойки в которую упиралась створка снова выросла
трава и густые ее пучки снова шли вдоль всей проволочной сетки, но тут была граница
поля зрения Жоржа, то есть граница не совсем четкая: так как в поле нашего зрения
по правую и по левую сторону лежит некая расплывчатая полоса и в ее пределах мы не
так видим как догадываемся о существовании предметов в форме пятен, неясных
контуров, но он (Жорж) был слишком утомлен или слишком пьян чтобы хотя бы повернуть
голову: поэтому кур за проволочной сеткой он не разглядел, или возможно они
спозаранку взгромоздились на насест, ведь говорят ложиться спать с курами, и когда
он услышал шепот Иглезиа то поначалу не понял и переспросил: Чего? На сей раз
Иглезиа толкнул его в бок и сказал: ...куры. Бьюсь об заклад они за курями придут.
Вроде бы уже достаточно стемнело, а?.. Тогда они начали пятиться задом, по-прежнему
напряженно вытянув шеи, поле их зрения расширялось по мере того как они отходили
все дальше, дом теперь был виден почти весь целиком, темно-красный, приземистый, а
слева от него курятник, а над тем местом где они лежали всего за минуту до того
окно на окне голубой эмалиро* ванный кувшин для молока, отчетливо видный в
сумерках, стоял он на подоконнике, но окно, хотя и открытое, было пустое, мертвое,
черное, и два других, на втором этаже, тоже пустые и черные, тоже безжизненные, они
все еще пятились задом во рву, потом когда добрались до поворота, выпрямившись во
весь рост, бросились вперед, перевалились через ограду и рухнули по ту ее сторону,
лежали там не двигаясь, съежившись, прислушиваясь к двум своим неровным дыханиям, и
неспособные в ту минуту услышать ничего другого, потом — хотя ничего не произошло —
согнувшись они вдвоем пересекли садик, пе-
527
релезли через вторую ограду, а потом (это оказался фруктовый сад) снова Жорж
впереди Иглезиа сзади присели на корточки, вплотную к живой изгороди, и снова
только их дыхание, их бешено бьющаяся в жилах кровь, но они все еще боялись
пошевелиться, медленно и постепенно сгущались сумерки, и снова за его спиной
раздался шепот Иглезиа, хриплый, злобный, с ноткой ребяческого негодования (и не
было нужды оборачиваться, чтобы видеть, что в его огромных рыбьих глазах навыкате,
печальных и обиженных застыло то же самое изумленное выражение): «Инженерные войска
на машинах. Надо же...», Жорж ничего не ответил, даже не оглянулся в его сторону,
хотя снова послышался негодующий жалобный и неодобрительный шепот: «Вот уж дерьмо.
Еще немного и попались бы им в руки. Куда это ты смотрел?», Жорж по-прежнему ничего
не отвечая, пополз назад вдоль живой изгороди ни на миг ве упуская из глаз угол
кирпичного дома, темное пятно среди окутанных сумерками ветвей яблонь: но сейчас
грузовиков на дороге не было и единственно что он мог отсюда разглядеть это светлое
пятно розовой тряпки нацепленной на ограду неподалеку от лошади, но уже не видел ни
лошади, ни часового, только в полумраке слабо мерцало розовое пятно, потом и тряпка
пропала так как они перелезли, по-прежнему пятясь, еще через одну изгородь, по-
прежнему повернув голову в сторону шоссе, прижавшись к изгороди задом, шаря за
спиной ладонью, потом, подняв ногу, оседлали изгородь, пригнувшись к ней грудью, и
приземлились с той стороны ни на минуту не теряя из вида угла дома, их головы и их
тела были если можно так выразиться поглощены разными проблемами, причем каждое
работало на себя или, если угодно, каждое брало на себя свою особую задачу, тела их
действовали непроизвольно и как бы подчинялись собственной своей власти и контролю
за чередой движений на которые мозг казалось бы не обращал никакого внимания,
теперь уже окончательно стемнело, вдруг из курятника донеслась разноголосица
испуганного кудахтанья среди громкого концерта хлопающих крыльев и скомканных арий,
смехотворный и раздирающий душу протест на мгновение заполнивший вечерний мрак,
нестройный, ужасающий и яростный, словно бы пародийный довесок к битве: все это с
чертыханием, руки, ладони неуклюже шарящие в воздухе среди неразличимых в темноте
рыжих и нахохлившихся до
528
состояния шара птиц неуклюже взлетавших с раздирающим кудахтаньем с насеста,
сталкивающихся в воздухе, надрывно кричащих, пока наконец и этот неравный бой тоже
мало-помалу стих, кончился в последнем испуганном, полузадушенном, жалостном
клохтании, потом больше ничего, только в опустевшем теперь курятнике видимо
медленно и безмолвно падал дождь разлетевшихся во все стороны перьев которые чуть
покачиваясь ложились на землю, и тут раздался голос Иглезиа: «Да дело дерьмо», и
через минуту еще: «Черт побери, да перед нашим носом целая дивизия прошла, вот уж
никогда бы не поверил что их столько! Никогда бы не поверил что они могут на такой
скорости продвигаться. Если они воюют сидя на скамейках в грузовиках, какого хрена
нам с нашими клячами соваться. Черт побери! Чего уж тут из себя строить...»
В миг сладострастья два живых существа заключают в объятия некое мертвое тело. И в
этом случае «труп» не что иное, как время, убитое на время и преосуществ-ленное в
осязание.
Малькольм де Шазаль
Он еще что-то говорил и брюзжал, но я обронил его зажигалку: мы теперь продвигались
ощупью в полном мраке, спотыкаясь на ступеньках деревянной лестницы, старик конечно
не думал возвращаться а стало быть никакой утки и не маячило, впрочем это можно
было предвидеть потому что он наверняка не очухался от своей можжевеловой, в
спальне еще держался слабый свет как то бывает уже после наступления темноты можно
было разглядеть тускло поблескивающую спинку деревянной кровати я зацепился за стул
и уронил его звук его падения в пустом доме прозвучал как пушечный выстрел на
минуту мы замерли прислушиваясь как будто нас можно было услышать с шоссе потом я
снова ощупью нашарил в темноте стул и поднял его положил карабин сел и тогда увидел
что он как был улегся на постель и сказал ему Ну и скотина хоть бы шпоры-то снял,
потом ничего больше не было, вернее сказать я ничего больше не помню, думаю меня
сразу сморил сон раньше даже чем я успел закончить начатую фразу, возможно я даже
не успел сказать слово шпоры только подумал о них небытие мрак сон накрыв как
колоколом захоронили меня живого сидящего на стуле наклонившись вперед моя рука
пыталась на ощупь отстегнуть ремешок моих шпор, а сам я думал что за идиотство было
нацеплять шпоры раз мы оставили лошадей в конюшне какая в этом надобность, все
бабки у них до крови сбиты о булыжник бока были иссечены шпорами еще в воскресенье
когда мы прошли почти все эти пятнадцать километров на галопе торопясь проскочить
через мост прежде чем его взорвут, он нам как-то рассказал что один из таких вот
старичков в полосатых брюках в сером котелке с моржовыми усами и розеткой Почетного
легиона нанял его чтобы тот на нем скакал (Скакал на
530
нем? спросил я, Да скакал на нем ну и что тут такого Как па лошади. Прикажешь
картинку тебе нарисовать? —• глядя на меня своими огромными глазами, с удивлением
глядя будто я был безнадежный идиот или что-то вроде того), Иглезиа взнуздал его,
взял в руки хлыст, надел свой жокейский камзол, сапожки, а тот тип велел нацепить
еще и шпоры и сам разделся догола, встал на ковер у себя в спальне па четвереньки и
от Иглезиа потребовал чтобы тот его хлестал изо всех сил натягивал уздечку царапал
ему живот шпорами, все это он рассказывал всегдашним своим жалостным голоском
словно был навечно и вполне законно скандализованным, но невозможно было угадать
негодует ли он на самом деле: или быть может просто считает этот случай пе совсем
понятным но в конце концов не слишком необычным, и также довольно противным, но
тоже не слишком коль скоро он привык к тому что богачи вообще публика эксцентричная
и относился к ним с задумчивой снисходительностью скорее удивленной чем
оскорбленной и немного презрительной как это свойственно беднякам шлюхам, сводникам
и лакеям; что-то обрушилось на меня словно внезапно мне на голову накинули одеяло
спеленали, вдруг стало совершенно темно, возможно я уже умер, возможно тот часовой
оказался проворнее и выстрелил первым, возможно я все еще лежал там в душистой
траве придорожной канавы в этой борозде проложенной в земле вдыхая глотая черный и
терпкий черноземный запах впивая нечто розовое да вовсе не розовое а черное в
лохматом полумраке ласково касавшемся моего лица, но во всяком случае руки мои мой
рот могли дотрагиваться узнавать убеждаться в ее присутствии мои незрячие руки но
знающие теперь что она здесь что можно ее трогать, пробежать по ней пальцами по ее
спине по ее животу и когда касался густого кустика слышался звук как бы от
прикосновения к шелку, кустика выросшего здесь как нечто постороннее как паразит на
ее блестящей наготе, я все трогал ее бесконечно осязал ощупывая в темноте узнавая
ее бескрайнее и сумеречное тело, словно тело козы-кормилицы, сатирессы (он
рассказывал что они занимаются этим с козами столь же охотно как с собственными
женами или сестрами) упиваясь благоуханием ее бронзовых сосков добравшись наконец
до этого огнедышащего вулкана хмелея от шелковистого прикосновения ее ляжек мне
видны были в темноте отливающие голубизной бедра и я все впитывал ее без конца
чувствуя как
531
где-то у меня внутри в утробе растет что-то подобно стеблю разветвляется как древо
в чреслах моих как когтистый плющ скользит вдоль моей спины обхватывает затылок
словно пятерней, мне чудилось будто по мере того как что-то разрастается во мне сам
я уменьшаюсь в объеме как кормится это мной мною становится или вернее я становлюсь
этим и тело мое подобно съежившемуся крошечному эмбриону вбирают разверстые уста
земли так словно бы я мог уйти в нее в ней исчезнуть без остатка поглотиться ею
цепляясь как детеныш обезьяны цепляется за брюхо матери за ее живот за ее соски
зарывшись целиком уйдя в нее я сказал Не зажигай огня, перехватил на лету ее руку
рука была на вкус солоноватая словно ракушка но я ничего не желал ни знать, ни
ведать, только... а она: Но ты ведь по-настоящему меня не любишь а я: О господи
а она: Не меня вовсе не меня а я: О господи ведь в течение целых пяти лет а она: Но
все-таки не меня Я знаю что не меня Любишь ли ты меня за то что я это я любил бы ты
меня не будь... я имею в виду если
а я: Да нет послушай какое это в сущности имеет значение да брось ты Какое это в
сущности имеет значение все это ерунда брось ты я хочу тебя
я научился штамповать солдатиков в маленькой влажной формочке простым нажатием
пальца на глину пехотинцев кавалеристов и кирасиров разлетавшихся по всему свету
как из ящика Пандоры (целое отродье до зубов вооруженное в сапогах и в касках) у
каждого представителя военной братии висела на груди металлическая бляха в виде
рогалика на блестящей цепочке на манер витых серебряных галунов во всем этом было
что-то похоронное мертвецкое; помню тот луг куда они нас загнали или вернее где
сгрудили или еще вернее складировали: мы покоились лежали ряд ва рядом касаясь
головой ног тех что лежали перед нами как оловянные солдатики уложенные в картонную
коробочку, но поначалу земля была еще нетронутой неоскверненной и я бросился на
траву подыхая с голоду и думая Раз лошади это едят почему бы и мне не попробовать я
пытался вообразить себе убедить себя что я лошадь, я валялся мертвый на дне
придорожной канавы по ногам и рукам бегали мурашки все мое тело целиком
превращалось постепенно под воздействием мириадов еле заметных сдвигов в
бесчувственную
532
материю и теперь уже трава будет кормиться мною плоть моя утучнит землю и в конце
концов не так уж много изменится, разве что я просто окажусь по ту сторону ее
покрова как проходят по ту сторону зеркала где (как бы в зазеркалье) возможно все
продолжает развиваться симметрично другими словами трава наверху продолжает расти
все такая же зеленая и равнодушная ведь говорят же что у мертвецов продолжают
отрастать волосы единственная разница значит будет в том что я стану жрать
одуванчик с корня там где из него течет сок, от наших тел унизанных капельками пота
исходил терпкий и сильный запах корневища, мандрагоры, где-то я читал что
потерпевшие кораблекрушение и отшельники питались корнями трав желудями и тут она
приникла ко мне губами потом впилась как охочий до лакомства ребенок и это было так
словно бы мы пили друг друга мы вдосталь утоляли жажду голод, надеясь хоть немного
утишить утолить свой голод я пытался жевать траву думая Ведь похоже на салат от
зеленого едкого сока зубы сводила оскомина тоненький стебелек резанул мне язык как
бритвой ожег его, только потом кто-то из них научил меня разбираться какие травы
несъедобные а какие можно есть к примеру ревень: к ним как-то сразу вернулся
инстинкт кочевников-дикарей они ухитрились быстро разжечь костер и изжарили на
костре собаку а я долго ломал голову где же они ее стырили потом сообразил что
вероятно у кого-нибудь из этих идиотов офицеров или унтеров окопавшихся в военных
канцеляриях или в штабах были такие среди нас в своих безупречно элегантных кителях
возможно считавшие что они-то надежно укрылись от военной грозы но в одно
прекрасное утро их всех загреб какой-нибудь молодчик распахнув дверь ударом сапога
и насмешливо наставив на них дуло своего автомата велел им выстроиться во дворе и
заложить руки за голову а они одуревшие никак не могли взять в толк что же с ними
такое случилось, поговаривали что так брали целые штабы напомаженных щеголей, мы
конечно не отказывали себе в удовольствии обругать их при случае но эти сочли куда
более практичным спереть их собаку и зажарить ее на костре а потом разделить между
своими такими же темнокожими или оливковолицыми, загадочными, все презирающими с их
ослепительно белыми волчьими зубами с их гортанными и терпкими на вкус именами
Ахмед бен Абдахалла или Бухабда или Абдерхаман с их резким гортанным и
533
терпким говором с их гладкими лишенными растительности телами юных дев, и там тоже
были дикие одуванчики но они сгоняли и сгоняли сюда без конца целыми воинскими
частями все это изможденное и расхристанное воинство кое-кто в штатских головных
уборах и шинелях нараспашку хлопавших полами по икрам и вскоре уже весь луг был
истоптан и полностью опоганен покрыт рядами тел лежащих головой к ногам предыдущего
ряда и в сером предрассветье трава тоже была серая покрытая росой и я пил ее пил
стараясь чтобы не пропало ни капли жадно втягивая в себя как высасывал ребенком
апельсин пренебрегая запретами старших столько раз мне говоривших что это
неаккуратно что так ведут себя только невоспи-танпые мальчики что я чавкаю и все-
таки мне нравилось проковырять в кожуре отверстие и жать апельсин жать и пить его
нутро шары его грудей убегающие из-под моих пальцев как вода хрустальная розовая
капля дрожала на кончике былинки клонившейся под легким трепетанием ветерка
предвестника рассвета отражая вмещая в своей прозрачности небо уже окрашенное
отблесками зари я помню эти неслыханно прекрасные утра во все то время еще ни разу
ни весна ни небо не были так начисто до прозрачности промыты, ближе к рассвету
холодными ночами мы жались друг к другу в надежде сберечь хоть капельку тепла
свернувшись калачиком как бы вписавшись один в другого, вжавшись, ляжки мои
касаются ее ляжек а эта шелковистая и дикая растительность касается моего живота в
ладонях моих млечно-белые ее груди в середине которых влажно поблескивают кончики
цвета чайной розы (когда я отрывал свои губы розовое становилось ярче словно бы
пламенеющая воспаленная, истерзанная шероховатость материи, блестящие ниточки еще
тянулись от моих губ, помню я видел как-то на травинке точно такую же металлически
поблескивающую словно серебро дорожку, такую крохотную что былинка лишь едва-едва
гнулась под тяжестью малюсенькой улиточки с ее затейливой раковиной каждый завиток
которой был обведен тонкой коричневой черточкой шея ее тоже была шероховатой и в то
же самое время хрупкая и хрящеватая она вытягивала выставляла евои рожки выставляла
но и убирала когда я их касался могла при желании выставлять и убирать их, она
которая никогда и никого не вспоила не вскормила своей грудью была выпита лишь
грубыми мужскими губами: но в серединке каждой можно было различить крохот-
534
ную горизонтальную трещинку со слипшимися краями откуда могло бы заструиться
брызнуть невидимое млеко забвения) они выступали как два пятна, как головки гвоздей
пробивших мои ладони, я думал Они пожалуй нам все кости пересчитают, мне чудилось
будто можно услышать как лязгают друг о друга собственные мои кости, сторожа приход
холодной зари, сотрясаемые неуемной дрожью мы ждали минуты когда будет достаточно
светло и мы получим право подняться на ноги тогда я осторожно перешагивая через
лежавшие вповалку тела (словно бы через трупы) добрался до главного прохода по
которому шагали взад и вперед часовые с металлическими ошейниками словно псы: я так
и стоял все еще дрожа от холода, стуча зубами, стараясь вспомнить на что похожа вся
эта церемония когда люди лежат вытянувшись на земле ряд за рядом касаясь головами
ног лежащего впереди на холодных плитах кафедрального собора, рукоположение думал я
пли пострижение в монахини девственниц распростертых во весь рост по обе стороны
главного прохода по которому в клубах ладанного дыма шествует старец епископ
иссохший как мумия и весь в золоте, в кружевах, вяло помахивая рукой в малиновой
перчатке и в перстнях, распевая усталым еле слышным голоском латинские слова о том
что все они уже умерли для мира сего и казалось будто над ними уже простерся флер,
однообразный серый рассвет простерся над лугом а там ниже над ручьем еще мешкал
туман но они разрешили нам подняться только тогда когда рассвело уже окончательно а
в ожидании этой минуты мы по-прежнему стучали зубами дрожали всем телом тесно
прижавшись вписавшись один в другого, я навалился налегая на нее всей своей
тяжестью но меня била дрожь я лихорадочно на ощупь искал доступ в ее лоно, но
неловкие мои руки шарили вслепую я слишком торопился слишком сильно меня била дрожь
тогда она сама соединила наши чресла ее рука соскользнув с моего затылка казалось
проползла вдоль ее тела как животное как шея беспозвоночного лебедя пробирающегося
по ляжке Леды (или какой-нибудь другой символической птицы непристойно горделивой
ну да конечно вон того павлина на тюлевой занавеске опустившего свой хвост
разубранный глазками покачивающийся раздуваемый ветром загадочный) дотянулась до
меня, положила открытую ладонь мне на поясницу как бы для того чтобы меня
подтолкнуть с трудом удерживая мое нетерпение потом бурно дыша
535
обхватила другой рукой меня за шею дыхание ее все учащалось но всякий раз когда я
падал валился на нее придавливая всей своей тяжестью то приближаясь к ней вплотную
то отдаляясь она тянулась за мной теперь она тяжело дышала стонала не слишком
громко но беспрерывно голос ее изменился стал совсем другим такого я еще у нее не
слыхал иными словами это был какой-то незнакомый детский беспомощный стонущий
голосок в нем звучало также что-то чуть боязливое жалобное растерянное я сказал
Люблю ли я тебя? Я снова навалился на нес из перехйаченного ее горла вырвался крик
однако ей удалось произнести:
Нет
Я снова сказал Ты не веришь что я тебя люблю снова навалившись на нее животом и
бедрами проникнув в сокровенные глубины ее тела на миг она задохнулась потеряла
голос но наконец ей удалось снова произнести:
Нет
а я: Ты не веришь что я тебя люблю В самом деле Не веришь что я тебя люблю Ну хоть
сейчас скажи люблю я тебя скажи люблю и с каждым новым вопросом я все резче и резче
налегал на нее не давая ей времени сил для ответа из груди ее из глотки рвался
теперь лишь нечленораздельный стон но голова яростно перекатывалась по подушке
справа налево в темном пятне ее волос как бы утверждая Нет Нет Нет Нет, они заперли
на дальнем краю луга в свинарнике фермы служившем им караулкой какого-то
сумасшедшего он сошел с ума во время бомбежки иногда он принимался орать и вопил
без конца вроде бы и без толку орал если так можно выразиться вполне мирно то есть
не бушевал не барабанил в дверь не стучал просто вопил и просыпаясь ночью от его
криков я всякий раз говорил Да что же это такое, а он Это сумасшедший, и по
обыкновению своему угрюмо мрачно сворачивался клубочком стараясь запрятаться с
головой под шинель, мне было видно их, я видел их черные тени безмолвно шагавшие
взад и вперед по главному проходу в неуклюжих тяжелых своих шинелях со своими
собачьими ошейниками порой поблескивавшими при лунном свете, с ружьем за плечом, и
они тоже надеясь согреться похлопывали себя по плечам совсем как кучера фиакров, до
меня донесся его голос из-под шинели приглушенный яростный он сказал Будь я на их
месте я бы врезал ему разок по морде прикладом небось перестал бы нам в печенки
въедаться сволочь вот
536
так всю ночь без передышки, он орал в потемках без толку без цели, потом она вдруг
сразу перестала кричать мы лежали разжав объятия как двое мертвецов безуспешно
стараясь наладить дыхание и нам чудилось будто вместе с воздухом из груди изо рта
пытается выскочить само сердце, оба и я и она мертвецы оглушенные гулом собственной
крови которая с грозным ворчанием отхлынула от нутра спеша ворваться в сложное
разветвление наших артерий вот так же бывает, это называется по-моему подъем воды
во время прилива, когда все реки вдруг текут вспять к своим истокам, словно бы наши
артерии пересохли на мгновение от отсутствия крови словно бы вся наша жизнь целиком
бросилась ревя как водопад из наших утроб вырываясь выдираясь из нас из меня из
моего одиночества и очутившись на свободе устремлялась прочь хлынула широко
разлившись затопляя нас обоих без конца так как будто конца никогда не должно было
наступить как будто этому никогда вообще не бывает конца (но это неверно: был
только один миг, когда мы в опьянении думали что он вечность, но в действительности
это был только один миг вот так же бывает когда с тобой во сне наслучалась кажется
целая куча вещей а откроешь глаза и видишь что стрелка часов лишь чуть стронулась с
места) потом все отхлынуло бросилось теперь в обратном направлении будто с размаху
налетев на стену, на какое-то непреодолимое препятствие прорваться через которое
удалось бы лишь крошечной частице нас самих и то до известной степени обманным
путем другими словами обманув разом и то что мешало ей прорваться освободиться и
нас самих, нечто яростное несправедливо обойденное вопившее тогда в нашем
несправедливо обойденном одиночестве вновь потерявшее свободу, яростно толкающееся
в перегородки в тесные и глухие рубежи, бушующее, потом мало-помалу улегшееся, и
через минуту она зажгла лампу, я быстро закрыл глаза все стало коричневым потом
коричнево-красным я все еще не открывал глаз я слышал как серебристо течет вода все
унося с собой растворяя... (я мог слышать ее серебристо ледяную и черную той ночью
стекающую с крыши сарая заваленного молодыми дубками казалось что в темноте сама
природа деревья вся земля вот-вот целиком растворятся утонут раскиснут сами
превратятся в жижу что их сгложет этот медлительный потоп тогда я решил тоже пойти
к колченогому который пригласил нас к себе сегодня вечером присоединить-
537
с я к ним вместо того чтобы валяться на коричневом сене или вернуться в кафе и
снова начать пить; Вак все равно будет бодрствовать, хотя нынче вечером он не
дневальный по конюшне но все равно никуда не пойдет: он молча смотрел как я
проследовал мимо и вышел под черный дождь но и сейчас как и днем мне не удалось ее
увидеть, они втроем с колченогим сидели уже вокруг стола, Иглезиа и еще один вели о
чем-то вполголоса беседу со слугой стоявшим возле очага; только ее тут не было,
остановившись на пороге я поискал ее глазами, но ее тут не было и помолчав я
спросил уж не происходит ли здесь заседание совета солдатских и крестьянских
депутатов, но они подняли на меня недоверчиво-осуждающие глаза я сказал им пусть не
обращают на меня внимания сказал что за всю жизнь научился играть только в батай то
бишь в баталию и отойдя сел у очага: там стоял огромный эмалированный кофейник а
стол на котором они играли был покрыт желтой клеенкой где красным были изображены
пальмы минареты мужчины с ятаганами и женщины у фонтана наполняющие водой или
несущие на плече продолговатые кувшины, всякий раз когда один из игроков бил карту
он сначала секунду-другую держал ее на весу потом бросал (жестом торжествующим,
злобным?) на стол прихлопывая при этом яростно ладонью, потом я увидел ту: нет
вовсе не ее, не эту белизну, не то сладостное и теплое видение промелькнувшее на
миг в предрассветной светотени конюшни, но так сказать ее противоположность или
скорее полное ее отрицание или скорее ее извращение извращение самой идеи женщины
грации сладострастия, как бы кару за все это: отвратительную старушонку с козлиным
профилем и козлиной бородкой с непрерывно трясущейся головой и старушонка эта когда
я присел с пей рядом на скамейку за очагом уставив на меня два своих бледно-голубых
глаза, две почти белесые лужицы с минуту украдкой наблюдала за мной приглядывалась,
а нижняя ее челюсть ходила беспрерывно взад и вперед не переставая что-то жевать, а
вместе с нею ходила козлиная бородка, потом она пригнулась приблизив ко мне свое
лицо так что я мог коснуться этой желтой иссохшей личины (мне почудилось будто сидя
здесь в обычной крестьянской кухне я стал жертвой некоего наваждения — и впрямь
было что-то колдовское в этом крае затерянном отрезанном от всего мира с его
глубокими лощинами откуда доходило лишь слабое потренькивание колоколов с этими
538
как губка пропитанными влагой лугами с этими лесистыми склонами одетыми осенью в
рыжину и ржавь; так оно и было: словно бы весь этот край застыл в оцепене-пии во
власти злых чар утонул под безмолвной пеленой дождя ржавел себе изглоданный
загнивая помаленьку в запахе перегноя опавшей листвы а ее становилось все больше
целые кучи ее медленно разлагались, и я всадник завоеватель в высоких сапогах
явившийся сюда чтобы найти в глубинах мрака в глубинах времен соблазнить похитить
лилейную принцессу о которой я мечтал с юных лет и вот в то самое мгновение когда
уже казалось я настиг ее, схватил, заключил в свои объятия, прижал к себе, я
очутился лицом к лицу с безобразной старушонкой словно написанной Гойей...) и
сказала: Я его сразу узнала. А как же как же и бородка такая же!
а один из них бросив разговаривать со слугой, взглянув на меня поверх очага
подмигнул, заявив Сразу бьешь без промаха
а я За этим-то я сюда и пришел
а он Боюсь только возраст у нее для тебя не совсем подходящий
а я Да этак лет на двести больше. Но это значения не имеет. Так что же вы видели
бабушка?
она нагнулась еще ближе ко мне бросила быстрый взгляд в сторону колченогого, игроки
по-прежнему озабоченно и шумно хлопали картами по столу: Иисуса сказала она.
Иисуса. Христа. Только это нечистый был.
я посмотрел на него поверх очага он снова подмигнул мне Я тоже так думаю сказал я
Самый нечистый из всех нечистых А где он?
На дорогах Да? Как же так?
Со своей бородкой ответила она И с палкой Я тоже его видел сказал я
Он палку из рук не выпускает. Хотел меня прибить Ух ты чертова потаскуха, крикнул
колченогий обернувшись в нашу сторону Да кончишь ли ты чушь плести Иди-ка лучше
спать
Дерьмо сказала старуха. Трое солдат сидевших вокруг стола покатились со смеху, на
минуту старуха застыла поглядывая на колченогого ожидая когда он соберет свои карты
вся скукожившаяся съежившаяся на краешке скамьи ее крохотные выцветшие глазки
окруженные розовой блестящей каемочкой вспыхнули злостью
539
ненавистью, Рогач! сказала она (по-прежнему шамкая цедя слова сквозь зубы:) Злыдни
они Я совсем одна, потом повторила Рогач! и еще раз Рогач! но они уже начали
играть, старуха бросила в мою сторону торжествующий взгляд и опять нагнулась ко
мне, Прогнали его с его ружьем, сказала она, Хоть взял ружье, а все равно рогач. Я
снова поверх печурки взглянул на него и он снова подмигнул мне
Пускай сколько душе угодно запирает ее в спальне хихикнула она Она еще ближе
пригнулась ко мне толкнула меня локтем в бок и маленькие мертвые глазки в желтых
потеках беззвучно смеялись Но ключ-то не один добавила она.
Что
Ключ-то не один
Что ты там еще мелешь, крикнул колченогий Пойдешь ты наконец спать или нет! Старуха
вздрогнула всем телом поспешно отодвинулась от меня молча съежилась на другом конце
скамьи но по-прежнему не спускала с меня глаз подмигивала гримасничала подымала
брови а немотствующие ее губы шевелились и я догадался по их движению что она
беззвучно шепчет Злыдни, Злыдни, кривя свое мерзкое козье личико)... потом матрас
снова щевельнулся под ее тяжестью я по-прежнему лежал с закрытыми глазами стараясь
сохранить удержать под сомкнутыми веками этот бескрайний мрак но он из коричневого
постепенно перешел в красный потом в пурпуровый потом в черный с фиолетовыми
прожилками расплывчатые пятна то стекались в одно то растекались медленно скользя
сотнями осколков вроде мохнатых белесоватых солнц зажигались и тухли я знал что она
не погасила лампы и смотрит на меня ест глазами с тем обостренным п пронзительным
вниманием на которое они способны при случае я зарылся щекой и лбом ей под мышку и
мог слышать теперь как в нее входит воздух при каждом ее вздохе потом уходит прочь
сердце ее билось еще довольно быстро но биение его постепенно замедлялось, все еще
не открывая глаз я скользнул вдоль ее тела бока ее живот мерно подымался и
опускался чуть подрагивая как нежное птичье горлышко (как подрагивал тот павлин
вместе с занавеской его изогнутая шея в форме буквы S увенчанная маленькой синей
головкой с похожими на раскрытый веер перьями занавеска продолжала еще покачиваться
даже после того как она опустила ее
540
подрагивала как нечто живое как та жизнь что скрывалась за этой занавеской, я
поднял голову с запозданием всего на какую-то долю секунды и увидел не увидел а
только вообразил что вижу половину лица и руку которые тут же исчезли опустив
занавеску теперь только один длинный птичий хвост продолжал раскачиваться потом и
он тоже застыл в неподвижности, и на следующий день нам тоже не удалось ее увидеть,
ночью околела лошадь и утром мы ее закопали в углу фруктового сада где яблони с
черными отлакированными дождем ветвями уже растеряли почти все листья и во влажном
воздухе с них капала вода: мы взгромоздили ее на повозку а потом столкнули в ров и
пока с лопат сыпалась земля погребая ее все глубже и глубже я все глядел на нее
костистую скорбную больше чем когда-либо напоминавшую насекомое богомола что ли с
передними скрещенными ногами с огромной грустно-покорной башкой исчезавшей мало-
помалу под медленной и унылой горкой земли которую мы швыряли лопатами на горькую
ухмылку ее длинных оскаленных зубов так будто уже по ту сторону смерти она
пророчески посмеивалась над нами сильная неким знанием неким опытом какими мы не
обладали, печальной тайной которая есть достоверность отсутствия всякой тайны и
всякой мистики, потом снова припустил дождь и когда пришел приказ выступать он
хлынул уже сплошной стеной натянув между противоположным склоном лощины и нами
серую почти непроницаемую пелену а мы сидели в сарае в полном походном
обмундировании лошади были оседланы мы ждали лишь сигнала к отправлению вглядываясь
сквозь проемы двери в завесу в серебряный частокол низвергавшийся с крыши
прорывавший в земле тоненькую бороздку идущую параллельно крыльцу и чуть впереди
него (прямо на вертикали крыши) где выступали вымытые из почвы голые булыжники,
воздух был пронзительно холодный и сырой густой голубоватый парок вылетал при
разговоре изо рта, на занавеске павлин по-прежнему был недвижен и загадочен, не
прерывая беседы мы порой бросали на него украдкой быстрый взгляд, иссиня-белое лицо
Блюма под черными волосами походило на таблетку аспирина только горели два пятна
черных лихорадочных глаз каску он держал в руке голова его и тонкая шея как-то
странно как-то особенно голо вылезали из воротника шинели и в этом военном
541
облачении словно в панцире из грубого сукна кожи портупеи он казался особенно
хрупким и слабые
не выступим сказал Вак Вот уже целый час ждем об заклад бьюсь не выступим Они нас
здесь целый день продержат и потом в полночь придут и велят коней расседлывать а
нам спать ложиться не хнычь ты сказал Блюм
да я и не хнычу сказал Вак только я не умничаю я ох черт сказал я дорого бы я дал
за этот ключ какой ключ сказал Вак Павлин по-прежнему не шелохнулся ключ чтобы
отсюда смыться сказал Иглезиа. Мы по-прежнему глядели сквозь частокол дождя на
притихший дом на запертые окна закрытую дверь и фасад напоминавший замкнутое лицо,
время от времени с огромной орешины срывался лист и мягко планируя ложился на землю
почти черный уже изъеденный осенью уже тронутый тлением
пари держу что это помощник мэра сказал Блюм а вот и неправда сказал Вак Она его
прогнала Когда он вошел к ней в комнату она ружье со стены сняла да ну? сказал Блюм
Из-за того что он в ее комнату вошел?
да не знаю я ничего сказал Вак Поди да спроси он сам ничего не знает сказал Иглезиа
Тогда о чем ты болтаешь
ни о чем сказал Вак
Вак с их слугой дружбу завел сказал Иглезиа с тем типом что на медведя похож
медведи всегда между собой договорятся сказал Блюм отцепись от меня сказал Вак
ну ладно ладно сказал я Не злись Ты помогал ему картошку копать а он помог тебе
узнать что там у них творится Вот и расскажи нам
он мне лошадь уморить не помогал сказал Вак верно сказал Иглезиа не обязан ты был
на ней ездить и не я ее уморил сказал Вак да заткнись ты сказал я
оставь его сказал Блюм Раз ему так веселее Он обернулся к Ваку: Значит это помощник
мэра? поди да сам спроси сказал Вак значит он?
это старый друг дома сказал я Лучший друг дома Он их ужасно любит Он их всегда
ужасно любил
542
однако ж она прогнала его чуть не застрелила сказал Блюм
у них вся семья охотники сказал я это медведь так говорит сказал Блюм А старуха
совсем не то говорила
старуха с приветом сказал Вак
возможно она что-то путает сказал я Возможно она считает что это еще кто-то другой
какой другой? сказал Блюм а я-то думал ты все знаешь сказал Вак значит был и
другой? сказал Иглезиа Частокол дождя все струился и струился словно серебряные
нити, словно металлические полоски прибитые параллельно к дверям сарая, где-то
водосточная труба с грохотом далекого водопада выплевывала полный рот воды: Вот
почему он прихватил с собой ружье сказал я Чтобы не дать тому войти
куда войти? сказал Вак
ого-го сказал Блюм Значит ты так ничего и не понял? В дом ведь он хотел в дом войти
ты же сам говоришь у него был второй ключ сказал Вак
среди бела дня у всех на виду не таясь имел полное право войти чтобы сержантам
показать помещение войти как хозяин значит ты так ничегошеньки и не понял?
это свой человек сказал Блюм Ему нравится везде и повсюду лазать
ничего не понимаю что вы тут такое плетете сказал Вак Воображаете что такие уж все
умники Но я вам говорю вы только тот другой должен блюсти свою семью сказал я кто
колченогий это же вопрос чести
ух сказал Блюм А я и не знал что честь помещается где-то там внизу между иди ты
в... сказал Вак.
вот именно это слово я и искал Все время у меня на языке вертелось но только никак
не мог его вспомнить У этой деревенщины вид вроде бы безобидный а потом вдруг нате
вам
а у городских жидков интересно какой вид? сказал Вак
сказано тебе заткнись
так я тебя и испугался сказал Вак
Сложное переплетение ручейков врезалось стремительно бежало по светлому песку
дороги по краю откоса мало-
543
помалу распылялось сбивалось с пути скользило между крохотными беспрерывными
обвальчиками на мгновение преграждавшими путь какому-нибудь ручейковому ответвлению
потом ручейки вовсе исчезали не выдержав песчаного штурма поглощенные песком
побежденные им и целый мир рушился вместе с ними в немолчном бормотании воды капли
спешили друг за дружкой струясь по блестящим сучьям догоняли сливались отрывались
от веток скатывались на землю вместе с последними листьями последним богатством
лета навеки канувших дней которых уже не найти не найти никогда что же я искал в
ней на что падеялся чего добивался от нее от ее тела через ее тело постичь слова
звуки столь уже безумные как он сам с его иллюзорными листками бумаги покрытыми
черными точечками букв похожих на следы мушиных лапок речи которые произносили наши
уста дабы обмануть самих себя жить жизнью звуков столь же лишенных реальности
лишенных плотности как и эта занавеска глядя на которую мы верили что вышитый на
ней павлин зашевелился затрепетал вздохнул воображая выдумывая то что за ним
кроется хотя разумеется даже не видели ни полускрытого лица как бы разрезанного
пополам краем занавески пи руки которая эту занавеску опускала жадно ловя
слабенькое дуновение сквозняка), она сказала О чем ты думаешь? я сказал О тебе, она
снова Нет Скажи о чем ты думаешь, я сказал О тебе ты же сама это отлично знаешь, я
положил руку на ее бедро на ее живот это было так словно бы я коснулся легкого
пушка птичьих перышек словно бы сама птица была у меня в ладони но также и куст на
котором она сидит как в знаменитой английской пословице она сказала Почему ты
закрыл глаза, я открыл глаза свет по-прежнему горел она лежала на спине чуть отведя
одну ногу а другая согнутая в колене как гора возвышалась надо мной ступня касалась
смятых простынь сзади пониже лодыжки кожа была не такая нежная и на пятку чуть
оранжевого оттенка набегали три складочки... она сказала О чем ты думаешь отвечай
Где ты? я снова положил ей на бедро ладонь: Я здесь, а она: Нет, а я: По-твоему я
не здесь? Я попытался расхохотаться, она сказала Да не здесь пе со мной Я для тебя
просто солдатская девка словом то что рисуют мелом или выцарапывают гвоздем па
стене казармы по обвалившейся штукатурке... я сказал Да замолчи пожалуйста неужели
ты не можешь понять неужели ты не можешь себе представить что в течение пяти лет я
544
только о тебе и мечтал, а она: Вот именно, а я: Что вот именно? а она: Да оставь
меня, она попыталась высвободиться из моих объятий я сказал Что это с тобой Что на
тебя пашло? а она по-прежнему пыталась высвободиться из моих объятий и встать с
постели, она заплакала, потом снова сказала Такие вот рисунки солдаты малюют, все
эти солдатские разговоры, я слушал их нестихавший спор в этот вечер глядя как
надвигается ночь как падает дождь, Блюм сказал что он охотно выпил бы чего-нибудь
горяченького, а Вак ему сказал что раз он такой умный пусть постучится в дом и
попросит ее сварить немножко кофе, а Блюм сказал что он не любит ружей правда сам
за спиной таскает ружье по никогда у него не было желания стать охотником а тем
паче дичью и что по всему было видно что колченогому не терпится пустить свое ружье
в ход, заключив «В конце концов оп тоже имеет полное право стрелять раз уж все
кругом все без разбора палят за здорово живешь Ведь в конце концов это война», но
теперь уже я слышал только его голос снова надвинулась тьма и пе было видно пи зги
и мы познавали мир лишь по этому холоду по этому дождю воде которая теперь словно
пропитывала нас со всех сторон, по этому упорному многострунному вездесущему
журчанию примешивавшемуся и казалось сливавшемуся воедино с апокалипсическим
вездесущим стуком копыт по дороге, и трясясь по ухабам на наших невидимых клячах мы
легко могли бы себе представить что все это (поселок сарай молочпо-белое видение
крики колченогий помощник мэра сумасшедшая старушонка вся эта темная и незрячая и
трагическая и банальная запутанная интрига где персонажи что-то провозглашали ругая
друг друга проклиная угрожая спотыкаясь ощупью пробираясь в потемках пока не
наткнутся в конце концов на какое-нибудь препятствие на какой-нибудь механизм
закамуфлированный мраком (и даже не для них предназначенный, даже не специально на
них рассчитанный) который взорвется прямо им в лицо, дав им как раз столько времени
чтобы они могли увидеть как сверкнет в последний раз (а возможно и в первый) нечто
напоминающее свет) что все это существовало только в нашем воображении: мечта
иллюзия а в действительности возможно мы так никогда и не перестанем трюхаться в
седле будем вечно трюхаться в этом журчащем мраке все время перекликаясь не видя
друг друга... Возможно в конце концов она была и права возможно она сказала правду
возможно
18 М. Бютор и др.
545
я все время с ним разговаривал обменивался с этим хлипким теперь уже скончавшимся
еврейчиком в течение нескольких лет шутками похвальбой непристойностями словами
звуками только для того чтобы пе заснуть обмануть самих себя подбодрить один
другого, Блюм теперь сказал: Но возможно это ружье пе было даже заряжено возможно
он даже не умел из ружья стрелять Люди ужасно любят из всего делать трагедии драмы
романы
а я: Но возможно оно все-таки было заряжено такое ведь случается Каждое утро про
это в газетах читаешь Тогда давай завтра купим газету может там хоть будет что-
нибудь интересненькое
А я-то думал тебя эта война интересует Я даже вообразил себе что ты в ней
непосредственно заинтересован Только не в четыре часа утра да еще верхом па этой
кляче да еще под этим дождем
Стало быть по-твоему сейчас уже четыре утра Ты думаешь когда-нибудь все-таки
наконец рассветет?
А разве это не отблеск зари посмотри-ка вон там вправо вроде бы стало посветлее
Где? Где и что ты разглядел в этой чертовой темнотище Вон там чт*о-то временами
поблескивает какая-то полоска посветлее
Возможно это вода Может быть Маас Или Рейн Или Эльба
Нет не Эльба мы бы знали Тогда что же?
Нам-то до реки какое дело Как по-твоему который сейчас час Тебе-то какое дело
Мы уже дня три торчим в этом вагоне Ладно пускай тогда будет Эльба
Два голоса два безликих голоса чередуясь обменивались во мраке репликами имевшими
не больше реальности чем звук этих голосов говоривших о вещах не более реальных чем
чередование звуков, и однако диалог продолжался: поначалу всего лишь два
потенциальных трупа потом как бы два живых трупа, потом один из них и в самом деле
умер а другой по-прежнему жив (хотя по-видимому, думал Жорж, хотя по-видимому это
тоже пожалуй не намного лучше), и оба (тот кто умер и тот кто допытывался у себя
самого не лучше ли по-настоящему умереть поскольку хоть этого по крайней мере не
знаешь) взятые в
546
плен, загнанные в эту одновременно неподвижную и двигающуюся штуковину которая
медленно утрамбовывала своею тяжестью поверхность земли (возможно именно это Жорж
продолжал различать сквозь дробное и терпеливое цоканье лошадиных копыт некое
скольжение, еле приметный скребущий шумок, чудовищный, пепрекращающийся: это
олимпийски медлительное продвижение, это неторопливое наступление ледника
сдвинувшегося с места еще в па-чале времен, дробившего, давившего все и вся, и в
толще которого ему чудилось будто он уже видит их обоих, себя и Блюма, застывших и
вмерзших, сидящих верхом как были в сапогах, со шпорами, на своих загнанных клячах,
не тронутых тлением хотя уже и неживых среди сонмища призраков тоже вмерзших во
весь рост в своей кавалерийской выцветшей форме некогда приятного для глаза оттенка
продвигающихся вперед всем скопом на такой же еле приметной глазу скорости подобно
застывшему кортежу манекенов судорожно покачивавшихся на своих цоколях, всех равно
заключенных в эту зеленоватую толщу сквозь которую он пытался их опознать, угадать,
повторяющихся до бесконечности в зеленых глубинах зеркал), тут раздался
трогательный и шутовской голос Блюма: «Но ты-то что об этом знаешь? Ничего ты сам
не знаешь. Не знаешь даже было ли заряжено ружье или нет. Не знаешь даже случайно
или нет раздался этот выстрел из пистолета. Мы не знаем даже какая была в тот день
погода, был ли он покрыт пылью или грязью, он вернулся домой бормоча что-то сквозь
зубы со своим запасом нераспроданных благородных чувств, и не только нераспроданных
но даже встреченных стрельбой и обнаружил что его жена (другими словами твоя
прапрапрабабка от которой пыне осталось всего несколько хрупких косточек под
выцветшим шелковым платьем в глубине склепа в гробу в свою очередь изъеденном
червями, так что пеизвестно даже откуда этот тончайший желтый порошок залегший в
складки тафты то ли это кости то ли дерево, но тогда она была молодая, была плотью
был у нее обрамленный пушком живот, лилейная грудь, губы, а над этими пожелтевшими
костями щеки которые заливал румянец наслаждения), значит обнаружил свою супругу
применяющую на практике эти возвышенные принципы жизни на природе которым не
пожелали внимать испанцы...»
А Жорж: «Да нет, он...»
А Блюм: «Как нет? Ведь ты же сам признавался что
18*
547
па сей счет в вашей семье царило сомнение, какое-то смутное стыдливое умолчание.
Ведь не я же в конце концов говорил о галантной гравюре, о вышибленной ударом плеча
двери, о суматохе, криках, смятении, об освещенных в темноте окнах...»
А Жорж: «Но...»
А Блюм: «И разве не ты сам мне говорил что на этом втором портрете, на этой
миниатюре, на этом медальоне написанном уже после ее смерти, ты ее так сказать не
сразу признал, что тебе чуть ли не сто раз пришлось смотреть на имя и дату
написанные на обратной стороне чтобы в том убедиться, что ты...»
А Жорж: «Да. Да. Да. Но...» (в тот промежуток времени когда писались оба эти
портрета, она чуть раздобрела, другими словами приобрела ту сладостную округлость
форм, вроде бы расцвела, как то часто бывает с молоденькими девушками после
замужества, возможно даже чуть-чуть отяжелела, но весь ее облик излучал — в этом
костюме бывшем как бы отрицанием костюма, другими словами в простом платьице,
другими словами в простой рубашечке, и к тому же полупрозрачной, так что она
казалась полуголой, с нежными грудками как бы предлагающими себя еще подчеркнутыми
лептой и почти целиком вырвавшимися из плена тончайшего шелка цвета пармской розы —
нечто бесстыдное, пресыщенное и торжествующее, с тем невозмутимым изобилием чувств
и души равно умиротворенных и удовлетворенных — и даже объевшихся — и еще эта
небрежная, простодушная, жестокая улыбка, которую можно видеть на некоторых
портретах женщин той эпохи (но возможно это было лишь следствием моды, стиля,
сноровки, умения, приспособленчества художника привыкшего изображать одной и той же
кистью или одним и тем же сладострастным карандашом и честных матерей семейства и
похотливых одалисок томно раскинувшихся па подушках в турецкой бане?) с гибкой
шеей, с горлышком голубки, и весьма возможно что вовсе там не была изображена одна
и та же женщина, чуть суше, чуть чопорнее, жеманнее, туго затянутая в корсет из
китового уса и разубранная колючими холодными драгоценностями, позировавшая
художнику в тяжелом платье с фижмами, Жорж подумал: «Да, похоже что, в этот
промежуток времени, она обрела свободу, похоже, его смерть помогла ей...»), и снова
услышал голбс Блюма (насмешливый, громкий, даже язвительный, но, казалось, ни к
кому в
548
сущности не обращенный, разве что к донышку миски, с которой он казалось
разговаривал, вел диалоги, беседовал деликатно, с нежностью, и Жорж уже не в первый
раз задал себе вопрос до какой степени может исхудать человек и при этом не
исчезнуть пе быть просто стертым с лица земли пе взрывом а чем-то как раз
противоположным взрыву: всасыванием внутрь не только кожи, но и всей плоти, шедшим
изнутри заглатыванием, ибо Блюм дошел теперь до худобы воистину пугающей, глаза
провалились, кадык заострился, чуть не прорывая кожу, его насмешливый голос и тот
казался как бы бесплотным когда он говорил:) «Но ие было ли у него случаем какого-
нибудь другого изъяна, кроме его женевских идей, ну какого-нибудь скажем
постыдного, прирожденного недостатка? Не был ли и ои тоже хромым, или косолапым,
или еще что-нибудь в том же роде: в те времена такое часто бывало у благородных
маркизов, епископов-ренегатов или посланников. В конце концов ты видел его только
па картипе и то до пояса с охотничьей двустволкой через плечо, как у того
колченогого Отелло из поселка. Может и он тоже хромал. Очень даже просто. Поэтому-
то у него и был комплекс, который...», а Жорж: «Очень возможно», а Блюм: «А
возможно у пего просто были долги, возможно какой-нибудь местный еврей всеобщее
пугало накрепко забрал его в руки с помощью векселей. Благородные сеньоры, да было
бы тебе известно, всегда жили долгами. Их главным образом воодушевляли чистые и
великодушные чувства но ничего иного кроме долгов они делать не умели, и не создай
Провидение для их потребы еврея-ростовщика со скрюченными пальцами они разумеется
не могли бы совершать великих деяний, разве что того рода подвиги о которых с
гордостью разглагольствуют потомки, ради благородного жеста, дабы поразить друзей и
знакомых, ради престижа, традиции, ради того чтобы через полтораста лет один из его
праправнуков отправился на войну прихватив с собой того — слугу что ли или
выполнявшего роль слуги,— который оседлал, покрыл его супругу ни дать ни взять как
кобылу какую-нибудь, и прожили они бок о бок всю осень, и всю зиму, и даже половину
весны пе обменявшись ни словом (за исключением тех случаев когда речь шла о
захромавшей лошади или о деле касавшемся непосредственно службы) так что в конце
концов они оба оказались, и один по-прежиему верно следуя за другим, точнее одному
удавалось заставить верно следовать за
549
собой другого, по той дороге где, по твоим же словам, была уже не войпа, а прямое
убийство, резня и где любой из пих двоих мог бы запросто прикончить другого
выст.релив из ружья или из револьвера, причем никому не пришлось бы за это
отвечать, и они даже, опять-таки по твоим словам, пе разговаривали друг с другом
(возможно просто потому что не испытывали в том нужды ни тот нп другой: навер-пяка
это было ие столь уж сложно), держась друг от друга на известной дистанции как то и
подобало и по их чину и по соответствующему социальному положению, как два чужих
человека, даже в том заднем дворе деревенского кабачка где он поставил вам по
кружке весьма свежего пива примерно за пять минут до того как сам получил порцию
пулеметного свинца, так словно бы он поставил вам стаканчик в жокейской пивнушке
после выигранной скачки, поэтому вполне может статься что из продырявленного его
тела не кровь хлынула а брызнуло пиво, может ты бы сам это заметил если бы
хорошенько пригляделся, конная статуя Командора мочившегося пивом, превращающаяся в
целый фоптан фламандского пива на пьедестале из...», по монолога своего он даже не
закончил, единственное что теперь его заботило, что яростно завладело им это
выскабливать остатки горького, тошнотворного супа, с металлическим привкусом со дна
своего котелка, и Жорж молча глядевший на него теперь, так сказать, сзади видел его
склоненную над котелком голову, две жилы идущие от затылка как две натянутые, резко
выступающие веревки, а его голос его губы вещали теперь снизу, если так можно
выразиться, в дне котелка: «Как должно быть здорово иметь в своем распоряжении
столько свободного времени что его можно терять зазря, как это должно быть здорово
иметь в своем распоряжении столько времени что самоубийство, драма, трагедия
превращаются в своего рода изящнейшее времяпрепровождение», и добавил: «Но у нас в
доме всегда было слишком много дел. И жаль. Никогда я не слышал разговоров о столь
утончепных и живописных происшествиях. Теперь-то я понимаю что это пробел нашего
семейства, прискорбное отсутствие вкуса, и вовсе не потому что не нашелся бы один
или два а возможно и десяток Блюмов которые в один прекрасный день не попытались бы
поступить точно так же, но несомненно просто они пе улучили свободной минутки,
подходящего мига и несомненно думали при этом Успею мол завтра, и откладывали свой
замысел со дня на день потому что завтра снова
550
приходилось вставать в шесть утра и тут же приниматься шить или кроить или таскать
тюки сукна завернутые в кусок черной саржи: после войны ты непременно заглянешь ко
мне, я тебя проведу по нашей улице, первым делом там находится лавка выкрашенная по
фасаду охрой под дерево а на витрине вверху на черном стекле золотые буквы: Сукна
Ткани Фирма ЗЕЛЬНИК Оптовая Розничная Торговля, а внутри одни только тюки тканей,
но не так как в тех магазинах где элегантный благоухающий одеколоном приказчик
снимет с полки деревянную дощечку вокруг которой намотана тонкая шерсть и
элегантным движением руки развернет ее на прилавке: у нас тюки толщиной чуть ли не
в ствол здоровенного дуба, и одного такого тюка вполне хватит чтобы одеть десяток
семейств, а ткани уродливые, грубые, мрачных тонов, и лавка где темно даже в
полдень освещается шестью или семью матовыми шарами висящими на конце свинцовой
трубки через которую пропустили вместо газа электрический провод но шары остались
все те же и висят здесь пятьдесят а то и шестьдесят лет, а соседняя лавка та
выдержана в красноватых тонах и кроме того разнится от предыдущей тем что цоколь у
нее выкрашен под мрамор зеленый со светло-зелеными прожилками, но вывеска тем не
менее тоже помещена в витрине и тоже на черном стекле с точно такими же золотыми
буквами, только на сей раз: Оптовая Торговля Подкладочные Материалы Шерстяные Ткани
3. ДАВИД и К° Французские Сукна, а внутри те же самые огромные стволы те же самые
наводящие тоску нужные в хозяйстве и уродливые ткани намотанные концентрическими
кругами, а следующая лавка снова выкрашена в тот же самый желтый цвет, цвет мочи,
под дерево, и па сей раз: Сукна ВОЛЬФ Подкладочные Материалы, а за ней широкие
ворота над которыми прибита длинная дощечка с надписью: Прокат ручных тележек
Уголь, угольщик помещается в глубине двора, и над вывеской, в узком полукруге над
аркой ворот, окошко даже почти квадратное которое очевидно соответствует комнатке
расположенной над воротами и глядя на это окошко я всегда ломал себе голову как это
человек может там стоять во весь рост а ведь в комнатке жили раз на окне висели
тюлевые гардины и стояли огражденные крошечной железной балюстрадой горшки с
цветами, затем шла стена выкрашенная красно-коричневой краской, и тоже лавочка
которая помещалась сразу после ворот, а вывеска там была написана
551
готическим шрифтом: Выдержанные Вина Старый Подвал Ликеры, потом снова витрина под
дерево, желтая: Оптовая и Мелкооптовая Торговля Ткани ЗОЛИНСКИЙ Готовое Платье
Мужское и Мальчиковое, а дальше уже угол улицы и напротив бистро: Кафе КАНАТОХОДЕЦ
Табак, написано красными буквами па белом фоне, витрина темно-красная со светло-
красными панелями, дверь разрезана надвое углом двух улиц и вечно распахнута
настежь, за исключением чересчур холодных дней, так что там всегда можно увидеть
двоих а то и троих типов облокотившихся о стойку (но все это не здешний народ не с
пашен улицы: рабочие, инкассаторы, коммивояжеры кого пригласили сюда что-то
починить кто сам заглянул по делам), и до блеска надраенные кофеварки, и официантку
за стойкой, слева от двери синий почтовый ящик, а над ящиком желтыми буквами на
красном фоне снова написапное вертикально слово: ТАБАК, а по другую сторону, то
есть справа от двери, узкая и длинная панель серого цвета с вертикальным красным
ромбом в котором опять-таки на-нисапо, желтым, слово ТАБАК, а под ним БУМАГА,
МАРКИ, а потом ниже два вроде бы астрагала каллиграфически выведенных кистью, два
двойных завитка, а потом еще ниже ТЕЛЕФОН, потом после кафе лавчонка, вернее говоря
никакая это не лавчонка потому что у нее и витрииы-то нет а просто большое окно и
дверь, фасад вплоть до второго этажа выкрашен в коричневый цвет, надпись белыми
буквами: МАНУФ-РА Вата Чесаный Хлопок и большой выбор Эполет, Мелкооптовая
Торговля, Всё для Портных, Меховщиков, Шляпников, Цветочниц, Футлярщиков,
Сафъянщиков, Полировщиков, Каретников, Ювелиров и так далее и тому подобное... я
мог бы и еще продолжить, шпарить все наизусть, откуда тебе угодно хоть в обратном
направлении, хоть с середины или с угла, я любовался этой картиной целых двадцать
лет из нашего окна с утра до вечера, всем этим и людьми в серых блузах которые
тащили подобно муравьям по улице огромные тюки шерсти казалось будто они только тем
и заняты что без конца эти тюки таскают и перетаскивают из лавки в лавку, из одной
кладовой в соседнюю, и во всех домах свет горел непрестанно с шести утра до
одиннадцати вечера а то и до полуночи, и если его все-таки гасили то лишь потому
что до сих пор еще не было изобретено средства круглые сутки шить тачать кроить и
таскать тюки или изготовлять фурнитуру к эполетам или отделывать моль-
552
тоном, поэтому если даже допустить мысль что некоей сотне Блюмов приходило в голову
уже не знаю сколько раз желание покончить с собой что впрочем вполне вероятно, ну
где скажи на милость они нашли бы я не говорю уже время но даже просто необходимое
для этого пространство, даже не...
— И все-таки такое случается, сказал я. Стоит только полистать газеты. Каждый
день в газетах такие вещи печатаются!» Оп поднял на меня глаза, мелкий частый
дождичек оседал крохотными серебряными, ртутными капельками на сукно его куртки,
серо-металлическая пыль покрывала плечо вылезавшее из-под крыши навеса, а тем
временем до нас долетало нестройное эхо, бессвязные всплески голосов, взрывы
страсти гнева вырывавшиеся из этого как бы получше выразиться: из этого постоянно
действующего и неисчерпаемого склада или вернее резервуара или еще вернее самого
принципа любого насилия и любой страсти который вроде бы бесцельно глупо и праздно
бродит по земле на манер тех вихрей тех тайфунов несущих в себе лишь слепую и ни на
что в сущности не направленную злобу и тем не менее случайно и яростно
обрушивающихся на то что попадется им на пути; теперь возможно мы узнали то что
знала та издыхающая лошадь с ее удлиненным бархатистым задумчиво-кротким и пустым
глазом в котором я однако успел разглядеть отражение наших крошечных силуэтиков,
тот глаз на окровавленном портрете был тоже удлиненный загадочный и кроткий и я
тщетно вопрошал его: Все это театр трагедия выдуманный роман, сказал он, ты сам его
приукрашиваешь дополняешь, а я Нет, а он При случае и просто выдумываешь, а я Нет
такое случается каждый день, мы слышали как эта выжившая из ума старушонка стопала
в доме терпеливо нескончаемо долго с сухими глазами, раскачиваясь взад и вперед на
стуле а колченогий тем временем бродил вокруг держа в руке ружье заряженное крупной
дробью и готов был уйти один ковыляя шлепая по пропитанным влагой полям раскисшим
огородам где отпечатки его ступней медленно затягивало со слабым всасывающим
звуком, да и генерал тоже в сопровождении штабных шлепавших по грязи еле переводя
дух еле поспевая за ним живым шустрым столь же иссохшим и казалось столь же
бесчувственным как старая чурка, пустил себе пулю в лоб что впрочем прозвучало не
громче чем если бы сломали гнилую ветку, и рухнул мертвый со своим маленьким
морщини-
553
стым жокейским личиком в своих ярко начищенных маленьких жокейских сапожках Что же
и его я тоже выдумал сказал я Что же и его я тоже выдумал? Мне представлялось как
шел он прихрамывая истерзанный сожранный этой пыткой точно несчастный пес животное
одновременно преследующее и преследуемое стыдом непереносимым оскорблением
нанесенным жене его брата он которого отказались взять иа войну которому не
пожелали доверить винтовку, А ну сказал он бросьте-ка ваше ружье вот так и
происходят несчастные случаи, по он ничего не желал слушать, видимо поэтому-то он и
держался за эту охотничью снасть за это ружьишко с каким был изображен символ что
ли или вовсе не символ, долгое время я верил что это несчастный случай па охоте
считал что поэтому-то она и пе желала купить мне карабин и все пересказывала
мусолила свои вечные семейные прадедовские истории, равно как она упорно
отказывалась разрешить мне учиться фехтованию под тем предлогом что де не знаю
какой-то наш родич был убит фехтуя потому что во время выпада противника с рапиры
слетел предохранительный наконечник если только она не вычитала об этом в газете в
рубрике происшествий преступлений несчастных случаев в рубрике великосветской
хроники, страсти развязанные вызванные к жизни прелестным телом Спящей Красавицы
наглухо замурованной надежно спрятанной там, хвост павлина еще слабо покачивался но
Леды не было видно так что же это за павлин какое божество воплощала тщеславная
пошлая глупая птица торжественно распускавшая многоцветные свои перья па лужайках
замков и на подушках привратниц? Я представлял ее себе в одном из этих обличий, я
мог трогать сжимать ощупывать ее груди ее шелковистый живот еле покрытый еле
прикрытый этой рубашкой откуда выступала ее шея похожая говорю я па молоко слышишь
говорю я единственная мысль которую она вызывала это мысль о том чтобы стлаться по
земле изгибаться как ручеек и жадно пить, платья похожие па рубашки, бледно-
сиреневые и зеленая лента сжимающая ее... да-да огромная разница с другим портретом
жестоким и жестким где она выступает этакой Дианой но тогда ей пристало бы иметь на
этом портрете лежащую у ног борзую гладкошерстую всю острую тогда как на более
позднем наоборот была бы к месту маленькая лохматая собачонка в кудерьках куда так
приятно запускать пальцы лижущая руку мокрым своим язычком катаясь от радости
554
повизгивая трепеща как рыба в воде... и вот снова пришла осень но за этот год мы
паучились не только сдирать с себя военную форму которая стала сейчас просто
смехотворным постыдным стигматом но также если можно так выразиться и свою
собственную кожу или вернее сказать с нашей кожи содрали то что как нам
представлялось годом раньше было ее неотъемлемым свойством, другими словами мы уже
перестали быть солдатами даже людьми, мало-помалу паучившись быть чем-то иным вроде
как животным которое ест что и где ни попадя лишь бы это что-то можно было
разжевать и проглотить, а на опушке леса росшего вдоль строительной площадки
попадались огромные дубы ронявшие устилавшие дорогу желудями и арабы ходили их
собирать, поначалу часовой покрикивал на них и гнал прочь но они снова налетали как
терпеливые упорные цепкие мухи и часовой в конце концов вынужден был сдаться и
пожав плечами делал вид что вообще их ие замечает однако внимательно поглядывал по
сторонам чтобы они не дай бог не попались на глаза какому-нибудь офицеру, я тоже
присоединился к ним и пригнувшись к самой земле делал вид что собираю желуди и
кладу их в карман а уголком глаза следил за часовым и когда он па минутку
повернулся к нам спиной бросился задыхающийся в чащобу я бежал на четвереньках как
зверь через кустарник через молодую поросль до крови раздиравшую мне руки но даже
не чувствовал боли бежал несся на четвереньках я был собакой с вывалившимся языком
я несся я задыхался оба мы были загнанные как собаки я мог видеть ее обнаженные
ляжки слышать хриплое дыхание ее полуза-дохшегося рта мокрый от слюны крик уходил в
смятые подушки а над плечом видна была щека как у спящего ребенка с припухшими
детскими истерзанными полуоткрытыми губами с которых срывались хриплые стоны а я
медленно овладевал ею брал ее растворялся в ней и снова мне казалось что этому ие
будет конца не может быть конца..., я был словно собака я на четвереньках
прорывался сквозь чащобу леса совсем как зверь потому что один только зверь
способен в такой мере не чувствовать усталости не обращать внимания на свои в кровь
разодранные сучьями ладони, я был как тот осел из греческих сказаний я весь
окаменел точно некий золотой идол золотой осел вошедший в ее пежную деликатную
плоть... из ее перехваченного горла рвались теперь лишь размеренные стопы вслед за
каждым нажимом моих бедер сколько их сколько
555
мужчин пластали ее только я был уже не мужчиной а зверем собакой больше чем
мужчиной животным раз я мог достичь этого познать я как Апулеев осел без передышки
седлал ее так что она вся раскололась раскрылась как плод как персик... с губ ее
рвался бесконечный крик и наконец наступила тишина и оба мы упали бездыханные бок о
бок руки мои все еще сжимали ее переплетались иа ее животе я чувствовал
прикосновение ее бедра покрытого потом обоих нас еще сотрясала дрожь одни и те же
глухие удары мы были словно некий единый зверь мечущийся в клетке натыкающийся на
решетку потом я мало-помалу освоился с темнотой, различил прямоугольник открытого
окна и небо светлее ночного мрака и в нем одинокую звезду потом вторую потом еще и
еще одну такие холодные алмазные неподвижные и я с трудом переводя дыхапие
попытался выпростать ногу из смешения наших тел мы были как бы единым
апокалипсическим многоголовым и мпо-гопогим зверем покоящимся во мраке, я сказал
Который сейчас может быть час? а она А какая разница чего ты в сущности ждешь Дня
что ли? будто от этого что-то переменится Неужели тебе так уж охота видеть наши
мерзкие хари? я попытался перевести дыхание стряхнуть с себя эту тяжесть вдохнуть
глоток свежего воздуха потом я перестал чувствовать тяжесть, только во мраке что-то
беззвучно копошилось, шуршало, я окончательно проснулся и спросил Что ты делаешь?
она не ответила, теперь уже можно было различить смутные очертания предметов правда
не слишком ясно, но возможно она видела в темноте как кошка я сказал Господи да что
же это происходит что ты там делаешь Скажи наконец, а она Ничего не делаю, а я
Ты..., тут я окончательно проснулся сел на постели и зажег свет она уже успела
одеться а одну туфлю еще держала в руке: на миг я увидел ее топкое слишком красивое
трагическое лицо две блестящие полоски на щеках, сейчас в этом лице было что-то
смятенное растерянное потом яростное жесткое жесткая складка губ когда она крикнула
Погаси сейчас же лампу я и без света обойдусь, а я Да что же это такое, а она
Погаси сказано тебе погаси погаси погаси слышишь погаси, потом грохот сброшенной с
ночного столика лампы звон стекла одновременно со стуком брошенной туфли и с минуту
я совсем ничего не мог разглядеть и сказал Да что это с тобой, а она Ничего, потом
я опять услышал в темноте какие-то шорохи почти бесшумные и догадался что она ищет
свою туфлю
556
удивляясь как это она обходится в таком мраке без света, и сказал Ну что же в конце
концов происходит, а она все еще шаря свою туфлю В восемь идет поезд, а я При чем
здесь поезд? Да что это в самом деле... Ты же сама сказала что твой муж вернется
только завтра, она не ответила продолжая суетиться в потемках теперь она очевидно
нашарила свою туфлю надела ее, я слышал я угадывал как она ходит по комнате взад и
вперед, и я сказал Господи боже ты мой! Я приподнялся было но она ударила меня И я
снова упал на подушки она опять ударила меня, лицо ее приблизилось к моему я
различил какие-то странные звуки словно булькала вода хотя она старалась сдержаться
мне почудилось будто она произнесла Оставь меня, потом Грязная сволочь, а я Что? а
она Грязная сволочь Грязная сволочь Неужели ты меня не можешь оставить в покое
никто еще со мной так не обходился как, а я Как я обходился? опа Никак Я для тебя
ничто даже меньше чем ничто, а я О-о, а она Я которая... Я которая..., а я Да ладно
тебе, а она Не смей ко мне прикасаться а я Да ладпо тебе, а она Не смей ко мне... а
я Я тебя провожу Нечего тебе ехать на поезде Я тебя отвезу на машине Я, а она
Оставь меня оставь меня оставь, из соседнего номера нам постучали в стенку, я
поднялся нашаривая в темноте свою одежду бормоча Черт! Где ж мои... но она снова
ударила меня в темноте наудачу ударила чем-то твердым, по-моему сумочкой, ударила
несколько раз подряд изо всех сил один раз угодила мне прямо в лицо в этих ударах
был какой-то странный привкус, что-то яростное как будто ощущение рассеченной скулы
ушло одновременно с болью ку-да-то вглубь как острый но не терпкий зеленый сок,
боль расходилась кругами, мне представлялась кожица, вкус ренклода когда сливы из
зеленых становятся синими созреют лопнут и выступит сладкий сок, я отпустил ее и
опять привалился к подушке ощупывая скулу и снова вслушиваясь как она быстро ходит
взад и вперед по комнате словно бы воочию видел ее точные и быстрые движения какими
женщины складывают вещи, наклоняются подбирая что-то я только дивился как это опа
управляется в темноте но без сомнения она видела в темноте, потом я услышал как
щелкпул замок ее чемоданчика потом перестук высоких каблучков быстро пересек
комнату и на миг я увидел свет лампочки горевшей в коридоре а лица ее не увидел:
только волосы, спину вырисовывающиеся на черном фоне, потом дверь захлопнулась я
различил по-
557
спешпо удаляющиеся становящиеся все глуше шаги потом ничего не стало слышно и
вскоре я почувствовал предрассветный холодок, натянул на себя одеяло, подумав что
осень теперь уже не за горами, подумав о первом дне пашей встречи три месяца назад
когда я был у нее и положил ладонь ей на плечо, подумав что в конечном счете она
можеть быть и права и что не этим путем другими словами с ней или точнее через нее
я сумею разобраться (по как знать?) возможно это все тоже было зря, столь же лишено
реального смысла как выводить на листках бумаги буковки похожие на следы мушиных
лапок и искать смысла в словах, возможно оба они были правы, он когда говорил что я
все выдумываю высасываю из пальца но ведь такое тоже встречается в газетах, так что
надо полагать между магазинчиками с желтыми витринами выкрашенными под дерево и
черными с золотом вывесками и кафе-табак, или между полуночью и шестью часами утра,
или между двумя штуками сукна, у них иной раз оказывалось достаточно свободного
времени и свободного пространства дабы заниматься такими вещами — хотя как знать,
как знать? И понадобилось также чтобы я был и тем кто укрывшись за живой изгородью
смотрит как он спокойно движется вперед, навстречу собственной своей смерти по этой
дороге, красуясь по выражению Блюма, заносчивый глупый гордый и пустоголовый не
соизволивший или возможно даже не подумавший пустить свою лошадь рысью даже не
слушая тех кто ему кричал не ездить дальше возможно не думавший даже о развратной
жене своего брата или вернее сказать о жене развращенной его братом по оружию или
еще вернее своим братом-кавалеристом коль скоро он в данном случае смотрел на него
как на равного себе или если угодно как на нечто противоположное коль скоро она
подставляла себя обоим (или скорее обоих их обставляла) одна и та же гурия
задыхающаяся екающая селезенкой фыркающая кобылка, продвигавшаяся вперед в мирном и
ослепительном послеполуденном свете он спросил меня
который теперь может быть час?
принимая в расчет что дорога чуть отклоняется на запад или восток и что я мог в эту
минуту видеть его тень верхом на коне укороченную справа и отбрасываемую назад под
углом примерно градусов сорок и то что сейчас была уже вторая половина мая и солнце
думаю было впереди и слева от нас (вот почему нас почти ослепляло да
558
еще этот гравий что ли, от недосыпа, словно под веки насыпали наждачную пыль и мы
видели лишь темную тенистую сторону деревьев, черепичные крыши, амбары, домики
блестевшие как металлические, как наши каски среди этой черно-зеленой зелени но
нивы были пе рыжие а зелено-желтые, и еще перед нами блестел асфальт шоссе) солнце
находилось где-то на юго-западе следовательно было примерно около двух часов
пополудни хотя как знать?
я старался представить себе нас четверых и наши движущиеся тени ползущие по
поверхности земли, такие маленькие, проделывающие в обратном направлении тот самый
путь примерно параллельный тому по которому мы ехали десять дней назад направляясь
навстречу неприятелю а тем временем линия фронта чуть переместилась поэтому
перегруппировка войск шла с юга на север примерно километров на пятнадцать —
двадцать так что движение каждого воинского соединения могло бы быть схематически
изображено стрелкой или вектором обозначающим передвижение различных родов войск
(кавалерии, инфантерии, стрелков) вступивших в бой с неприятелем на карте где места
этих боев нанесены крупным шрифтом ибо в памяти потомков должны сохраниться
названия каждого самого заурядного поселка или даже хутора или даже фермы или
мельницы или хижины или луга, вроде нижеуказанных
Четыре Ветра
Терновник
Рак
Волчья Скважина Ослиное Дно Прекрасная Тандиньерка Птичий Насест Чертова
Шерстобойка Белый Кролик Целуй в Зад Кармелитский Крест Блошиная Ферма Белая Ферма
Ферма Каприз Проволочная Ферма Поваленный Лес Королевский Лес
559
Долгий Бор Десять Журавлей Башмак Котел Поддувало Тростники Луг Скромницы Мартиново
Поле Поле Бенуа Заячье Поле
холмы нанесенные на карту в виде маленьких черточек расположенных веером вокруг
волнистой линии хребта так что кажется будто по полю боя пробежала выписывая
вензеля сороконожка, каждая воинская часть изображена в виде небольшого
прямоугольника от которого идет соответствующий вектор, каждый из них на всякий
случай изогнут так что представляет собой нечто напоминающее рыболовный крючок,
другими словами копьецо его отклонено от той части черты которая так сказать
изображает удилище, вершина кривой поэтому совпадает с той точкой где наши войска
вступили в непосредственное соприкосновение с неприятельскими войсками таким
образом вся операция в целом может быть изображена на штабной карте серией
параллельно расположенных крючков обращенных своим острием к западу, это
схематическое воспроизведение действий различных воинских частей по-видимому не
учитывает ни характера местности ни неожиданных препятствий возникающих в ходе боя,
действительные пути следования имеют в действительности вид разодранных
зигзагообразных линий и порой они пересекают друг друга путаются и следовало бы их
с отправной точки изображать толстой жирной линией которая постепенно истончается и
(как изображают на карте Африки пересыхающее русло реки поначалу бурный поток но
мало-помалу — в противоположность другим рекам которые чем дальше от истока и ближе
к устью становятся все шире — оп исчезает скрывается испаряется выпитый песками
пустыня) должна кончаться пунктиром состоящим из крохотных точечек разбросанных на
пекотором пространстве выстроенных друг другу в затылок и в конце концов тоже куда-
то безнадежно исчезающих
по как назвать такое: не война не классическая гибель или истребление одной из двух
враждующих армий а ско-
560
рее исчезнование поглощение небытием всего того что еще неделю назад было полками
батареями эскадронами отделениями людьми, или еще вернее: исчезнование самой идеи
самого понятия полка батареи эскадрона отделения человека, или еще вернее:
исчезновение всякой идеи всякой концепции до того полное исчезновение что генерал
дабы покончить с этим не находит ни малейшего резона который позволил бы ему
продолжать существовать и дальше не только в качестве генерала то есть в качестве
солдата но просто-напросто в качестве мыслящего существа и тогда он пускает себе
пулю в лоб
борясь с одолевавшей нас дремотой четыре всадника все еще продвигавшиеся мимо
пастбищ огороженных живыми изгородями мимо фруктовых садов архипелагов красных
домов то разбежавшихся в разные стороны то сдвинувшихся и выстроившихся вплотную
друг к другу по краю дороги так что получалась вроде бы улица а потом снова
разбредавшихся и мимо пустынных лесов разбросанных среди сельских просторов пятнами
похожими на зеленые разорванные ветром тучи ощерившиеся темными треугольниками
рогов
и пока еще настоящие солдаты раз они одеты в военную форму и при оружии другими
словами у всех четверых на боку сабля так называемая кривая сабля примерно в метр
длиной весом в два килограмма со слегка изогнутым тщательно наточенным лезвием в
металлических ножнах которые в свою очередь вставлены в чехол из коричневой ткани,
сабля и ножны прикреплены двумя ремешками, один называется ремешком седельной шишки
другой сабельным, с левой стороны седла между его крылом и лукой так что ножны
образуют под левым бедром всадника некое небольшое вздутие медный эфес сабли
находится слева от седельной шишки поэтому всадник при случае может легко выхватить
саблю правой рукой, сверх того у каждого из двух офицеров еще по револьверу
согласно уставу а у двух простых кавалеристов по короткоствольному карабину через
плечо.
к тому же эти пока еще настоящие солдаты оказались отрезаны от регулярных частей и
представления не имели что им сейчас делать и не только потому что старший из них
по чину (капитан) не получил никакого приказа (за исключением возможно приказа
достичь такого-то и такого-то пункта отхода, приказа вероятнее всего полученного
еще вчера или позавчера так что невозможно было
561
узнать не занят ли уже неприятелем этот самый указанный в приказе пункт (как то
утверждали раненые и беженцы встреченные по дороге) и следовательно можно ли было
считать этот приказ действительным и требующим исполнения) но также еще и потому
что ои (капитан) явно больше не был расположен сам лично их отдавать (эти приказы)
и равпо пе горел желанием навязывать свою волю остальным как это стало очевидным
педавно когда два фельдъегеря-мотоциклиста еще следовавшие за йами объявили что
отказываются продолжать путь а оп даже головы в их сторону не повернул чтобы
выслушать их даже рта не открыл чтобы запретить им дезертировать не сделал даже
вида что вынимает револьвер чтобы им пригрозить, хотя как знать?
пять лошадей продвигались вперед так сказать сомнамбулическим шагом четыре
полукровки из Тарба полученные в результате скрещивания и известные под названием
англо-арабской породы — два жеребца а под капитаном мерин и четвертая (на которой
ехал рядовой) кобыла — в возрасте от шести до одиннадцати лет, масти: капитанский
темно-караковый даже скорее вороной с белой пролысиной на лбу, под младшим
лейтенантом золотисто-рыжий жеребец, кобыла на которой ехал простой солдат тоже
караковая со звездочкой на лбу и в белых чулках (на задней и передней правой ноге),
у ординарца жеребец светло-караковый (цвета красного дерева) с чулком на передней
левой, а запасной конь (пристяжной в пулеметной упряжке) с обрубленными поводьями
(обрубленными саблей?) реквизированный першерон, гнедой или скорее рыжий или скорее
розоватого оттенка как винный осадок, с расплывчатыми серыми подпалинами, с серо-
желтым чуть-чуть волнистым хвостом, с белой отметиной на лбу, доходящей до самых
ноздрей и бледно-розовой верхней губой, словом таких зовут «беломордыми», гривы у
всех пяти лошадей подстрижены по уставу и похожи (кроме как у гнедого) на черных
бархатистых и курчавых гусениц так что когда лошадь откидывает назад голову кожа на
шее собирается в складки, хвосты длинные чуть ли не до самых бабок, одна из пяти
лошадей — младшего лейтенанта — засекается то есть зацепляет на рыси шипом подковы
левой задней ноги за подкову правой передней ноги, лошадь ординарца слегка
прихрамывает на заднюю левую ногу потому что очевидно поранила себе копыто на
железнодорожных пу-
562
тях так как позавчера вынуждена была скакать галопом по каменному балласту когда
взводу удалось ускользнуть от предыдущей засады животных не только не расседлывали
но даже не снимали с них уздечки в течение целых шести дней так что па спинах у них
верно образовались кровавые раны от трения седла и недостатка воздуха
хотя как знать, как знать? четыре всадника и пять ло-шадей-сомнамбул и вовсе они не
двигаются вперед но просто подымают и опускают ноги на месте практически они
неподвижны на дороге, карта вся бескрайняя поверхность земли луга леса медленно
проплывают под ними и мимо них и соответственно и незаметно меняется по отношению к
ним положение живых изгородей рощиц домов, четыре человека связанные между собой
невидимой и сложнейшей сетью сил импульсов притяжений или отталкиваний
пересекающихся и сочетающихся всякий раз по-иному дабы образовать если так можно
выразиться своими равнодействующими многоугольник взаимоподдержки этой группки
бесконечное количество раз перестраивающейся в силу беспрерывных модификаций
вызванных внешними или внутренними причинами
например простой кавалерист едущий позади и справа от младшего лейтенанта на какую-
то долю секунды увидел (в тот самый миг когда младший лейтенант повернул голову
чтобы ответить капитану) его профиль обличающий тщеславную или глупую натуру, так
что хотя простой кавалерист испытывал или считал лишь за миг до того что испытывает
равнодушие в отношении младшего лейтенанта вдруг осознает что равнодушие это самым
нелепым образом перерастает в некое чувство сродни неприязни и презрению но в то же
самое время, заметив сзади под каской юношескую почти детскую, худенькую и даже
хрупкую и даже явно хилую шею, а опустив глаза видит также его спину плечи чахлые
лопатки и только что родившаяся неприязнь уравновешивается своего рода жалостью и
оба эти ощущения жалость и неприязнь нейтрализуются и снова па смену им приходит
равнодушие
отношения между двумя офицерами без сомнения достаточно далекие однако окрашены
известной признательностью и взаимным уважением так как оба умеют держать себя как
хорошо воспитанные люди и это позволяет им вести пустые разговоры лишенные всякого
иптереса и
563
смысла что особенно ценно в такую минуту — уже на пороге смерти — когда усилия
обоих направлены на то чтобы сохранить выдержку и элегантность и перебрасываться
короткими пустыми фразами лишенными всяческого интереса и смысла
за капитаном примерно метрах в четырех следует его ординарец но ни разу первый не
оглянулся не заговорил со вторым хотя, если забыть об этой настоятельной заботе
сохранять элегантность, он куда охотнее взял бы его себе в собеседники чем младшего
лейтенанта (хотя как знать?) в силу более длительных и тесных связей которые
создались между ними по прихоти (потребности) первого в результате чего он женился
на молоденькой девушке почти вдвое моложе его и по той же прихоти ему пришлось
завести скаковую конюшню и нанять жокея который по прихоти этой молоденькой дамы
или скорее по плотской ее прихоти... Если только не по прихоти ее ума учитывая
чисто физические данные жокея на редкость мало-соблазиительного с виду, разве что
принимая в расчет не его внешние данные а те качества (например его ловкость как
жокея) какие заставили бы забыть его малособлазни-тельпое телосложение она видела в
нем (хотя как знать раз в дальнейшем — то есть когда война уже кончилась — она
упорно отказывалась признать что между ними когда-то могли существовать интимные
отношения, и даже пи разу не поинтересовалась что с ним сталось, не искала с ним
встреч (впрочем и он тоже не искал), так что очень может статься за всеми этими
туманными рассказами и злословием и хвастовством не было в сущности реальной основы
и наводили его на такие разговоры два юноши два пленника наделенные богатым
воображением и отлученные от женщип или вернее сказать они домогались от него этих
рассказов) если только она не видела в нем пекое орудие (так сказать фаллическое
что ли или приапическое) итак весьма удобное орудие в силу его рабски зависимого
положения и возможности пользоваться им всякий раз когда ей припадала охота утолить
свои элементарные физические потребности или возможно потребности умственного
порядка — такие как скажем вызов месть реванш и не только в отношении человека
который на ней женился (купил ее) и считал что владеет ею но еще и в отношении
целого социального класса с его обычаями принципами воспитанием запретами которые
она ненавидела
564
отношения между капитаном и бывшим жокеем обремененные сверх того такой вот
дополнительной зависимостью от которой практически невозможно отделаться и которая
создает между двумя человеческими существами огромное различие из-за их денежных
отношений а потом и иерархических, и все это еще усугублялось тем обстоятельством,
что каждый из них говорил на своем особом языке и это воздвигало между ними
буквально непроходимый барьер — за исключением всего что касалось технических и
страстно интересовавших обоих вопросов связующих их (имея в виду лошадей) оба
употребляли не только различные слова для определения одних и тех же понятий но и
одни и те же слова для определения совершенно различных понятий возможно капитан
сверх того затаил в душе злобу или зависть к тем талантам которыми обладал бывший
жокей в объездке лошадей и прочих созданий а жокей в свою очередь испытывал
совершенно естественным образом и без всякой задней мысли (коль скоро ему повезло
родиться в той социальной среде где из-за недостатка времени и досуга сей
паразитический субпродукт мозга (мысль) еще не успел произвести свою
опустошительную работу, некий внутренний орган заключенный в полости шейных
позвонков мог таким образом помогать человеку в отправлении его естественных
функций), испытывал как раз те самые чувства которые может питать человек вышедший
из трудящихся классов к субъекту от которого он зависит материально и —
впоследствии — иерархически, другими словами в первую очередь (кое-какие проблески
уважения симпатии или удивленного сочувствия могли родиться уже впоследствии)
почтительное восхищеиие (это относится к деньгам и к власти в них заключенной)
столь же уважительное как и полностью безразличное, капитан существовал для него
лишь в той мере в какой платил ему (за то что он скакал и выезжал его лошадей), а
позже сумел приобрести законное право давать ему приказания, словом любые связи и
чувства были именно в силу этого осуждены на исчезновение в четко обозначенную
минуту когда по какой-либо причине (разорение, ликвидация скаковой конюшни, наем
другого жокея или другого тренера) капитан перестанет желать или мочь оплачивать
его труд или же (в силу увечья, раны, смерти) им командовать
простой кавалерист и бывший жокей свободные как один так и другой (хотя по
различным причинам) от вс;:-
565
кой заботы об элегантности и утонченности, изредка обменивались двумя-тремя словами
и сама эпизодичность краткость на грани бессвязности этих реплик объяснялась
отчасти скрытным и необщительным от природы характером жокея, а с другой стороны
тем состоянием предельной усталости до которого они оба дошли, так что кавалериста
хватало лишь на то чтобы ехать следом (пли вернее пустить следом свою лошадь за его
лошадью) за капитаном в отношении которого он испытывал сейчас лишь смутное
удивление и бессильную ярость
хотя как знать, как знать? Итак примерно около двух часов пополудни, в то самое
время когда птицы прекращают петь когда цветы закрывают свои венчики и свисают
наполовину увядшие под солнечными лучами когда люди обычно уже кончают пить кофе
когда продавцы газет предлагают первые вечерние выпуски с огромными заголовками но
конечно еще не «Спор-Компле» или «Ла Вен», когда только еще прозвякает колокол,
объявляющий о начале первого заезда я проходя мимо заметил на кирпичной стене
старую выцветшую от дождей афишу объявляющую о скачках в Ла Капель, там на Севере
обожают петушиные бои и бойцовых петухов с разноцветными хвостами из которых летят
во все стороны синеватые с прозеленью перья, в этом краю лугов лесов мирных
прудиков созданных для воскресных рыболовов (но где они теперь рыболовы купальщики
мальчишки в полосатых трусах барахтающиеся в воде где выпивохи в кабачках-беседках
где качели для девочек — да и где они сами, эти девочки в коротеньких белых
платьицах их неуклюжие и свежие голые ножки...), фламандцы с ярким румянцем на
щеках и домики цвета бычьей крови, желтые рекламы Анис Перно на кирпичных фасадах,
утверждали будто они 8а пачку цикория передавали неприятелю секретные сведения,
планы, карты: возможно нам бы и удалось на следующий день ускользнуть не попасться
в руки врагу если бы у нас была хоть одна карта, если бы мы направлялись на север
вместо того чтобы, но для этого необходимо было бы знать, изучить дороги просеки в
лесах в рощах (мы крадучись и задыхаясь снова скользили от одной живой изгороди к
другой прислушивались сдерживая дыхание всякий раз когда пам приходилось пересекать
луг какое-нибудь открытое место) изгибистое дерево как рог леса песчаный карьер
кирпичный завод ложбинка проволочная изгородь откос насыпи, почва вся земля сплошь
5 66
инвентаризированная описанная занесенная любой своей складочкой на штабные карты
где леса были изображены в виде скопища маленьких кружочков лунок окружонных
точками словно бы их только что срубили, побеги молодой поросли вокруг спиленных
под корень стволов изображенные кистью пуантилиста (не мешало бы подпустить красок
к этой желтоватой рыжине только что поваленного леса) стволы и скопища точек
уплотнялись тесно сжимали свои ряды вдоль опушек наподобие какой-то непреодолимой и
таинственной преграды, мы могли видеть как эта пушистая темная зелень раскинулась
на южных склонах холмов, поэтому-то мы туда без сомнения и направлялись думая что
если бы мы смогли ее достичь но сначала нам следовало снова пересечь шоссе казалось
ничто кругом не шелохнется и однако же мы подбирались осторожно стараясь чтобы нас
не засекли, мы понеслись сломя голову через дорогу и в последний раз я увидел эту
дохлую клячу у меня хватило времени чтобы узнать ее и я подумал что теперь она уже
должно быть начала здорово разлагаться и от нее идет непереносимая вонь ну и
прекрасно что она гниет тут на месте что от нее идет смрад что она заражает своим
зловонием округу, так что вся земля все люди вынуждены будут затыкать себе нос но
никого не было кроме какой-то старушки которая несла бидон с молоком пробираясь
вдоль фабричной стены и остановилась словно бы в испуге а возможно просто в
изумлении увидев как мы крадемся точно воры
нечто вроде опустевшей театральной сцены как если бы уборщиков опередили грабители
или победители оставив на месте лишь то что сочли слишком тяжелым или слишком
громоздким чтобы унести с собой или вовсе ни на что пе годным теперь уже тут не
попадались даже выпотрошенные чемоданы я не заметил даже розовой тряпки и мухи тоже
будто исчезли но конечно они снова принялись за дело другими словами за еду с
жужжанием влетая и вылетая из ноздрей потом все так же поспешно мы обогнули стену и
больше я ее не видел, но в конце концов это была всего-навсего дохлая лошадь падаль
годная лишь на махан: нет никакого сомнения что маханщик появится тоже вместе с
тряпичниками и сборщиками металлического лома и разных отбросов и все они начнут
подбирать забьг тое или негодное к употреблению хламье теперь когда уже разошлись
актеры и публика, грохот пушки тоже стал удаляться, сейчас она била правее, на
западе, над деревень-
567
кой торчала высокая серая колокольня с куполом луковицей но как знать заняли они
здешние места или нет как знать как знать раз мы могли только видеть их загадочные
названия на дощечках-указателях придорожных столбов, тоже ярко выкрашенных какие-то
средневековые наименования например Льесса словпо лесная кермесса Энен точно плен
Ирсон как сон как угон, Фурми как термит красно-кирпичная вереница черных насекомых
ползущих вдоль стен и исчезающих неизвестно куда за косяк двери в трещины в любое
укрытие лазейку куда уже черному таракану не пролезть сплющивающиеся исчезающие
пропадающие всякий раз когда подымалось облако пыли и грязи от падавшего снаряда
неизвестно даже почему рвавшегося среди этого строительного мусора среди этого
городка где не было уже ровно ничего кроме этой трагической суетни муравьев и нас
четверых па наших загнанных клячах, но надо полагать у них имелся запас целый склад
который требовалось расстрелять, быть может они разгрузили снаряды нынче ночью и
били теперь наудачу только бы избежать лишней работы снова грузить снаряды на
военные грузовики, женщины укрывающие дитя вышедшее из их недр плод чрева своего
прижимая его к себе тащили с собой тюки лопнувшие красные перины из которых летели
перья лез пух медленно взмывая плавая в воздухе, недра белые внутренности домов
разматывались подобно лентам серпантину гирляндам иногда цеплялись за деревья кто
же был тот святой изображение казни которого я видел на картине где здоровенные
палачи наматывают на ворот синеватые окровавленные кишки вываливающиеся из его
живота, во второй раз я увидел такую же афишу должно быть их выпустили год назад
или около того но это были бега а не скачки, лошади были не верховые, я ехал сейчас
верхом не на своей лошади а на лошади какого-то безвестного по всей видимости
покойника это не имело такого уж большого значения однако я ужасно жалел о своем
новом электрическом фонарике и об окороке который мне посчастливилось вчера
обнаружить в одном доме хотя он был уже разграблен от подвала до чердака, скверное
дело служить в кавалерии прикрывать отступление проходить последними когда прочие
пехотинцы и артиллеристы уже все подчистили: все что #ам удалось найти из жратвы за
целую неделю был фруктовый компот единственная съедобная вещь которой они пре-
568
небрегли, мы пили глотали прямо из банок сладкий и липкий сок стекал по углам губ,
коль скоро пить приходилось прямо в седле всякий раз мы бросали на три четверти
полные банки которые с грохотом разбивались па обочине дороги везти с собой их было
невозможпо потому что из них плескался сок, жалел я также и о своих туалетных
принадлежностях мне так хотелось ополоснуть лицо помыться самому освежиться
почувствовать как по телу струится чистая вода все встречавшиеся нам трупы были до
отвращения грязные их кровь походила на непристойные испражнения как будто они
сделали под себя но подите прошу вас помойтесь на войпе у левой переметной сумки
висит прикрепленное ремнями парусиновое ведерко плоское сложенное гармошкой на
манер венецианского фонарика предназначенное в принципе для того чтобы поить
лошадей но главным образом мы пользовались им для бритья всякий раз когда я
вспоминаю об этих ведерках я вижу их полными водой затянутой как бельмом мыльной
пеной голубоватой пленкой в трещинках а на шероховатых стенках ведерка гроздья
слипшихся пузырьков, справа были щипцы для резки колючей проволоки, и я всегда
гадал что же этот дурачок покойник мог возить в своих вещевых мешках они верно были
битком чем-то набиты там грязные рубашки и кальсоны возможно и письма от женщины
которая допытывается Любишь ли ты меня, а как же иначе чего ей еще было падо раз я
все эти четыре года только и делал что думал о ней возможно там и носки которые она
ему связала так или иначе он был очевидно маленького роста потому что стремена
оказались для меня чересчур коротки приходилось подымать колени и я цеплялся ими за
переметные сумки тогда как у меня была привычка я хочу сказать я привык к
определенной посадке я хочу сказать что привык чтобы стремена были длинные . пе то
что у этих макак жокеев я все собирался удлинить стремена и твердил себе что надо
бы удлинить их на одну а то и на две дырки но был уже час пополудни а я все не
собрался думая надеясь что вот-вот он решит наконец перейти на рысь думал Черт
побери! надо смываться отсюда выбраться выползти хоть на брюхе из этой резни где мы
только и делаем что благородно едем прогулочным шагом являя собой великолепную
мишень но возможно чувство собственного достоинства не позволяло ему этого его
происхождение его каста традиции если только не самым
569
идиотским образом его любовь к лошадям потому что чтобы выбраться из этой засады
пришлось бы пустить лошадей галопом а он возможно просто считал что его лошади надо
дать отдохнуть если даже это будет стоить ему жизни ведь позаботился же он раньше
чтобы их свели на водопой: итак он продолжал ехать шагом ибо говорил в нем
атавистический инстинкт что надо дать хорошенько передохнуть животному от которого
ты должен с минуты на минуту потребовать бешеного усилия вот почему мы продвигались
столь аристократически столь галантно на торжественном черепашьем аллюре и он
продолжал словно бы ничего не произошло болтать с этим младшим лейтенантом конечно
о своих успехах на конных ристалищах и преимуществах резиновой уздечки при выездке
лошадей великолепная мишень для тех непонятных мятежников-испанцев надо думать с
дрожью отвращения внимающих слезливым проповедникам разглагольствующим о всеобщем
братстве о богине Разума и Добродетели для тех которые поджидали его в засаде за
порослью пробкового дуба или может оливковых деревьев я вот все прикидываю какой
дух какой запах исходил тогда от смерти может как и в наши дни нет в ней того
запаха пороха и славы что воспевали поэты но идет от нее тошнотворный омерзительный
смрад серы и пережженного масла черные маслянистые пушки дымят как печь которую
забыли вовремя закрыть и бушующий огонь разит пригорелым салом известкой пылью
нет никакого сомнения что ои предпочел бы не делать этого собственными руками
надеялся ли он что это дело выполнит за него кто-то другой, что он избежит таким
образом страшной минуты но возможно также он еще не знал в точности что она
(другими словами богиня Разума другими словами Добродетель другими словами его
маленькая голубка) ему неверна возможно только возвратившись домой он обнаружил
какое-нибудь тому доказательство к примеру спрятанного в шкафу конюха, что-то
подвигнувшее его, показав ему с неопровержимой очевидностью то во что он
отказывался верить или быть может то что запрещала ему видеть его честь, даже если
это происходило у него на глазах так как Иглезиа сам говорил что тот всегда
притворялся будто ничего не замечает и рассказывал что как-то раз он чуть было не
застиг их врасплох когда она дрожа от страха и неутоленного жела-
570
ния едва успела привести себя в порядок в конюшне а он даже не взглянув в ее
сторону направился прямо к стойлу где стояла та самая кобылка нагнулся пощупал ей
скакательный сустав и сказал только Ты уверен что этого средства будет достаточно
по-моему на передней ноге сухожилие еще опухло Думаю не мешало бы все же сделать
прижигание, и по-прежнему притворясь что ничего не видит задумчивый и ничтожный
ехал на своей лошади и таким образом двигался навстречу собственной смерти чей
перст уже был несомненно устремлен нацелен на него а я тем временем следил за его
костлявым застывшим в седле щегольским силуэтом вначале просто пятнышко не больше
мошки для залегшего в засаде стрелка тонкий вертикальный силуэтик в мушке
винтовочного прицела все увеличивающийся по мере его приближения неподвижный и
внимательный глаз его терпеливого убийцы указательный его палец на курке видевший
так сказать изнанку того что мог видеть или вернее я с изнанки а он с лица другими
словами оба мы и я следящий за ним и тот другой смотревший как он приближается оба
мы знали полный ответ загадки (убийца зная то что с капитаном сейчас произойдет а я
зная что с ним уже произошло, другими словами зная что потом и что до того, другими
словами как две половинки разделенного апельсина которые великолепно подходят одна
к другой) а в сердцевине этой загадки был он не знавший или не желавший знать что
сейчас произойдет так словно бы все это должно было произойти в некоем небытии
знания (говорят в самом центре тайфуна существует зона полного спокойствия), в
мертвой точке: ему бы требовалось зеркало многостворчатое чтобы он мог видеть
самого себя, свой все время увеличивающийся в размерах силуэт до тех пор пока
наконец стрелок начал постепенно различать нашивки, пуговицы на мундире даже черты
его лица, мушка выбрала теперь самое подходящее место на его груди, дуло незаметно
перемещалось, следуя за ним, на черной стали заиграло солнце прорвавшись сквозь
душистую весеннюю изгородь боярышника. Но и впрямь ли я это видел или мне
почудилось будто видел или просто начисто выдумал уже после того выстрела или это
все мне приснилось, возможно я просто спал все время спал с широко открытыми
глазами спал среди бела дня убаюканный монотонным перестуком подков пяти лошадей,
топчущих собственную свою тень идущих не в лад, так что
571
персбойчатое цоканье их копыт то сближалось то накладывалось на другое то минутами
сливалось и тогда казалось будто идет только одна лошадь, затем звуки снова
рассыпались расползались начинали как бы догонять друг друга и так до
бесконечности, война так сказать расстилалась так сказать вполне мирно вокруг нас,
пушка время от времени била по пустынным фруктовым садам с глухим величественным и
полым звуком так хлопает под порывами ветра в пустом доме входная дверь, весь
огромный необитаемый пустынный пейзаж под неподвижным небом, весь мир
остановившийся застывший рассыпающийся сдирающий с себя шкуру постепенно
разваливался на куски подобно брошенному, никому уже не нужному строению,
предоставленному непоследовательной, небрежной, безликой и разрушительной работе
времени.
вы слы ш и их?
РОМАН
ПЕРЕВОД
vous
LES ENTENDEZ?
Натали Саррот (урожд. Н. И. Черняк) родилась в 1902 г. в России, в г. Иваново. Во
Франции живет с 1907 года. Получили высшее филологическое и юридическое
образование. До 1939 года занималась адвокатской практикой в Париже. С начала 30-х
годов работала над книгой «Тропизмы» (опубликована в 1939 г.). Центральное понятие
эстетики Саррот «тропизмы.» определяет основные признаки ее романов («Портрет
неизвестного», 1947; «Мартеро», 1953; «Планетарий», 1959; «Золотые плоды», 1963;
«Между жизнью и смертью», 1968; «Вы слышите их?», 1972; «Говорят глупцы...», 1976)
как «новых романов», где изначальная духовная субстанция («тропизмы») фиксируется
писателем, отбрасывающим все элементы традиционной формы романа. Однако
первоначальная заявка Саррот на создание произведений, подобных абстрактной
живописи, не была осуществлена в полной мере. Психологические «вибрации», которым
писательница уделяла такое внимание, с каждой новой ее книгой насыщались
драматизмом социальных конфликтов, конкретными приметами современного мира. Со
временем «тропизмы» стали способом характеристики косных, обезличивающих традиций и
их опровержения со стороны молодых, непокорных представителей по внешности крепко
спаянного буржуазного клана. Пафос «оспаривания» приобретает в творчестве Саррот,
наряду с первоначальным, чисто эстетическим значением, и значение социально-
политическое.
С 1967 г. Натали Саррот публикует краткие диалоги, драматургические фрагменты,
своего рода «театр» («Молчание», 1967; «Театр», 1978), подтверждающий возросший
интерес писательницы к отражению действительности с помощью речи, диалога,
конфликта, что теснит «тропизмы» как воплощение абстрактных психологических
«вибраций».
незапно он умолкает, подняв руку, вытянув указательный палец, прислушивается... Вы
слышите их?.. Меланхолическое умиленье смягчает его черты... Им весело, а? Они не
скучают... Что вы хотите, возраст... И мы ведь, бывало, хохотали, как безумные...
до упаду...
— Да, правда... Он ощущает, как и его губы тоже растягиваются, добродушная
улыбка морщит щеки, так что рот кажется беззубым... сущая правда, мы были такими
же... Много ли нужно, чтоб их рассмешить, не так ли?.. Да, им весело...
Оба прислушиваются, глядя вверх... Да, юный смех. Свежий. Беззаботный. Серебряный.
Бубенчики. Капельки. Брызги. Легкие переливы. Щебет птенцов... Они вспархивают,
отряхивают перышки... Стоило им остаться одним, они о нас забыли.
Да, светлый, прозрачный смех... Так по-детски, прелестно звучит смех сквозь двери
гостиных, куда, отужинав, удалились дамы... Просторные светлые чехлы из набивного
ситца. Душистый горошек в старинных вазах. В каминах алеют угли, пылают поленья...
Звенит их не-винпый, задорный, чуть лукавый смех... Ямочки, розовые щечки,
белокурые локончики, округлости, длинные муслиновые платья, белые кружева,
английское шитье, муаровые пояса, цветы, приколотые к прическе, к блузке...
Рассыпаются чистые звуки их хрустального смеха... Им весело... Вы слышите их?
Джентльмены, сидящие вокруг стола, выколачивают свои старые обкуренные трубки,
посасывают бренди... Без-
ж
576
мятежное детство, поколение за поколением, отложило здесь толщи покоя, наивной
доверчивости. Они негромко, песпешно беседуют, на минуту умолкая, чтобы
прислушаться... ,
Да, им весело, такой уж возраст, один бог знает, что может их рассмешить... пустяк,
сущий пустяк, они сами пе могли бы сказать, что именно, для этого нужно так мало,
любая глупость, какое-нибудь словечко, и вот они уже покатываются, не в силах
остановиться, не зная удержу.
А ведь они устали... умаялись... позади долгий день, деревенский воздух, физическая
нагрузка... Они подносят руку к голове, похлопывают ладонью по рту, подавляя
неуместный зевок, встают по знаку, которым обменялись между собой... По едва
приметному знаку... Нет, никакого знака... Да, был, ну и что? Уже подошло время,—
не правда ли? — когда пристало и попрощаться... они подымаются к себе... Старый
друг, по-соседски заглянувший поболтать после ужина, провожает их благодушным
взглядом.
Теперь они одни, сидят друг против друга. Бутылки и бокалы на низком столике
раздвинуты в стороны, чтобы дать место тяжелой зверюге из ноздреватого камня,
которую друг осторожно перенес сюда с камина и поставил между пими. Его взгляд, его
рука уважительно, нежно гладит ее бока, спину, тупую морду...
То, что от пее исходит, то, что источается, излучается, течет, проникает в них,
впитывается ими, то, что их пол-пит, распирает, подымает... создает вокруг них
некую пустоту, в которой они парят, которой отдаются... Этого пе описать словами...
Но им и ни к чему слова, они не хотят их, они знают, что главное — пе подпустить
слово, не дать ему прикоснуться к этому, проследить, чтобы слова, тщательно
отобранные, просеянные, слова приличные, скромные, держались на почтительном
расстоянии: — По-истине, эта вещь у вас великолепна... Да, бывают такие случайные
удачи, случайное везенье... Т1омнится, я был однажды по делам в Камбодже, и вот, в
лавчонке старьевщика... сперва я подумал... а потом, представьте, приглядевшись
поближе...
19 М. Бютор и др.
577
Теперь смех утих. Улеглись все-таки. Нельзя же болтать всю почь... о чем? Мыслима
ли подобная чепуха, подобная чушь?.. Но теперь все, они разошлись, заперлись каждый
в своей спальне, наконец-то умолкли... больше ничего не слышно..* и сам воздух
словно разрядился, возникло ощущение раскрепощенности, свободы, легкости... теперь
оп, в свою очередь, протягивает руку и кладет ее на шероховатый камень... в ней, и
правда, есть какая-то... весомость... Я рад, что и вы тоже.., Есть люди, которые
паходят...
Ну вот, опять... потихоньку... легкими ударами... прерывистыми толчками... это
пробивается сквозь закрытую дверь, это просачивается... Однако другой, сидящий
напротив, продолжает спокойно говорить... Быть может, он уже не слышит? Или, быть
может, для его слуха это нечто вроде жужжания мух, стрекота кузнечиков...
Замерло... Снова.., И вправду скажешь, что кто-то осторожно буравит...
Но здесь они защищены. Какие мощные машины понадобились бы, чтобы пробуравить,
расколоть толстые стены, за которыми они укрылись с этой вещью, поставив ее между
собой... Забавная зверюга, не правда ли? Его рука ощупывает контуры, оглаживает
тяжелые каменные бока... Интересно, что это... может, пума, но... нет, она ни на
что не похожа... Взгляните на эти лапы и на эти огромные уши в форме раковины...
скорее всего какое-то мифическое животное... предмет культа.... никто так и не смог
мне сказать...
Серебряный смех. Хрустальный смех. Не чересчур ли? Не слишком ли театрально? Нет,
пожалуй... И все-таки, можно вроде бы различить... Да нет, вот негромкий взрыв, из
тех, что неудержимы... О, замолчи, ты уморишь меня, я не могу больше, нас слышат...
Взгляни только на него... ха-ха, нет, взгляни, вот потеха... Много ли им надо...
Пустяк, меньше чем пустяк... глупость... ребячество...
Что может задеть и поколебать нас, таких крепких, так прочно и прямо стоящих на
ногах... Нас, выросших среди душистого горошка, вазонов с геранью и бальзаминами,
перкаля в цветочек и белого кретона, старых преданных служанок, кухарок с лицами,
светящимися доб-
578
ротой, бабушек в кружевных чепцах, которые дают хлебнуть випца новорожденным
цыпляткам...
Да нет, к чему душистый- горошек, цыплята, бабушки. Возьмите первого попавшегося
человека, обыщите весь шар земной, даже среди самых беззащитных, самых одиноких,
самых растревоженных, недоверчивых, дрожащих вам не найти никого, кто мог бы... кто
мог бы или захотел?.. Мог или захотел?.. Не важно... кто мог бы или захотел
истолковать этот смех... Но как бы он смог? Кто, не будучи подготовлен... кто, не
будучи осведомлен, смог бы... когда старый друг со спокойной уверенностью
приблизился к камину, протянул руку и погладил... кто смог бы уловить угрозу,
опасность, пабат, паническое бегство, призывы, мольбы... Нет, только не -это, не
делайте этого, не касайтесь... только не сейчас, только не у них па глазах, только
пе в их присутствии, только пе перед ними... когда он двинулся... как мощный
ледокол, рассекающий, раздвигающий, с треском ломающий огромные глыбы... все
рухнуло... когда он осторожно поднял, перенес и поставил здесь, перед ними, молча
глядевшими на него... и потом невозмутимо отошел на~некоторое расстояние и стал
любоваться, причмокивая губами... эта зверюга... поистине великолепна. Превосходная
вещь. Где это вам посчастливилось?..— Нет, нет, это не я. Она была еще у моего
отца... Не знаю, где отец... Я, вы знаете, не коллекционер. Я сказал бы, даже
напротив... Словно это могло их обмануть, словно это малодушное отречение, это
ренегатство, которое они наблюдают, потешаясь, могло их смягчить, могло помешать
тому, что сейчас произойдет^ неотвратимо, предсказуемо во всех своих мельчайших
деталях, подобие свершению приговора, который с дотошной пунктуальностью приводят в
исполнение палачи, глухие к раскаянию, к воплям осужденного.
С этой минуты все уже было предрешепо, сжато в этом мгновении... Но что все? Ничего
ведь не произошло. Они встали, вежливо попрощались, они были так утомлены.,., а
теперь, как водится, оставшись одни, оживились, почувствовали себя непринужденно и
веселятся... Им так мало надо... достаточно пустяка... Какого пустяка? Да любой
глупости, гримасы, ужимки... этот маленький паяц, настоящий маленький клоун
неподражаем, когда корчит обезьяну, стоит ему засунуть язык под свою длиннющую
верхнюю губу, сощурить глаза, сгорбиться, почесывая рукой
под мышкой... Они всякий раз валятся от хохота... Им ведь все годится, не так ли? И
чего тут попусту ломать голову? Они молоды, им весело...
И пусть раздражительный старикашка вдруг встанет, сопровождаемый удивленным
взглядом друга, мирно посасывающего свой кофе, свою рюмку черносмородинной наливки,
пусть он, вопреки всем правилам благопристойности, подымется по лестнице, постучит
в дверь, яростно отворит ее, войдет... Ну с чего вы хохочете? Это, в конце концов,
невыносимо... и они умолкнут, в испуге забьются по углам, нимфы, застигнутые
врасплох сатиром, розовые поросята, беззаботно плясавшие, когда вдруг, рыча и скаля
длинные зубы, ворвался злой серый волк, цыплята, спасающиеся на самых высоких
жердях курятника, куда забралась коварная и жестокая лиса. Гадкий людоед, незваный
гость, педель... Ну, что еще? В чем мы еще провинились? Разве мы не вправе были
попрощаться? И все только из-за того, что мы не сразу разошлись,' слишком усталые,
чтобы тут же лечь в постель?. Как ‘«мог он слышать? Мы смеялись совсем тихо.J Но он
вечно привязывается, следит за каждым шагом, подавляет малейший порыв, мельчайшее
проявление беззаботности, свободы, вечно приглядывается, дозирует, судит. Разве они
не вели себя с должной почтительностью? Разве не подошли, как будто лицезреют ее
впервые, к этой святыне? Я даже положил — вы же все видели? — благоговейно руку...
Но ему все мало. Вероятно, после этого нужно было еще погрузиться в молитвенное
безмолвие и отправиться спать, храпя в душе набожный трепет... Нет, не отправиться
спать, как я мог об этом даже помыслить? Какая грубость! Какое святотатство!
Следовало прирасти к месту, замереть, слушать до рассвета, не испытывая никакой
усталости... Разве это не пробудило бы даже мертвого?
Ничего подобного, они ошибаются, они не правы, никакой он не педель, не
надзиратель... Пусть они простят его, опи, такие чистые, такие невинные, такие — он
хотел бы верить, он верит — такие стыдливые — ему не хватает стыдливости, это верно
— они не лтобят выставлять напоказ свои чувства, хотя питают, г/>г\\:ожно,
подлинное уважение к этим «ценностям»... пусть они простят это непотребное слово,
оп научил их ему, оп сам теперь краснеет
580
ва это... Он был бы счастлив остаться сейчас с ними, ему скучно там, внизу, вдали
от них... Почему они его бросили?.. Разве я не мог бы принять участие? Вы
понимаете, я как тот ирландец, вы ведь знаете анекдот? Увидев ссорящихся людей, он
подходит и спрашивает: — Не могу ли я принять участие? Или это частная ссора?.. Ха-
ха-ха, заливаются они... До чего смешно, пет, я не знал этого анекдота...— О чем вы
тут разговаривали, пока я там... Боюсь, он никогда не уйдет.!. Вы заметили, как оп
на меня посмотрел, когда я сказал, что отнюдь не коллекционер?
Ну разумеется, они заметили, слышали, оценили... вполне оценили... Они мгновенно
улавливают его малейшее душевное движение, как бы пичтожно оно пи было, они ведь
обучены, натренированы им, он ведь снабдил их самыми подробными картами, поистине,
картами генерального штаба, в которые его заботами поминутно вносятся уточнения,
опи отлично ориентируются па этой территории, уверенно занимают ее теперь... тонкие
струйки их смеха просачиваются во все уголки, пропитывают каждую складочку.
И вдруг иссякают...
Опи пемного выжидают... Хотят его успокоить, пусть себе думает, будто все уже
копчено, будто наказание длилось достаточно долго, будто там, наверху, рассудили,
что с него хватит... Опи упиваются его облегчением, бедняга не подозревает, что ему
не уйти от своего и недалека минута, когда, хочешь не хочешь, придется начать все
сначала...
И однако, так легко, так просто их раздавить, даже но раздавить, а просто стереть
начисто, одно движение, и от них следа не останется — ни кляксы, ни пятнышка...
достаточно наклониться к простаку, который благодушествует по ту сторону стола,
постукивая кончиком согнутого большого пальца по чашечке трубки, зажатой в его
крупной пухлой руке, достаточно потянуться к нему, довериться, открыть душу,
впитать слова, роняемые со спокойной уверенностью... не отдавая себе отчета в том,
какое они производят впечатление... Да и как бы мог он, так хорошо защищенный,
такой доверчивый, он, никогда даже не подозревавший о существовании тайных
сговоров, бесов, наваждений, сглаза, колдовства... И до какой степени это
неведение, эта наивность усиливают очистительную силу
581
слов, произносимых им так отчетливо, с благородной и важной медлительностью: — О
да, случается, подвезет... поистине, когда не ждешь. Помнится, был я тогда по делам
в Камбодже... И вот, совершенно случайно, в довольно грязной лавчонке, из тех, где
меньше всего рассчитываешь найти что-либо... среди хлама... базарного барахла,
фабрикуемого на потребу иностранцам... дешевых будд, птичьих чучел... не знаю даже,
что толкнуло меня войти... бывают дни, когда тобою движет своего рода
предчувствие... Я приподнял уголок ковра, мне показался довольно занятным его
рисунок... и там... я пе поверил своим глазам... маленькое чудо... да вы видели у
меня эту вещь...— Маленькая танцовщица? — Да. Именно она. Торговец даже не
подозревал... А я, разумеется, виду не подал... И, знаете, не ис скупости... Он
энергично кивает.— Да, я знаю. Конечно, дело не в этом. Тут совсем другое...
Да, он знает, он понимает... Важно быть единственным, единственным, кто знает толк,
единственным, кто открыл. Чтобы сотворить, чтобы дать вторую жизнь. (^Вырвать у
смерти, у разрушения, у опошления,; прижать к своей груди и, сдерживая желание
побежать, принести домой, запереться наедине с этим... с глазу на глаз... пусть
никто нас не беспокоит... и, достав свои инструменты, свои чистошерстяные или
льняные лоскуты, наждачную бумагу, замшу, кисти, щетки, растворители, масла, воски,
лаки, скрести, протирать, ждать, молить, уповать, отчаиваться, добиваться, снова
скрести, наващивать, будто от этого зависит собственная жизнь... прерывая в
изнеможении и снова берясь за работу, забывая о еде, о сне... пока, наконец...— Ах,
это даже прекраснее, чем я думал. Под слоем грубой краски ни щербинки, ни
трещинки... нетронутое дерево... великолепный материал... чудо, да вы сами видели
ее... Да, он ее видел... сияющую, царственную, окруженную почетом, восстановленную
в своих правах...— Да, она восхитительна...
Но я, видите ли... Я... должен признаться, никогда не был коллекционером...
Никогда, не так ли? Это им известно. Вы, там, знаете вы это? Никогда не был. Нет у
меня, с вашего разрешения, коллекционерской жилки. Нет этой струнки... Наоборот...
Они ухмыляются. Обратное коллекционеру?.. Эти оговорки... чего не скажешь, когда
они вот так сидят и слушают.,. Но это правда, сущая правда, он —
582
не коллекционер. Не£, это отнюдь не для него. И пусть они не валят его в ту же
кучу, не суют на ту же полку. К нему это не относится. Пусть они не запирают его
вместе с этими...
Опи ведь помнят, опи не могли забыть... Как им всем было смешно... как потешали их
эти безобидные психи, рыскавшие по рядам с металлическим старьем, с марками, по
блошиному рынку... со смеху умрешь, он хохотал вместе с ними... И не из
деликатности, не из вежливости... слишком вежлив, чтобы быть честным... Нет, ничего
подобного, нет, они не должны так думать, он смеялся от всего сердца, это было так
комично, лопнуть можно, они рассказывали с таким юмором, так похоже изображали...
того очкарика в казарме... как он метет двор... и вдруг останавливается...
наклоняется, поправляет на носу очки, опускается на колени... Что такое?
травинка... что там могло быть? какая-нибудь куриная слепота... и он осторожно,
благоговейно срывал ее, приносил показать... дышал на нее, чтобы расправить
крошечные лепестки... ждал наших восторгов... закладывал ее между листками
папиросной бумаги, чтобы засушить, а вечером, в казарме, наклеивал в свой альбом...
Нет, только не туда, не к нему, не ко всем этим старым младенцам с восторженными
лицами, наклоненными к земле, задранными к небу, не к тем, что рвут куриную
слепоту, тянутся с сачком за бабочкой... Нет, не туда, где они... где те, кто ищет,
роется, завладевает, тащит к себе, тщательно отбирает, классифицирует,
предохраняет, бережет, бесконечно накапливает, ревниво хранит для себя, в своем
распоряжении, чтобы наслаждаться в одиночестве, гордо выставлять напоказ... нет, он
не из этих... наоборот...
Наоборот. В нем нет ничего от коллекционера... они это хорошо знают... Да, знают...
Им это известно. Наизусть. Им эта музыка знакома... каждая нота... старая песенка.
Уши вянут... Наоборот... если я знаю — это принадлежит мне, понимаете... должен
сказать, вещь как бы блекнет, да, мое счастье... теряет полноту... замутняется та
ясность духа, та отрешенность, в которой я нуждаюсь... ну, в общем, вы понимаете...
Конечно, они понимают. Как мог он подумать, что опи не понимают? Или они
недостаточно натасканы? Или мало он таскал их за собой, пренебрегая усталостью от
долгих хождений по нескончаемым галереям, по анфиладам огромных залов,
изнурительностью долгого стояния, уны-
583
лого топтания под сонным взглядом сторожей, в давке поминутно прибывающих стад
посетителей, теснящихся бок о бок с ними, подвергаясь мучительному вколачиванию
объяснений, комментариев, от которых гудело в ушах и деревенело все тело... Но он,
нечувствительный ко всему этому, ничего не замечал, словно погруженный в
гипнотический сон, казалось, парил, отрешенный, относимый далеко от них, далеко от
себя... в то время как они рядом с ним переминались с ноги на погу, молча выжидая,
пока он выйдет из транса... Да... вы понимаете, я должен признаться, что
предпочитаю, со своей стороны... наоборот...
Друг внезапно откидывается назад, поднимает брови и встревоженно глядит на него...
Ах так! Наоборот... Почему? — Право, не знаю... Я неточно выразился... он мямлит,
краснеет... Естественно... я понимаю... но я хочу сказать... Они наблюдают,
забавляясь, но не без чувства неловкости за пего, за его неуклюжие попытки
выбраться из этого осиного гнезда, из этой топи, куда он, как сам замечает,
неосторожно сунулся... Я как раз хочу сказать, что я... в общем... Он увязает все
глубже, тонет... Должен признаться, лично я предпочитаю...
Что? Что он предпочитает? Пусть скажет. Да и говорить не надо. Всякому известно.(Он
предпочитает уверенность. Надежность. Не прилагать усилий, не искать, пе
сомневаться, не выбирать, не рисковатч^ Он предпочитает, чтоб ему все дали, любезно
предложили. Более всего ему по вкусу есть с ладони... из кормушки, которую другие
щедро наполнили отборной, гарантированной пищей... Спокойно наедаться до отвала или
деликатно поклевывать то оттуда, то отсюда, по своему вкусу, по своему минутному
капризу.
Вот что оп предпочитает, это яспо. Мало того. Одураченного простака, сидящего
напротив, надо предупредить. Знаете ли вы, с кем имеете дело? Понимаете ли, что
перед вами обманщик? Да, этот лептяй, этот трус, этот паразит выдает себя за
«знатока». Притязает на это. А с чего бы? Где доказательства? Да никаких. Этим-то
он и берет. Оп не нуждается в доказательствах. Он чувствует лучше всякого другого,
и этого довольно. Ему, вообразите, повезло — у него внутри есть некий прибор,
который тотчас начинает вибрировать, лакмусовая бумажка, которая непременно должна
изменить свой цвет... Он, видите ли, не может ошибаться, так уж он создан... К чему
доказательства?
584
Просто смешно, оп отказывается их предъявлять. Никаких доказательств — так
надежнее. Вы видите, что даже это, эту скульптуру, он же вам сказал, нашел не он,
нет, не он, он открещивается... Оп — не коллекционер... Наоборот.
Их^смех, такой светлый, прозрачпый... живая вода, род-пик, ручеек на цветущем
лугу... их смех, который оп сейчас грязнит, замутняет, выливая на них... откуда
только он взял все это? Очевидно, почерпнул в себе самом. A bw"kom же еще? Только в
себе. Он один. Он один несет все это в себе... Оп только и хочет, чтобы его от
этого освободили. Пусть опи его от этого избавят — те, что внимают с доброй улыбкой
па просветленном лице, те, что мирно постукивают своей старой трубкой,
прислушиваются, покачивают головой, ностальгически, растроганно вздыхая... Вы
слышите их? Они не скучают, а? Такой уж возраст. Им весело.
Веселые. Юные. Беспечные. Достаточно пустяка, чтобы их рассмешить. Только вот это
короткое тремоло... словно бы несколько нарочитое... искусственное... жесткие,
ледяные звуки барабанят как градины... ;И откуда это у нее с недавних пор, этот
смех бездарной актрисы? Все к пей липнет, все она подхватывает — жесты, ужимки,
слова, интонации, акценты... непрестапно кого-то играет... встряхивая локонами,
делая большие глаза, корча жен-щину-ребенка, юную невесту, обвенчанную против воли
с гнусным старикашкой... который внезапно вторгается к пей, разъяренный, потрясая
узловатым кулаком, мотая кисточкой своего ночного колпака... желчный старик,
которого все выводит из себя, который не терпит игр, даже невинного смеха...
ревнует — кто бы мог подумать? — к ее младшим братьям, сестрам... но она знает, как
за него взяться, оп не смеет с ней спорить, если она вот так, прямо, глядит ему в
глаза... Видите, он тотчас отводит взор, склопяется, идет к себе, пристыженный,
удрученный, молча усаживается... Он приемлет урок, наказание, ему хорошо известно —
заслуженное... Он покорно соглашается... Да, вы правы. Такой уж возраст. Да, это
верно, мы были такими же. Им весело...
585
Поистине потрясающе, восхитительно, что достаточно это запустить, чтобы дальше все
неотвратимо разворачивалось само собой с точностью тщательно отрегулированного
часового механизма. Без малейшего сбоя. Достаточно первого толчка, пусть даже
самого слабого... но тут не может быть ничего слишком слабого... чтобы пошли
крутиться мельчайшие колесики, безукоризненно сцепленные одпо с другим... Взгляд,
внезапно брошенный простодушным добряком, сидящим против него... этот взгляд, вдруг
внимательный, который упирается, впивается в доску камина, в самую ее середину, как
раз туда... движение, которое делает друг, выпрямляясь, подаваясь вперед, готовый
встать... В чем дело? С чего это он? Почему вдруг? Ведь это тут уже давно, и он
никогда... Какая нелегкая его взяла? Какой бес попутал?.. Ну вот, он подымается...
не вздумает же он... Нет, именно... бессознательно, точно лунатик по карнизу крыши,
он делает несколько шагов вперед...
Сам он тотчас отводит глаза, оборачивается к ним, неподвижно, молча наблюдающим за
тем, что происходит. Он, в свою очередь, встает, идет к пим, вытянув шею, моля
взглядом... он произносит слова, которые, он надеется, покажут им, что он ищет
подле них убежище, просит принять его, слова пароля, которые позволят ему перейти в
их лагерь: — Ну, хорошо погуляли? Как рыбалка?.. Ниже, еще ниже, он наклоняется,
опускает голову, поглаживает, почесывает спину их собаки, протягивает ей руку,
чтобы она лизнула, куснула ладонь... Ах ты, жулик... Ах ты, плутишка... Но они
неколебимы... бикфордов шнур уже подожжен, потихоньку тлеет... Ему удается,
несмотря на владеющий им страх, кинуть искоса взгляд... И он видит безумца,
который, стоя у камина, протягивает руки, подымает каменную зверюгу... несет ее к
низкому столику... подает им властный знак, которому они готовно подчиняются,
бросаясь, раздвигая перед нею бутылки и бокалы... благоговейно ставит ее и чуть
отходит. Замирает. Любуется. Как ни в чем не бывало. Тут. У них на глазах... Этого
ему не выдержать, он закрывает лицо, падает, сжимая руками их колени...
Но они, не глядя, отрывают его от себя, отталкивают... Право, следует помнить о
приличиях... Неужто нельзя быть поучтивее к своему гостю, к другу?.. Невежливо так
обрывать его... Послушай же, что он тебе говорит. Ты его слышишь? Он говорит тебе:
Какая великолепная вещь.
586
Надо отвечать, когда с тобой разговаривают. Да... они правы... оп подчиняется...
встает, подымает голову... Да... голос у него тусклый, ватный... Да, вы так
думаете? и тотчас, вповь, это сильней его, наклоняется, тянется к теплому,
трепетному, подпрыгивающему, к тому, что он любит, как и они, к тому, что, как и
опи, предпочитает,— к простой грубой жизпи, которую можно схватить руками,
стиснуть... Ах, милая собачка, иди сюда, моя хорошая... он поглаживает шелковое
брюхо, сжимает в пальцах бархатистые обмякшие лапы, теплые, шершавые подушечки,
словно высушенные на солнце...
Но безжалостно, несколькими тычками в спину, они призывают его к порядку... Хватит,
ну что за манеры? Можно ли быть таким невежливым? Встань же, погляди... Даже мы,
видишь, подходим, подаем тебе пример: Да. Она прекрасна. Да. Они качают головой,
как положено, с проникновенным видом... они обращаются к нему: Разве она не
прекрасна? Ты не согласен? Не находишь, что это и в самом деле великолепная вещь?..
Его взгляд послушно устремляется туда, куда направлены их взгляды, сливается с ними
и, несомый тем же потоком, течет, падая на то, что стоит тут, посреди стола: на
зверюгу, грубо вытесанную из ноздреватого, грязно-серого материала... Чересчур
прямая линия спины... Непропорциональные лапы... Чересчур коротки?.. Чересчур
широко расставлены?.. А ты... ты... моя красавица... он тянется, протягивает
руки... О ты... ты, ты... понизив голос, стиснув зубы... Ну, иди, иди сюда...
хочешь, чтобы тебя приласкали, да? ах ты, старая моя зверюга, милая моя собака...
ты это любишь... псина ты этакая... ах ты лизун... ах ты кусака...
Вспомни о приличиях, черт возьми, о достоинстве, степенности. Что за сомнительные
игры? На что это похоже? Нам, право, стыдно за тебя. Где ты находишься? Разве мы не
в приличном обществе? Не среди культурных людей? Посмотри на нас... Они теснятся
вокруг стола... Что это такое, как вы думаете? К какой эпохе это относится? Какого
происхождения, как вы считаете? Они внимательно слушают, уважительно покачивают
головой.
Раскаты их хо^бта все громче... они уже пе могут его сдержать.естественно, так
всегда бывает, если люди усталиТ^ли только что избежали опасности, в траги-
687
ческие минуты, в торжественных случаях, на официальных церемониях, на похоронах, на
свадьбах, при передаче полномочий, коронации... есть люди, это хорошо известно,
которыми вдруг овладевает вот такой безумный хохот. Они в эту минуту точно
школьники, выпущенные во двор на перемене... Они были так усердны, так
сосредоточенно слушали урок, что теперь, это не удивительно, им необходима
разрядка, они как с цепи срываются... Ну и вид у него был, когда он встал в позу
магистра, облаченного в тогу. Ты знаешь, он ведь преподавал... Что, бог мой? Не
завидую его студентам... Да историю искусства, разумеется, ха, ха...
Однако какая наивность, какая глупость приписывать им подобные речи... Ничего
похожего не было сказано... ни
о чем похожем они между собой не говорят... Никогда... это значило бы полностью
нарушить правила игры... Тогда почему?.. Взрывы хохота следуют один за другим, все
чаще и чаще... Неудержимо... Почему? Да пе почему... им достаточно пустяка, это
известно, им так мало нужно... Зачем доискиваться? Никакого, даже самого
отдаленного отношения к тому, что минуту назад произошло здесь. За кого их
принимают? Они слишком вежливы, слишком хорошо воспитаны, чтобы позволить себе вот
так, по горячим следам, едва оставшись одни, приняться обсуждать, критиковать...
Они прошли слишком хорошую выучку. Их покоробило бы, позволь себе вдруг один из них
такую несообразность, такое грубое упрощение...
Каждый из них прекрасно знает, незачем и сговариваться, что смех без причины,
поистине из ничего... из-за ерунды, чуши, пустяка, о котором и говорить не стоит,
которого потом даже и не вспомнить... как раз такой смех, то вдруг взрывающийся
хохотом, то, затихающий... и снова овладевающий ими, надолго... это — сигналы,
которые они подают ему и которых он не может не принять, нечто вроде информации,
являющейся результатом тонких и сложных химических реакций, выработанных на
протяжении долгой эволюции и обеспечивающих функционирование живого организма.
Склониться к другому, спокойно набивающему свою трубку, отодвинуть каменного зверя
на конец стола, к бутылкам и бокалам, поднять палец и сказать; Вы слышите
588
их? и прислушаться вместе... проверить.То Я не сошел 6 ума? Но мне кажется... Тот
замирает, напрягает слух... В чем дело? — Вы не находите этот смех... слишком
навяз* чивым...— Да, молодые люди, кажется, очень возбуждены... Вероятно,
сказывается усталость, вы так не думаете? после длинного дня...— Возможно... Он
кивает головой, ухмыляется...— Во всяком случае, они очаровательны. Похоже, очень
дружны между собой.— Да, очень... Да-да, не правда ли? Очаровательны... Такие
ласковые...
И в самом деле, это было трогательно, он ощутил волнение, когда опи наклонились к
нему, когда нежно похлопали по щекам, когда удалились, чтобы дать двум старым
безумцам, двум милым маньякам обсуждать без конца... Детский смех... свежие
голоса... шалости... втянутые коготки... легкие покусывания игривых котят, щенят,
которые точат зубки на ветхих рукописях, на древних фолиантах... девочки-
проказницы, вскарабкавшись на колени к старикам, теребят пальчиками седые пряди на
шее, щекочут... А те покорно терпят... Задрав голову, покорно подставляют лицо под
свежие капли ласкового дождя... Как они дурашливы в этом возрасте... Достаточно
пустяка, чтоб их рассмешить. Им весело.
Нужно взять себя в руки, встряхнуться... Пора заняться серьезпыми вещами. Другой
уже призывает его к порядку... Он протягивает свою широкую руку к зверюге,
выталкивает ее на середину стола, вертит, разглядывает... Невозмутимый. Абсолютно
спокойный и уверенный в себе, Очевидно, он ощущает себя в полной безопасности. Кто
мог бы посягнуть на него, когда перед пим — это?.. Пузырьки смеха лопаются,
стукаясь об это, смех отскакивает, отлетает рикошетом, возвращается к ним,
наверх... бумеранг... палка, которая ударяет бросившего ее... [Мирный голос
обволакивает пас, неспешно роняемые слова воздвигают вокруг пас стены, стоят па
страже... Чего бояться? Кто может этому угрожать?
Как кто? Разве вы не знаете, что, даже не двигаясь с места, просто обосповавшись,
запершись там, наверху, они могут развернуть огромные силы, они обладают
исполинской мощью... Одного невидимого луча, выпущенного ими, достаточно, чтобы
обратить этот тяжелый камень в нечто полое, мягкое... достаточно одного взгляда.
Даже пе взгляда, достаточно молчания... Вы не заметили только что? Вы ничего не
почувствовали, когда сказали: ей место в
589
музее... Вы не почувствовали за этим молчапием какого-то омута?.'.— Омута? — Да,
когда вы сказали, ей место в музее...—Действительно, я так сказал. Совершенно
верно: в музее. Готов повторить.— О, умоляю вас, скажите. Скажите еще раз.
Повторите это... с той же непререкаемостью... Держите меня... Они меня тянут,
отрывают от вас... Держите крепче... Мне не устоять... Вы слышите их? Они манят
меня, околдовывают, они затягивают мепя туда, к себе, к тому, что щебечет, скачет,
крутится, валяется, подпрыгивает, покусывает, расшвыривает, портит, рушит,
насмехается... к беспечности, безразличию, легкомыслию, ветрености,
взбалмошности... Держите мепя, пе то я схвачу эту гадкую старую каменную зверюгу и
ударю ее изо всех сил об стену... А вы, вы слышите этот шум наверху? Встаньте,
пойдем посмотрим... Они открывают дверь, наклоняются через перила... Что там?.. Они
спускаются...— Видите, что я с ней сделал? Идите сюда, садитесь... поближе,
позабавимся вместе, поставим пластинку вашего любимого певца, включим радио,
потанцуем...
Они втягивают меня... спасите меня, оградите, повторите еще раз: Ей место в музее.
Да. Именно. В музее... скорее... взять ее, завернуть, унести, надежно спрятать. Под
охраной. В безопасном месте. В витрине. За непробиваемым стеклом. Среди других
вещей — защищенных столь же надежно. Поместите ее туда навеки. Пусть покроется
патиной бесчисленных благоговейных взглядов. Пусть заботливый уход многих поколений
хранителей обеспечит ей бессмертие. И пусть те, сверху, извлеченные из их логова,
приведенные оробелыми группами пред очи бдительных стражей. Усмиренные. Кто посмел
чихнуть? Пусть они в молчании, осторожно скользя по натертому паркету,
останавливаются по знаку, по короткому приказу гида и почтительно выслушивают
освященные пояснения. Какой тупица, какой бесчувственный скот, там, сзади, позволил
себе отвлечься? Посмотрел в сторону? Улыбнулся? Выродки. Олухи. Ничтожества.
Балбесы. Ничего до них не доходит. Хоть вы и взялись за них с детства, когда они
казались еще мягкими как воск, восприимчивыми, водили их сюда, принуждали смотреть.
Полагая, что вещи, которые у них перед глазами, излучают нечто, способное пронять
самых тупых, самых твердолобых, самых непробиваемых. Принуждать бесполезно. Я вот
до сих пор помню, как бывал ошеломлен, когда отец... хотя это случалось нечасто...
но было таким счасть-
590
ем... Я был ему так признателен... Ну, а теперь посмотрите на них, взгляните на
этих привилегированных баловней, которые отворачиваются от сокровищ.
Но, быть может, сам того не желая, он слишком поторопил их? Если б он набрался
терпенья,, время сделало бы свое... Иногда ему удавалось заметить в их взглядах
какое-то внимание, какой-то интерес... И он тотчас, подобно кошке, которая, принеся
своим котятам крольчонка или птичку, садится в сторонке, смотрит, как они пожирают
добычу, и довольно мурлычет, облизываясь... он, едва бросив взгляд, чтобы
удостовериться, что благодетельные лучи, исходящие от каменных изваяний, от
живописных полотен, действительно падают на них, что они для этого на должном
расстоянии, на должном месте... Стань-ка вот здесь, где я, вот сюда, рядом...
Спиной к свету, тебе будет виднее... тихонько подталкивая их, куда нужно, забывая о
себе, ни на что не глядя... только на них, чтобы проследить, как пробивается в
них... порой не в силах удержаться от того, чтобы не помочь слегка, не поторопить,
хотя и зная, как это опасно... Ведь правда, красиво, да? Не правда ли, красиво?.. И
они, словно улитки, словно ежи, тотчас свертываются, втягивая рожки, выставляя
иголки, и вот перед ним уже только раковина, только колючий шар, к которому не
подступишься... Он сам виноват, конечно, он допустил промашку, слишком поспешное,
слишком резкое движение... они так чувствительны... такие недотроги... они не
терпят подобных прикосновений... с ними нужно обращаться возможно осторожнее...
Нежная плоть, липкая и мягкая, вся дрожащая, тотчас сжалась, они ушли в себя... до
них не добраться... Теперь их не заставишь высунуться... они замкнулись, может, на
несколько дней, на несколько месяцев, а то и навсегда...
Он ходит вокруг... заискивает... Не может быть, чтобы за его веселостью они не
улавливали отчаяния, мольбы... Оп пробует осторожно приманить их... показывает им
на расстоянии... ничуть не настаивая: забавно, правда... интересно... Взгляни. Но
именно этого слова, этого глагола в повелительном наклонении как раз и не следовало
произносить, оно просто подвернулось ему на язык, он ничего не навязывает,,. Здесь
ведь каждый свободен,,. Он говорит
591
сам с собой: Забавный тип, вон тот, с брыжами... Он был фаворитом... Ему чудится
какое-то шевеление в ощетинившихся иглами шарах, в гладких закрытых раковинах...
Что-то просачивается... какой-то след... Он был лучшим другом короля... Но потом...
Решительно, из них что-то сочится, тонкая струйка слюнообразной субстанции... Но
потом... Впрочем, ничего удивительного, у этого человека жестокий взгляд... И
рот... В складке губ есть что-то коварное, сразу видно, что он негодяй, вы не
находите? Они осторожно высовываются наружу, медленно подползают к отборной пище,
которую он им протягивает, ощупывают ее, поглощают... И он удовлетворен. Он такого
страха натерпелся, что ему не до былых притязаний, тут благодарно приемлешь
наименьшее зло.
Замерев подле него, прилипнув к тому, что он им показывает, они это впитывают,
раздуваются, а он их убаюкивает, кутает, холит и лелеет, смотрит на них,
разомлевших, блаженно улыбающихся... прислушивающихся к лязгу шпаг на узких темпых
улочках, в сводчатых залах замков, в дверных амбразурах дворцов, видящих, как
разлетаются шелковые плащи, как сверкают глаза под бархатными шапочками, в прорези
черных полумасок, как хлещет кровь из прорванных камзолов... Тихонько, слегка
пощекотывая, он осмеливается разбудить их, заставляет открыть глаза... Эта картина
написана в ту пору, когда он еще был первым фаворитом. Она написана в подарок
королю...
Они оборачиваются к нему... Опи ведь его простили, правда? Они ему доверяют?.. Он
может, не боясь, что они сожмутся... они ему позволят... он заслужил это
вознаграждение... эти жалкие чаевые... они мимоходом оставят ему эту мелочь... как
говорится, не глядя... это настолько несущественно, ни к чему не обязывает, простая
вежливость... Прежде чем отвернуться, они позволят ему заметить, словно бы про
себя: а эта штука все-таки недурно написана. Все-таки чертовски красива... Пустая
формальность, преклонить на миг колени, окунуть на ходу пальцы в святую воду, бегло
перекреститься... по привычке, по традиции. Даже неверующие это делают, если
приучены с детства... Он настороженно ждет от них малейшего знака согласия... Разве
этого не требуют в подобном случае просто правила приличия?
Но они, точно глухие, отворачиваются, они несутся вскачь, возбужденные, как с цепи
сорвались, толкаются,
592
обмениваются затрещинами, пинают друг друга локтями, хохочут... Посмотри только вон
на ту, посмотри, прошу тебя, ну и рожа...
Вот к чему, он ведь знал это заранее, должны были неминуемо привести его наивные
ухищрения, его трусливые поблажки... Они волокут его по залам, время от времени он
тяжело опускается на банкетку, уставясь на то, что случайно оказалось перед ним, и
ничего не видя... Все вокруг меркнет, отступает, замыкается, твердеет...
Ничто уже не трепещет, не излучается, не исходит, не льется, не растекается... Тут
ничего бвлыпе нет... Ничего стоящего... Ноздреватый камень, грязно-серый, грубо
отесанный... приземистая, кургузая, довольно бесформенная зверюга... Нет, не нахожу
в ней ^ничего особенного, не знаю, что это такое, я тут ни при чем, она была еще у
моего отца, в подвале... Но взгляните же на нее, поглядите, какая красавица, какая
хитрюга... Ах ты плутишка, поди сюда, зверюга ты этакая, добрая старая собака...
Ах, ты кусаться, тебе хочется поиграть...
Они пристально наблюдают, как он пожимает плечами, пристыженно отводит глаза,
краснеет, говорит с наигранным оживлением, поглаживая дрожащей рукой... все его
неуклюжие, жалкие усилия отмежеваться, отделить себя от того, который, ничего не
понимая, спокойно встает, идет к камину, протягивает руки...
Как хотелось бы — не правда ли? — предупредить его, предостеречь. Как нужно было
бы, но разве посмеешь, дать понять этому благородному другу, ничего не подозревая
забежавшему в гости, куда он попал, в какой вертеп, в какую мышеловку... мы
пропали, окружены... нас подслушивают вражеские уши, за нами шпионят вражеские
глаза... берегитесь, все, что мы делаем, все, что мы сейчас говорим, может быть
обращено против нас, может повлечь за собой тяжкие санкции... вот он подходит,
берет в свои руки... ничего не понимая, за тысячу миль, за сто тысяч миль от всяких
подозрений...
Да и в самом деле, с чего бы ему что-то заподозрить? С чего бы ему опасаться, этому
балованному ребенку, товарищу по давним беззаботным играм, этому иноземцу,
пришельцу оттуда, где царит иной порядок, другие законы... Где считают умственно
отсталыми, где избегают как париев, где объявляют вне закона тех, кто имеет
наглость
593
встать перед предметом культа, святыней, почитаемой всеми, и вызывающе прыснуть,
руки в боки, откинувшись назад: Ох, не могу, полюбуйся только на эту «красоту»! Ну
и рожа...
Как ему это понять, вообразить? Пусть бы ему даже обтзяснили, до него все равно
ничего б не дошло, он не поверил бы, ведь он вырос, всегда жил, нп на минуту его пе
покидая, в том спокойном, гармоничном мире, где каждый может совершенно свободно,
будучи уверен во всеобщем одобрении, встать и подойти с протянутыми руками, с
широко раскрытыми, горящими глазами, приблизиться вплотную, отступить на шаг, чтобы
лучше рассмотреть... Что это, скажите, за скульптура? Какая интересная... долго
созерцать ее и, непринужденно обернувшись к присутствующим, гордо заявить вслух:
Прекрасная вещь, вы не находите?
Ничего не поделаешь, приходится все это вынести... Нет никакой возможности сказать
ему, чтоб он держался начеку. Это значило бы выдать наши тайны, наши молчаливые
соглашения, преступить несформулированные запреты, которые известны только нам
одним и существования которых никто из посторонних не должен даже заподозрить. Все,
кто сюда приходит, должны быть убеждены, что и у нас никому не возбраняется... Ну,
не пытайся выкрутиться, к чему? делай что положено. Подойди ближе, как мы... у тебя
нет иного выбора...
Но я пе хочу... Я пичего не вижу... Ей-богу, я ничего не чувствую, в этом ничего
нет... Не толкайте меня, это провокация, я это делаю через силу, вы сами знаете,
под вашим нажимом, мой голос, вы сами слышите, глух, совсем слаб, губы мои с трудом
приоткрываются, чтобы повторить вслед за вами, коль скоро вы на этом настаиваете:
Да, красиво... И, видите, я тотчас отворачиваюсь, иду к вам, мои пальцы стискивают
ваши плечи, гладят ваши волосы... Ну а вы, расскажите лучше, что вы сегодня делали?
Как рыбалка? Хороший улов? — Нет, пичего особенного... Опи слегка потягиваются,
подавляют зевки... День был длинный, мы поднялись чуть свет... Наверно, нам пора...
Они встают... и в нем что-то обрывается, падает...
Пока они идут вверх по лестнице, уже пересмеиваясь, затем безжалостно закрывают
дверь, его голос, словно бы отделенный от него самого, идущего за ними следом, не
расстающегося с ними, его выпотрошенный, обмякший,
594
как снятое платье, голос никнет... Оп точно актер, который продолжает играть перед
залом, покинутым публикой, точно лектор, который пытается как ни в чем не бывало
говорить перед пустыми рядами стульев.
То, что до последней минуты еще держалось где-то в потайном закоулке, было грубо
выдрано... то, что воспрянуло, затрепетало в нем, когда они приблизились,
подталкивая его перед собой, чтобы он полюбовался вместе с ними... А если произошло
чудо... Если их в самом деле привлекло... притянуло сквозняком... током ветра,
ворвавшегося извне через брешь, пробитую посторонним, когда тот поднялся, движимый
властным порывом... если, предупредительно подчиняясь его повелительному кивку,
спеша поскорее расчистить место, отставить в сторону бутылки и бокалы, они увидели
в нем того, кем он был: уважаемого представителя великой мировой державы,
опирающейся на поддержку тысяч, миллионов людей... лучших людей... Это они — соль
земли. Они — сильные. Они — непобедимы. Неуязвимы. Им нет дела до... Они
пренебрегают тупым хихиканьем неотесанных скотов, лентяев, пропускают его мимо
ушей...
Тупицы? В самом деле? Вы так считаете?.. Вы полагаете, господин директор, что нет
никакой надежды?.. Затянувшееся молчание, которое кажется бесконечным...
Разумеется, в таких случаях не следует торопиться с ответом. Слишком это серьезно —
замкнуть в жесткие категории, наклеить ярлык на то, что еще подвижно, не устоялось,
изменчиво... Конечно, надежда всегда остается... Но... Прокашливаясь, смущенно,
раздраженно барабаня кончиком завинченного вечного пера по тетрадям, по классным
журналам, разложенным на его письменном столе, наклоняясь, чтобы лучше разглядеть
отметки...— Да, приходится признать... Есть во всем этом какое-то отсутствие
любознательности... какая-то атрофия... В пустоте, разверзшейся в нем, эти слова
отдаются эхом... резонируют... Атрофия... Да, отсутствие пластичности, гибкости...
Точно мышца пе работает. Сколько ни бьешься... Тут все преподаватели
595
единодушны. Некоторые объясняли это своего рода извращенными склонностями, волей к
разрушению, к саморазрушению... Нечто вроде яростного противодействия любой
ценой...— Ах так? Противодействия? Противодействия? любой ценой...
Наконец-то оп его видит, этот слабый свет в конце темной галереи, огонек... к нему,
скорее... Да, именно так: противодействие. Такое бывает, пе правда ли? Но тогда это
— моя випа... Ваша? Вы меня удивляете...— Да, моя... задыхающимся голосом... моя. Я
допустил оплошность. Эта потребность поделиться. Дать. Напитать. Не учитывая, что
для существа столь юного это несъедобно, отвратительно... Я сам виповат. Мой грех,
великий грех. Пенять остается только на себя. Это непростительно. Я сам
бесчувственная скотина...
Собеседник глядит на него снисходительпо, с жалостью... Как это все ему знакомо:
сперва огорчение, упи-женное смирение, негодование... Поступите, как найдете
нужным, накажите, исключите этого лодыря, этого маленького негодяя, он не
заслуживает того, что для него сделано... это будет ему уроком... пусть поработает
своими руками... Но посмей только тронуть, тут же бросаются прикрыть своим телом
дорогое дитя, защищают его от общего врага... Трогательно...— Мне кажется, вы
преувеличиваете. Вы зря себя корите. Есть дети, и я знаю таких немало, которые были
бы только рады... которые жадно набросились бы на все, что вы расточали с такой
щедростью.., Хорошие, живые ребята прежде всего любопытны, они тянутся к знанию...
То, что им даешь, подстегивает их... Вам ведь это знакомо... дает им толчок...— Да,
яспо, да, благодарю вас, да, понимаю...
Вставая, откланиваясь, сДасаясь бегством, убегая через мрачные дворы, покрытые
гравием, асфальтом, вдоль мерзких коридоров, пахнущих сырой пылью, дезинфекцией,
вдоль унылых застекленных классов, в которых посредственности покорно глотают
безвкусную жвачку... Покорные, слабые, такие, каким был он сам, он — самый
покорный, самый прилежный из всех, радость учителей, гордость родителей, он — пай-
мальчик, блестящий ученик, не сходивший с дос^почета, гордый своим, испещрепным
отличными отметками, школьным дневником и целыми стопками скучных книг, полученных
при ежегодном вручении наград, неподъемных от переплетов из искусственной кожи, от
толстой бумаги с золотым обрезом...
596
Убегая отсюда, туда, к ним... Торопясь поскорее присоединиться к ним,
присоединиться в них к той сокровенной частице самого себя, которую всю жизнь
помогал в себе подавить, которую считал похороненной и которая воскресла в них...
спеша поскорее вновь обрести это, лучшее, что в нем было...
Они сумели это сохрапить, сберечь в себе, они дали этому свободно расцвести в ярком
дневном свете, ничем не поступились, ни от чего не отреклись. Они, которые смеют —
которым хватает отваги,— когда они сочтут, что уже пора, если им вздумается, если
захочется, слегка потянуться, подавить зевок, встать как ни в чем не бывало,
попрощаться, уйти...
Но почему именно сейчас? Ведь еще минуту назад опп прислушивались, сами задавали
вопросы? Дело в том, что у них так легко портится настроение... достаточно
мелочи... Они порой реагируют на пустячную подначку, легко раздражаются... точно
цветы, лепестки которых неудержимо раскрываются* или свертываются под воздействием
света или темноты.
Гость слишком уж щеголял своей осведомленностью... они не выносят таких
демонстраций... несколько слов, сказанных ироническим, как бы извиняющимся тоном —
еще куда ни шло... Есть в них какое-то аристократическое высокомерие, какое-то
равнодушие, придающее им грацию, изящество... которого не хватает ему самому,
которого лишен он, неотесанный выскочка... нужно, как известно, пе-сколько
поколений... Не его ли они имели в виду... когда говорили — он почувствовал, что
краснеет — о взглядах, нестерпимых для них... «об этих взглядах, распаленных
интеллектом». Ему было неловко, не по себе, но он восхищался ими. Нельзя не
признать, в этом что-то есть... С какой вельможной непринужденностью они, будто и
не ища, невольно, находят порой такие очаровательные вещи...
Нет, дело не в госте... не только в нем... и сам он тоже... но он ведь просто
последовал за ними, не подтолкни его они, сам бы он ни за что не рискнул подойти...
Возможно, он позволил себе слишком много, был недостаточно сдержан... Возможно,
когда он слушал объяснения, задавал вопросы, на его лице, в его тоне проступило
597
неподобающее возбуждение... возможно, взгляд его «распалился»... Нет, если бы
только это, они отнеслись бы снисходительнее... это бы они ему еще спустили...
Тут было нечто большее... в его внимательном, проникновенном выражении они уловили
что-то подозрительное... какое-то легкое вздутие, припухлость... от их
присутствия... как образуется на коже волдырь от огпя... Воспользовавшись тем, что
они так мило подошли,— разве пе обязывала их к этому простая учтивость? — он
вздумал показать им, продемонстрировать им пример... Посмотрите... раз уж вы,
кажется, на сей раз готовы проявить добрую волю, взгляните, как это нужно делать...
каким нужно быть... Неспособный устоять перед соблазном, упустить случай преподать
им урок, заронить в них доброе семя... и тут же струсив, пытаясь замести следы,
этот игривый тон, невинные взгляды, похлопывания, ласки, объятия... Ах ты моя
хорошая, добрая старая собака... Что же вы ничего не рассказываете... Как
рыбалка?.. Но уже поздно. Что сделано, то сделано. Назад не воротишь. Это
заслуживает наказания.
Поистине это невероятно. Настоящий рекорд. Как мож-по смеяться так долго?.. Но
вспомните, в этом возрасте так мало надо, стоит начать одному... Кому именно? Да
все едино, хоть тебе,,ты подходишь как нельзя лучше, ты неизменный зачинщик, ты
руководишь, пусть даже не принимая в них сам участия, карательными экспедициями, ты
поднялся первым, первым пошел наверх, увлекая за собой остальных...
Они отступают, жмутся друг к другу. Что происходит? Где мы? Они ошеломленно
озираются. Мы ведь у себя, в нашей большой верхней комнате, в той, где всегда
собирались вместе, перед тем как пойти умываться, разойтись по спальням?.. Мы так
ее и прозвали — наша последняя гостиная для бесед... Мы зажгли колонку в ванной и,
пока не согреется вода — ничего не поделаешь, приходится ждать — болтаем,
смеемся... Что тут плохого? детские глаза широко открыты, из них изливаются,
захлестывая его, волны, каскады чистосердечия... благотворный душ... Прости, нам и
в голову не пришло, что наш смех вам меп!ает, мы ведь смеялись тихонько, считая,
что через закрытые
598
двери...— Нет, не в этом дело... Но поскольку вы сказали, что утомлены...
. Вот это уже лучше. Можно прийти в себя, к нам, в ясный надежный мир. Где царит
логика. Где одно вытекает из другого. Где вполне естественно, что отец беспокоится
о здоровье детей... Да, это так, тебе не приснилось. Это так, мы готовы признать,
ты можешь убедиться в том, насколько мы добросовестны, мы, действительно, сказали,
что идем спать... день был долгий... деревенский воздух утомляет... мы,
действительно, так сказали. Но потом, ожидая пока не согреется вода, мы оживились,
что тут особенного? Разве это не нормально, когда уже не нужно напрягаться, когда
кругом свои? — Да, нормально...— Ну... вот и пррре...красно...— Но только скажите
мне... раз уж вы, я понимаю, так искренни, так прямодушны... скажите мне только
одно... кроме усталости, вы действительно утомились, не отрицаю... было еще...
Соболезнующие, огорченные взгляды...— Было что? — Было... но вы станете смеяться
надо мной...— Да нет же, говори...— Вы сочтете, что я не в своем уме... Милые
смешки...— Не исключено, слегка не в своем... но что за беда?..— Давай,
выкладывай...— Ну вот, когда зашел разговор об этой скульптуре... И когда вы...
когда я... Они поглаживают его по голове, по лицу...— Нет, ты и правда не в своем
уме... ты и правда совершенно спятил, мой дорогой... Ох, не надо, меня снова
разбирает смех, не надо, держите меня, а не то — что еще ему померещится? Как еще
он это истолкует?.. Да ничего, ничего, вы видите, я и сам смеюсь, смеюсь до слез...
как смеются, избежав опасности, смертельной опасности, едва-едва ускользнув от нее,
и с каким трудом, о, если бы вы знали, оказавшись здесь, в милой домашней
обстановке, на свежих отглаженных простынях, в заботливых нежньЪс руках...
Если бы вы знали, что я видел... куда заглянул...— Ладно, ладно, потом... не
сейчас... Отдыхайте, выкиньте все из головы, забудьте...— Да. Я хочу только вам
сказать... это ведь был страшный сон? Этого не было, правда? — Да конечно же, не
было. Да конечно же, полно, это был жар, бред... И взбредет же на ум? Вы ведь не
выходили отсюда, из этой комнаты, такой уютной... душистый горошек, перкаль в
цветочек... вощеная дубовая дверь верхней комнаты, тихонько захлопнувшаяся за
молодыми людьми, уставшими за долгий день, которые удалились, мило попрощавшись со
старшими...
599
У пих такие открытые, такие ласковые лица... Опи, должно быть, очень дружны между
собой... Вам повезло... Даже такой закоренелый старый холостяк, как я, глядя на
вас, и то подчас сожалею... Если бы твердо знать заранее... Я смалодушничал, не
осмелился рискнуть... Взгляд его устремляется вдаль. На лице выражение мягкой
снисходительности, отрешенности... он знает, оп понимает треволнения, грехи тех,
кто остался в миру, кто избрал иное поприще, иной удел... не судите... они иные,
вот и все... у пих иные заботы... но это, вероятно, щедро вознаграждается... Он
прислушивается... Мне кажется, это помогает вам не чувствовать, что вы стареете...
своего рода вечное обновление...— Да, обновление. Да. Поистине так. Вы правы. Да.
Да. Да. Обновление.
Все куда-то отходит, колеблется, теряет реальность... точно перед припадком
падучей, перед приступом пляски святого Витта... Сдержаться, не показать вида...
вцепиться изо всех сил в то, что здесь, глядеть только на окружающее... на этот
мирный приют с его надежными вещами, на этого очаровательного старого друга,
заглянувшего по-соседски... Каким добрым ветром... Как приятно увидеться,
поболтать... Молодежь шумновата, утомительна... они отправились спать, дверь за
ними захлопнулась, мы одни, любуемся этим, этой скульптурой, стоящей здесь, между
пами, на низком столике... Великолепная вещь...
Но это подымается в нем неудержимо, это переполняет его, только бы не прорвалось
безумными жестами, непристойным криком... надо всеми силами избежать взрыва,
осторожпо приоткрыв предохранительный клапап, выпустив тонкую струйку, спастись от
удара с помощью легкого кровопускания... Да, да, да, да, вы правы, да, я счастлив,
да, подлинная радость... Но зпаете... я понимаю, это глупо... но признаюсь вам...
когда дорожишь, как мы с вами, определенными вещами, некоторая бесчувственность,
некоторое, да, некоторое пренебрежение... Тот качает головой...— Я понимаю вас,
думаю, это и мпе было бы неприятно... Но мне кажется, впрочем, я не слишком
разбираюсь... У него какой-то блуждающий взгляд, лицо словно подернуто пленочкой
скуки... Но мне думалось... Не считаете ли вы, что это можно воспитать, привить...
Уже немыслимо сдержать то, что рвется из него в корчах бессильной ярости, боли...
А, воспитать, скажете тоже... привить... Попробовали бы сами... Ползайте перед
600
ними на брюхе, браните, унижайтесь, выверните все внутренности им на потребу, они
паплюют вам в душу, все испоганят... О, простите меня, не знаю, с чего я...
извините, я выйду на минуту, совсем ненадолго, я только... я должен...
Оп вскакивает, поднимается по лестнице, поворачивает ручку двери... Почему она
заперта? Оп шепчет... Откройте...— Сейчас... подожди минутку... Мы заперли, потому
что она все время отворяется... Ты ведь не выносишь, когда хлопают двери... Вот...
нежные овалы невинных лиц, ясные, широко открытые глаза... Но в чем дело? — Да в
том, что уже поздно... Вы сами сказали... я думал... у вас не было сил высидеть ни
минутой дольше...— Ты хотел, чтобы мы там сидели? Надо было сказать...— Нет, я
ничего пе хотел, нет, ну ладно, хорошо, все хорошо, все в порядке. Он спускается,
кровь отливает от его лица, сердце колотится...
Простите меня. Сами говорят, что устали, а потом сидят и болтают, завтра будут
серые, как пергамент, станут жаловаться.
Теперь в тиши, в пустоте, это распрямляется, контур спины, брюха, морды, уха,
похожего на каменное колесо, делается четким... По ним пробегает легкий трепет...
волны расходятся...
Каким образом дурацкие смешки... какая в них сила?.. Что можем мы ей сделать, твоей
зверюге?.. Ах ты бедный безумец, нельзя же принимать все так близко к сердцу.
Усложнять. Всюду тебе чудится какая-то угроза, признайся... Опи взбираются к нему
на колени, щекочут ему шею, дергают за бороду... Мы не хотели ничего плохого...
Стоило тебе показать, что наш смех тебя раздражает, и мы сразу же, сам видишь,
перестали... мы хотели только чуть-чуть тебя подразнить, мы, сам знаешь, любим
поддразнивать, а с тобой разве устоишь? Ты же сам напрашиваешься... задорные,
игривые, озорные бесенята, нежные ласки прохладных пальчиков... шаловливый смех...
Ты будешь доволен, тебе будет приятно... Ну, скажи же, скажи, что мы похожи... ты
ведь знаешь, кого мы имеем в виду... Помпишь, ты сам смеялся громче нас, когда
пока-
601
зывал нам волшебный фонарь, устраивал кукольный театр... мы хохотали, хлопали в
ладоши, нам было до того весело вместе... Все эти маски, эти персонажи, которых ты
так здорово изображал: грузная девица со слишком коротко остриженными ногтями, с
выпирающим из-под них валиком...— Да, как у мадонн на полотнах фламандских
примитивистов...— Почему фламандских примитивистов? С чего ты взял? И потом, пусть
даже так... примитивисты или не примитивисты, фламандские или не фламандские...
смотреть... все равно было противно... уродлив, как она — квадратная, вся
раздувшаяся... рыхлая... дряблая... легко впитывающая... его выход встречали
взрывами смеха...
Никто не умеет лучше него имитировать ее голос, ее безапелляционный тон,
приглушенный точно в церкви, точно в музее... Взгляните на нее. Знаете, кого она
сейчас предпочитает всем? Пьеро делла Франческа, как нарочно именно его, чтобы
выделиться, не походить на других, ха-ха, и это именно сейчас, когда он — последний
писк... А знаете, как она провела три своих свободных дня? Она, представьте себе,
отправилась в Лондон... И зпаете, зачем? Они елозят на своих скамьях, кричат...
Нет, нет, скажи нам, мы не знаем... Так вот, вовсе не за тем, что видите вы, что
возникает перед вами — не так ли? — при слове Лондон... не за тем, что вспоминаем
при этом мы с вами... Зачем перечислять? Это наше общее достояние, наше неделимое
наследие, его нельзя дробить, нельзя портить... «Нет, я съездила в Лондон, чтобы
побывать на выставке японского искусства в Tate Gallery 1. Я не выходила оттуда.
Это восхитительно. Это поразительно...» Они откидывают волосы, которые еще хранят
свежий аромат мха, тины лесных рек, они раздувают ноздри, наполненные сочным
запахом лугов, полян, они приоткрывают губы, еще влажные от чая, от овсянки... и
смеются... а эти, нет, только поглядите на эту парочку, вы их знаете... ну прямо
близнецы... оба тощие, сутулые, одеты почти одинаково... и полное
взаимопонимание... идеальная чета... взгляните-ка, что они привезли из
Ленинграда... Догадайтесь. Держу пари, попадете пальцем в небо... репродукции
импрессионистов из музея Эрмитаж, что в Зимнем дворце...— Быть не может? Ох, нет...
это уж слишком... их душит смех... Нет, это чересчур, тут уж ты перехватил...—
Ничуть, клянусь... оп и сам едва говорит, покатываясь со смеху... Я сказал им:
^ate G а 11 е г у — музей в Лондоне. (Примеч. перев.)
602
Нет, право, это немыслимо... Неужели вас больше всего поразило именно это? В
Ленинграде? И вы никогда прежде там не были? «Нет. Никогда»,
О, подойдите ближе, прижмитесь ко мне, вы, кого я предпочел бы всем, если б мне
пришлось выбирать... вы — цельные, вы — чистые, невинные... цыплята, ягнята,
котята... за одно-единственное из ваших прелестных движений, когда вы проводите
рукой по лбу, когда прикрываете рукой рот, пряча детский зевок... когда вы
прыгаете, мчитесь, догоняя друг друга, вверх по лестнице, забыв о старых зверюгах
из ноздреватого камня, когда ваш звонкий смех...
Уж не он ли, не этот ли грузный, крепко сбитый человек, сидящий здесь, напротив
меня, с его непререкаемым: Ей место в музее... Да, конечно, все ясно. Именно это
вас рассмешило. Каждое слово на вес золота. Каждое слово — перл. Как он сказал? «Ей
место»... высшая похвала. Результат строжайшего отбора. Комментарии излишни, все
понятно без слов... «В музее»... среди саркофагов, мумий, рядом с фризом Парфенона,
Венерой Милосской... перед которой люди... он сам им рассказывал... сам принес им
этот красивый подарочек, любовно сунув его в башмак... перед которой люди прежде
впадали в транс, шок порой бывал так силен, что они теряли сознание... а теперь...
Ты сам был бы раздосадован, если бы и мы, мы тоже, замерли перед нею, окаменев от
почтения... ты бы сам потянул нас за рукав...
Но не бойся, нам это отнюдь не грозит, мы отлично знаем, перед чем сейчас
столбенеют некоторые... Но только... мы-то не столбенеем, нас не купишь, мы —
сильные, независимые... мы отворачиваемся, поворачиваемся к высоким окнам, за
которыми на дорожках у зеленых газонов кормят голубей пожилые дамы, бегают дети...
к тому, что не изучено всесторонне, не оценено, не классифицировано, не сохранено,
не набальзамировано, не выставлено напоказ, источая... Но как же никто не ощущает
здесь этого приторного, сладковатого запаха?..
Тишина. Внимание. Сосредоточенные взгляды. Созерцайте. Как долго придется стоять
недвижно? Когда будет дозволено ускользнуть? Разве не были соблюдены все приличия?
Разве мы не подошли, не рассмотрели все как по-
603
ложено?.. Даже дотронулись, погладили... Нет, ни за что, это уж слишком. Что они
вообразили, эти двое, первосвященники, тираны? Нет, наша покорность не зашла так
далеко. Мы проявили ровно столько почтения, сколько можно от нас требовать... А
потом убежали, укрылись здесь и вышли из берегов, катаемся по полу, кричим,
хохочем... Ну-ка дай мне это, я полюбуюсь... дай мне... Нет, погоди, я первый, нет,
позволь только поглядеть... Ах, вот это по мне... погоди же минутку, не вырывай у
меня из рук...
Наклонившись, голова к голове, листая глянцевитые страницы, бегло просматривая ни
на что не притязающие фигуры, линии, которые никогда себе пе позволят — и не
претендуют на это — задержать, приковать внимание, вызвать восхищение, выставить
себя папоказ... пи на что не посягают, в любой момент готовы к тому, что их от-
швырпут, забудут, вполне довольствуются тем, что хорошо выполняют свою роль простых
знаков, вешек на пути, по которому несутся вскачь, бешепым галопом, с грохотом
круша и взрывая все вокруг — бам, бум, трамтарарам — все подпрыгивает, тарахтит,
летит, разбивается, горит... мотоциклы мчатся к крутому обрыву, самолеты сшибаются
в небе, тебя подхватывает, в груди спирает дыхание, кружится голова, в вихре
безудержного хохота ты устремляешься к катастрофе, к небытию, все скорее, все
дальше, не останавливаясь... мы сорванцы, сорвиголовы, нам все нипочем... из наших
широко разверстых ртов, из-под наших широких зубов, похожих па металлические зубья
экскаватора, вырываются наши слова, заключенные в бумажные мешки, вроде тех, что
надувают, дыша в них, а потом хлопают дети, в шары, вроде тех, которыми они
размахивают, отпуская их потом, чтобы посмотреть, как те исчезают в небе, слова
общедоступные, серийные, стандартные, изношенные до основания, слова убогих, слова
нищих... плоские и пошлые... о, если бы ты знал, до какой степени... они заливисто
хохочут... даже не слова... это было бы чересчур красиво... мычание, блеяние
безмозглого стада, безмозглого как мы, балбесы, парии. Ты даже не способеп
вообразить, до какой степени балбесы, до какой степени парии... куда тебе... разве
ты способен спуститься за нами так низко, скатиться в такую пропасть... даже в
самых страшных своих кошмарах ты не смог бы увидеть всей глубины нашего паденья..-
604
Оставшись наедине, склонясь один к другому, оба друга поворачивают во все стороны
камень, стоящий между ними на низком столике... два скупца нежно поглаживают этот
драгоценный ларец, эту шкатулку, куда было помещено, где было надежно сокрыто,
навсегда схоронено нечто утешительное, нечто ободряющее, обеспечивающее им
безопасность... Нечто незыблемое, неколебимое... Преграда, поставленная бегу
времени, недвижный центр, вокруг которого обузданное время вращается по кругу...
Они за это держатся — водоросли, травы, волнуемые ветром, вцепившиеся в утес...
Странное дело... хотя и нет ничего общего... сам не знаю почему, но эта зверюга
напоминает мне... Не знаю, помните ли вы... в Берлинском музее, в отделе египетской
скульптуры, женская фигура, слева, сразу у входа... Да-да, кажется, я
представляю...— Так вот, в линии ноги, правой, выставленной вперед ноги... вот
тут... начиная от бедра... Он с неожиданной легкостью подымает свое грузное тело,
выходит на середину комнаты, слегка откидывает назад жирный торс, выдвигает вперед
ногу, проводит рукой от бедра к колену... вот тут... отсюда досюда... помните?..
Восхитительно...— Да-да, представляю...— Удивительно, не правда ли? Я был
ошеломлен. Однажды я говорил об этом с Дювивье... И можете вообразить, он пошел еще
дальше, чем я сам... Он сказал, что на него это произвело самое сильное впечатление
в музее...— Ну, думаю, тут он перехватил. Но я и вправду дал бы за это... Они
умолкают, погруженные в себя.
Их взоры одновременно сходятся на этой реликвии, вынесенной из дальних
паломничеств, долгих странствий во времени и пространстве, на этой тщательно
выбранной, выделенной, привезенной домой, сбереженной в целости и сохранности
частице, приобщенной к их общей сокровищнице... В ней оба они, подобно нежным
родителям, склонившимся над своим ребенком, сливаются воедино... Минуты полного
взаимопонимания...
Такого хрупкого, это хорошо известно. Кому не известна быстролетность самых полных
слияний. Опасно проверять слишком часто, слишком долго затягивать испытание, даже
между близкими, своими... Разве не достаточно какой-нибудь иной формы, иной линии,
привнесенной извне, чтобы души-сестры отпрянули одна от другой, разошлись,
605
замкнулись в себе? Разве не таков наш общий жребий, наш неминучий удел?
Но почему в таком случае, когда мы раньше... когда мы позволили себе... а что,
собственно, позволили?., поис-тине ничего особенного, меньше чем ничего... и рта не
раскрыли... Кто посмирней, так тот и виноват?.. Почему этот взгляд, полный злобного
презрения, когда мы встали, подошли и вежливо попрощались? Почему он всегда
настороже, всегда следит за нами, будто ждет появления каких-то знаков, стигматов,
явных симптомов скрытой болезни... болезни, ведомой ему одному?
Но как им попять, этим бедным детям? Как поверить — и однако, приходится это
констатировать,— что нечто, столь смутное, столь неуловимое, закрепленное в генах,
может, подобно наследственному пороку, передаться от матери ребенку?
Мог ли он сам предвидеть, что, несмотря на все его заботы и усилия, этот недуг
неумолимо разовьется в них и проявится с такой очевидностью., причинив ему ту же
боль, вызвав ту же растерянность, как когда-то... он был совсем молод, только-
только женился... когда, не в силах больше терпеть, потеряв к себе всякое уважение,
всякий стыд, нарушив все правила благопристойности, он обратился, заикаясь, и
немедленно получил нагоняй: Это что еще за новости? В чем дело? Опять недоволен?
Опять требуешь луну с неба? Ищешь к чему придраться? — Да, это придирка, правда?
ничтожная придирка, не так ли? Да, браните меня, я только этого и прошу...
Они возводят очи к небу...— О господи, надо же... Когда вокруг нас столько
обездоленных с их невзгодами, настоящими невзгодами, людей, которые никогда бы себе
не позволили...— Да, невзгоды. Настоящие. Признанные. Бесспорные.
Каталогизированные. Классифицировап-ные. Внесенные в картотеки. Вы ведь знаете,
какие невзгоды настоящие, правда? Вот это мне и нужно. За этим-то я к вам и пришел.
Чтобы узнать, не фигурирует ли где-либо и моя «придирка», не признана ли случайно и
она, не занесена ли в списки...— Я был бы удивлен, зная вас...— Но, может, ее
найдут как дополнение к чему-то действительно важному... как нечто, из него
вытекающее, в некотором роде производное?..
Пожатие плечами, обреченный вздох: Ну ладно, пока-
606
жите. Сколько времени вы женаты? Вялый голос: Почти три года... Но мне кажется, тут
вы понапрасну теряете время. Следует искать среди счастливых супружеств. В
картотеке безупречных браков. Но я понимаю, что нет ни малейшей надежды... Мой
случай не мог быть предусмотрен...— Какой случай? — Ну... Тут — вопрос вкуса...—
Ах, у вас, значит, нет общих вкусов? Данная проблема у нас разработана
досконально... Следовало бы просмотреть разделы: путешествия, природа, спорт,
средства передвижения, знакомства, приемы, светская жизнь, дети, домашние животные,
деревня, город, побережье, горы...— Нет, думаю, здесь ничего не найдется... Речь
идет скорее об эс... эстетической восприимчивости...— Вы художник?— Нет, отнюдь.
Просто... Ну просто, мне нравится... Ну, для меня важно...— Тогда следует
обратиться к разделу: вкусы художественные.— Ох, это слово...— Знаете, те, кто
является сюда, должны отказаться от некоторых претензий. Сюда приходят за
консультацией самые разные люди. По большей части очень простые. Даже примитивные.
Снобы, вольнодумцы обходятся без нас. Эти поступают, как им вздумается. Он опускает
нос...— Да, я знаю.— Ну так вот, поглядим на «вкусы художественные»... Листая
карточки: «Музеи»? — Да, если угодно...— Ваша жена не любит музеев? Когда
путешествуешь, это, разумеется, может создавать известные трудности. Но в
повседневной жизни...— Дело не в этом...— Она предпочитает фрески Рафаэля плафону
Сикстинской капеллы? И это вас огорчает? — Нет, не смейтесь, это куда серьезнее...—
О, конечно, «серьезнее»... патетически качая головой... следовало бы сказать
«трагичнее»!
За соседним столиком седовласый старец бросает косые взгляды поверх очков,
наклоняется, шепчет: Но это чудовищно, она совсем не любит...— Как? Совсем не
любит? Искусство? Совсем? Действительно, вам следовало обратить на это внимание
раньше. Тем более что у людей вашего круга зачастую все начинается с посещений
выставок, музеев...— Нет, дело не в том, что она не любит. У нее, конечно, свои
вкусы...— А не ваши, пе так ли, тиран вы этакий? И из-за этого вы мучаетесь,
теряете любовь, растрачиваете сокровища... отнимаете у нас время... Стыдно. Какой
балованный ребенок...— Нет, нет... цепляясь, умоляя, нет, только не думайте так, я
принес бы в жертву... я безропотно, возможно, лучше всякого другого, стерпел бы...—
Да, все так говорят...— Нет, правда, уверяю вас... Но ко-
607
гда я стою перед какой-нибудь'вещью, которая излучает, наполняет меня... перед чем-
то, за что я бы отдал... и вот, если она тут, рядом со мной, этого достаточно,
чтобы я ощутил исходящее от нее противодействие... своего рода заслон... ничто
больше не проникает, все меркнет, гаснет... И мое чувство к ней тоже... словно она
совершила... Я знаю, это непростительно, я презираю себя, я чудовище... Кто может
мне помочь?..
Они сокрушенно поджимают губы, склоняются, ищут...— Вы правы, ваш случай не
предусмотрен. Впрочем, к счастью. Куда бы это нас привело? Кому под силу ответить
на подобные требования? Смиритесь. Подавите ваши дурные чувства. Посмотрим, что
могли бы мы ему дать, чтобы помочь, когда это па него находит?.. Все, чем мы
располагаем, слишком грубо, слишком примитивно...— Но именно этого я хочу. Именно
за этим я к вам пришел. Мне необходимо что-то широкое и тяжелое, чем можно
придавить все это, когда оно начинает шевелиться, копошиться во мне... нечто такое,
что можно вовремя положить сверху, в минуту, когда я почувствую, что это
подступает...— Поищем на: «Поговорки». Vox populi1. Народная мудрость... Больше
ничего не нахожу... Покажите... Как видите, только одно это — «О вкусах не спорят».
Он жадно хватает, кланяется, благодарит... Вы должны повторять это про себя, вбить
себе в голову, может, это принесет вам облегчение: «О вкусах пе спорят». Я понимаю,
это не совсем то, чего вы ждали. Но как знать? Если вы будете твердить это
достаточно часто... Есть люди, в какой-то мере вашего типа — правда, пораженные не
так глубоко, покрепче, чем вы, с лучшей сопротивляемостью — но, в общем... которым
это помогало.
— Да-да, благодарю. «О вкусах не спорят». Да, нельзя желать невозможного,
требовать луну с неба... О вкусах не спорят... Все свободны. Все одипоки. Каждый
умирает в одиночку. Таков общий удел. Да, это так. Благодарю, Да. О вкусах...
— Не все, представьте, с нами согласны. Отнюдь не все... Тот вынимает трубку
изо рта, держит ее в поднятой руке...— Кто, например? — Ну, хотя бы Готран... Он,
пред-
1 Глас народа (лат,).
608
ставьте, тщательно изучил эту зверюгу и нашел... он считает, что это скорее вещь
эпохи упадка, поздпяя копия распространенной модели... В общем, она его не
восхитила...— Вот как... друг перемещает чубук трубки во рту, в его пристальном,
застывшем взгляде удивленье... Должно быть, ему кажется несколько странной эта
внезапная взвинченность топа, неожиданная агрессивность в голосе... Что вам до
мнения Готраиа? Он всегда так боится попасть впросак, не сойти за тонкого
знатока... Поздняя эпоха или нет... Копия или нет... Мне кажется, достаточно
посмотреть... Он протягивает свою пухлую руку, спокойно кладет ее на спину
зверюге...— Вы в этом уверены? Вы так думаете? Готран ведь неоднократно выводил па
чистую воду мнимые ценности... голос его дрожит... Он разбирается в этом лучше
многих других... я и сам, должен сказать, временами спрашиваю себя...
Гость отдергивает руку, в его глазах к удивлению примешивается страх...
растерянность человека, который полагал, что находится в обществе друга, и внезапно
замечает, как меняется лицо, голос, тон собеседника, ощущает на своем запястье
леденящий холод наручников, слышит щелчок, пе верит себе... вырывается...— Но я не
понимаю... Вы сами только что... вы говорили мне... Он слышит короткий смешок...—
Но кто такой я? Какие я представил доказательства? Разве мне принадлежат, как
Готрану, ка-ние-нибудь открытия? Разве я обладаю коллекциями? Я и сам, пожалуй...
вот сейчас, когда повернул ее этим боком, нахожу, что у нее странный вид...
дешевый, не правда ли? ха-ха, пошловатый... Не смотрите на меня так. Я-то вовсе не
уверен, что у меня безукоризненный вкус... я могу и ошибаться, а? Разве нет? Я
готов это признать. Я готов подчиниться... Не протестуйте. Я ни на что но претендую
и готов отречься от ошибочных суждений. Я склоняюсь перед авторитетами, когда они
правы. Сам удивляюсь, как я мог...
Надо было совсем потерять рассудок, чтобы разойтись с самыми близкими, порвать
такую нежную связь и восхищаться этим убожеством, впадать в экстаз перед этой
грубой поделкой... Но теперь все... Конец метаньям. Конец разладу. Я — ваш,
слышите, вы, наверху. Вы мне родные, вы мои близкие... Они спешат ко мне...
обнимают... Ты же видишь, мы с тобой, больше мы никогда не расстанемся, все
забыто... Нет, не сжимайте мепя так крепко... Нет, пустите меня, я не хочу, я
боюсь... Нет, оставьте ее в покое,
20 М. Бютор и др.
609
не отнимайте у меня, она мне все-таки дорога, эта зверюга, поймите... Если я
откажусь от нее... Не прикасайтесь, это свято. Чтоб ее защитить, я готов... Ради
нее...
Они мягко разжимают его пальцы, они подымают ее, поворачивают на свету...
никудышная вещь... Сильные, нежные руки держат его... Он бормочет... Никудышная
вещь... Да, это правда... Вы знали? — Пу, ясно, знали. Это же бросается в глаза,
пойми. Забудь о ней, вырвись отсюда, погляди на нас. Их свежие, веселые лица
окружают его, он купается в их свежем смехе... Ну, не прелестны ли они... Им не к
чему изучать эпохи расцвета и упадка, достаточно беглого взгляда...
Их быстрый, гибкий, легкий ум ни иа чем не задерживается, подхватываемый,
колеблемый, влекомый всем, что подвижно, что развертывается, ломается, скользит,
бурлит, исчезает, возвращается... медленные, едва заметные зарождения... внезапные
вспышки, неожиданности, повторы с их бесчисленными оттенками... отражения...
переливы... Ничто так пе отвращает их, как неподвижность, остановка, когда что-то
может наполнить их и погрузить в дрему, подобно наевшимся до отвала, блаженно
улыбающимся младенцам... а как раз этого ты хочешь, как раз этого жаждешь, бедный
старый безумец... Но забудь об этом, откажись, иди сюда, устремись очертя голову,
как мы...
Он старчески кряхтит от возбуждения, от удовольствия, широко открывает беззубый
рот, смеется, он на седьмом небе от счастья... Да, я иду за вами, да, вот, я здесь,
я удивлю вас, я моложе, сильнее н подвижнее, чем вы думали... Вы увидите, вам
больше не придется отстранять меня, покидать... Я с вами, я — один из вас...
С нами, в самом деле? Итак, с нами — с места в карьер. Сказано — сделано. И мы
сразу принимаем его, без всякой проверки? Предаем забвению прошлое, хотя оно
достаточно отягчено, ни о чем не спрашиваем, не считаем нужным выяснить, как могло
случиться, что одного неодобрительного слова, произнесенного каким-то мосье
Готраном, оказалось достаточно, чтобы покончить с его пылким восторгом? Достаточно
было бы, ручаюсь, чтобы этот Готран сказал ему, что форма уха, вот здесь, эта
складка, гарантирует самую что ни на есть подлинность... такие произведения можно
увидеть только в музеях... в Мехико, в Лиме... и он бы пренебрежительно отшвырнул
нас, нас — лентяев, невежд... Вы заметили, как он посмот-
610
рел на нас, когда мы почтительно приблизились, когда хотели прикоснуться... его
жест, да, почти отвращение... и как только мы, нашими нечистыми руками посмели? Как
имели наглость судить? Но стоило Готрану изречь. Явиться и припечатать — на свалку.
И он, освободясь, с легким сердцем может переметнуться в наш лагерь. Но это не так-
то просто, милый друг.
Он слышит их смешки, перешептывание... они совещаются, они чуют фальшь в его
согласии... Вы сами знаете, он — один из них... Да, ои из того лагеря, оп с ними,
на самой нижней ступени... Он не прочь бы, конечно, вскарабкаться, занять место в
первых рядах, подле тех, да... негромкий взрыв смеха... кто котируется выше всех...
— Среди педантов?..— Замолчи... Как ты можешь? Как смеешь? Это ведь эрудиты... Это
каста, секта, тайное общество... слова шипят, секут его... Их водой не разольешь,
скажи мне, кто твои друзья... У них, вы заметили, у всех есть семейное сходство.
Да, тяжелое, непробиваемое самодовольство... Взаимоуважение людей обеспеченных. И
само это понятие «работа»... они фыркают... «усилие» — их собственная работа, их
собственное усилие, день за днем... без устали... никогда не отступаясь, никогда не
пресыщаясь... Луженые желудки. Ненасытпость. Жадность. Подбирая отовсюду, хватая,
накапливая, и все, чтоб ие попасть впросак, не остаться с носом, «не упустить»...
Вы знаете эти его тревожные взгляды старого маньяка, когда кто-нибудь из них при
нем вдруг похвалится чем-то, что от него ускользпуло, чем он не успел завладеть...
Этот смущенный, понурый вид, осипший голос... Нет, я не знаю... Нет... Где вы
видели?.. А самодовольный богач, кичась своим сокровищем: Вообразите, когда-то я
натолк-пулся на это в книжонке, которая прошла незамеченной, она появилась задолго
до того, как все кинулись писать об этрусском искусстве... Или неискренне, корча из
себя скромника: Поверьте, это не моя заслуга... лет десять тому назад только об
этом и говорили...
И затаившаяся в каждом из них неутолимая, мучительная жажда... обладать... еще,
еще... именно этим... тем, чего не купишь, тем, что даруется свыше... тем, что
несправедливая судьба раздала как попало наименее достойным, шалопаям,
бездельникам, разгильдяям, растяпам, балованным неженкам, неспособным к черной
работе, к подчинению дисциплине, людям, чья больная память от-
20*
611
вергает все здоровое... роется в мусорных ящиках, питается отбросами, помоями...
гпильем, которое пи за что па свете... от которого тошнит... но они этим кормятся,
жиреют па этом, тухлятина идет па пользу этим «творцам», этим «художникам»...
Полуиптеллигепты? Они? Вы слишком великодушны. Скажите лучше па четверть, на
осьмушку... Вот вам представитель, посмотрите, как ои чванится в окружении таких же
невежд, как он сам. По обождите немного, милые друзья, дайте-ка нам взглянуть...
присмотреться... Я так и предполагал... Возможно лп? По это просто цинично...
Цинично? Да нет, это было бы еще слишком хорошо, вы его переоцениваете. Бедняга
искренне верит в то, что он первым сделал это удивительное открытие. И ему не
стоило никакого труда убедить их в этом... Тут нужны строгие меры... Нет, оставьте.
К чему? Разоблачишь одного, на его месте появится десяток других.— О, великолепно,
я так их и слышу... Ты, когда захочешь, просто неподражаем...— Вы слишком добры...
скромно потупив взгляд, кланяясь... Но право же, это не моя заслуга. Тут нет ничего
нового.
И оборотясь к нему, униженно ждущему, со вздохом... Нет, это решительно невозможно,
мой бедный друг. Нет, право, тебе здесь не место. Странная наивность предполагать,
что ты будешь принят, войдешь в наш узкий клан... И прикрываясь кем? Умрешь со
смеху... Невозможно поверить... авторитетом Готрана... Да, самого Готрана как
поручителя...
— Но Готран — только чтоб освободиться, удрать, избавиться от этого
закоренелого ханжи, чтоб показать ему, что моя оценка, наша оценка... что мы оба...
возможно, ошибались, что в такого рода вещах пет ничего абсолютного... о вкусах не
спорят... чтобы доказать ему, что вы не одиноки, что и другие, например Готрап,
разделяют ваше мнение...— Ах, другие, например Готрап... И ты думаешь, мы клюнем на
эту удочку?* «Другие» — это мило, «другие» — это великолепно... другие, как и мы,
не так ли? Послушать тебя, Готрап один из пас. Нам подобен. Нам ровня.
Нет, ты, должно быть, и впрямь считаешь пас дураками... Надо же — Готран-педель,
Готрап-проф, инспектор министерства просвещепия снизошел к нам, сидит за партой в
коротких штанишках...
А если вопреки Готрапу, вопреки всем, ему подобным... Да, очень хорошо, вот
правильный вопрос... Ответь-ка
612
нам: Если вопреки и против всех Готрапов мира мы позволили себе... Ведь о вкусах не
спорят, не так ли? Если мы осмелились... Ужас. Смертный грех. Ересь. Отлучение.
Какой позор. Какое несчастье. И это выпало на его долю. Невероятно. Необъяснимо. И
это после всего, что он сделал, чтобы их оберечь, оградить от дурной компании, от
пачкающих соприкосновений...
Но зло вездесуще, оно прорывается в любом месте, в любое время, $ минуту, когда
меньше всего этого ждешь, чувствуешь себя в безопасности... Совсем рядом с нами —
эти смешки, это хихиканье... эти взгляды, брошенные ими искоса, когда оп совсем
тихо сказал... не удержался... дурачки.
Они смерили его взглядом и тотчас отвернулись, эти молодцы, твердо стоящие на
широко расставленных ногах, выпятив грудь, обнимая мускулистыми руками плечи
девушек, положив властные ладони им на затылок... а девушки прижимаются к ним,
смеясь... когда они тычут пальцем... Нет, ты только взгляни на это... Сюда... па
эту голову...— На женскую голову? — Ты называешь это женщиной?.. Вот такою ты бы
мне точно понравилась, милочка... с носом, который торчит отсюда... а глаз... ох,
глаз... Разве вы ие знаете, что это портрет его дульцинеи... н благодаря ему, она,
похоже, войдет в историю... Она того заслуживает, между нами говоря, она поистине
единственная в своем роде.— К счастью, старик... окажись я паедине с такой
красоткой... Ну, силен... преклоняюсь...— Ох, а это что такое, погляди?.. Кастрюля?
— Да нет, ветряная мельница.— Самолет...— Пичего подобного. Посмотри название.
Это... это... ох, пет... за кого он нас принимает?
Пошли, хватит, это, в конце концов, певыпосимо. Хулиганы. Гнусное отродье. Если бы
он мог натравить па пих посетителей, подать знак сторожам... пусть зловеще завоют
сирепы полицейских автобусов, пусть сюда ворвутся плотными рядами блюстители
порядка с дубинками в руках... Где они? Покажите... Л оп, дрожа от нетерпенья,
подобострастно кланяясь, показывая путь охранникам, пятясь перед ними задом,
забегая вперед, подбадривая их... Здесь, здесь, вот сюда... опи там... Я их видел.
Небольшая кучка... Я слышал каждое их слово, хихиканье... Они подзадоривали друг
друга... Вот они. Посмотрите на
613
них, это они... Вот они, перед... перед этими шедеврами... Скорее. Наручники. В
черный ворон. Избить. Других доводов они не понимают. Насмехаться запрещается,
понятно? А не то, на, получай, будешь знать, больше не вздумаешь... Но к чему? Этот
скот, в лучшем случае, сделает вид, будто уступил. А в душе, в глубине души, едва
затянутся раны, едва забудется страх, все станет на прежние места, все вновь забьет
ключом... Что можно сделать? Как пресечь? Даже в тюремных камерах, в темницах это
будет хлестать из пнх, просачиваться, отравлять зловонием, пачкать... их необходимо
уничтожить, раздавить...
— Ну, что скажешь, ты видел эти испепеляющие взгляды? Они хихикают, заслоняются
локтями... Ох, боюсь... Мы осквернили святая святых... посягнули... Потому что
никто пе вправе к этому прикоснуться, это — свято... Ты же знаешь, есть любители,
«знатоки»... Ты знаешь, сколько она стоит, эта кастрюля... ну, не кастрюля... вон
та фиговина, там...— Скажи, сколько? Ой, я хочу ее, купи мне, милый...— Это, в
конце концов, невыносимо. Убирайтесь вон с вашим тонким остроумием.— О, извините.
Мы ведь говорим тихо. Или мы не вправе даже обменяться впечатлениями? Вы-то, не
правда ли, вы-то не стесняетесь объяснять этим дорогим крошкам... бедняжки... у них
это отобьет вкус на всю жизнь...— Пошли, брось, к чему спорить с этими... с...
Но во взгляде, брошенном ими в ту минуту, когда он тащит их за собой, есть какое-то
нездоровое любопытство, затаеппая тоска, нечто сообщническое...
В организмах предрасположенных, на подходящей почве, развивается, плодится малейшее
зароненное в нее семя... Сколько ни стерилизуй, ни фильтруй, ни вырывай у них из
рук, ни сжигай все, что способно их развратить... модные журналы, комиксы...
сколько ни выключай радио, телевизор, сколько ни срывай рекламные плакаты, афиши...
Все тщетно... Стоит ему оказаться с ними, и его глаз превращается в
усовершенствованный детектор, повсюду улавливает и прослеживает, точно на
рентгеновском снимке, развитие болезни, распространение поражений... Он готов не
пощадить усилий, пустить в ход все свои знания, чтобы предохранить их, вылечить...
чтобы обмять их, сформировать... применить последние рекомендуемые методы...
Незаметно заложить в них,, подсунуть им..,
614
Подошли ли они? Принюхиваются, впитывают?.. Не в силах дольше ждать, он
приоткрывает дверь, просовывает голову... Они его не замечают... растянувшись на
постели, они листают, задерживают взгляд на странице, поглощенные... ему удается
подкрасться, выхватить у них из рук, разорвать, растоптать... Вот что я с этим
сделаю... но где ты это раздобыл? И как можно терять на это время?.. Он клокочет от
гнева, кричит, они наверняка различают в его голосе бессильную детскую ярость,
отчаяние ребенка... Так вот, нет ничего проще. Слышите: я не потерплю этого в своем
доме. II точка. В конце концов, здесь хозяин я, вы живете под моей крышей. Вам
известно, что я не допускаю. Запрещаю... Чтоб я больше этого не видел... Их пустые
глаза с расширенными зрачками слепо скользят по нему, пока оп идет к двери...
Но они еще дождутся, увидят, он им покажет, кто сильнее. Вот проголодаются и,
хочешь не хочешь, станут есть то, что найдут в клетке, куда заперт пленный
зверек... будут вынуждены... Но прежде всего нужно не ослаблять внимания, принять
все меры предосторожности, чтоб они ни в коем случае ие заподозрили его
присутствия, не обнаружили, что оп притаился и наблюдает за ними... а не то они
мгновенно отпрянут от кормушки.
Именно это опи и уловили своим выверенным на протяжении стольких лет прибором,
записывающим волны, которые исходят от него, как бы ни была слаба вибрация, именно
это они заметили, когда он чуть слишком быстро отошел от стола, когда слишком
демонстративно отвернулся и, наклонясь, стал с излишним рвением ласкать их
собаку... боязнь спугнуть их и трепетную надежду... Им известно — уж их-то не
проведешь,— что он всегда обращен к ним, не в состоянии от них оторваться, забыть о
них, хоть на мгновение... Они ощутили, как липнут к ним паутинки, выделяемые им под
их воздействием, клейкая слюна, которой он пытается их опутать, тонкое лассо,
набрасываемое на них сзади... и они напряглись, резко отпрянули, они побежали
наверх, волоча его за собой, так что он больно стукался об лестницу и голова его
подпрыгивала па ступеньках...
Их непринужденно льющийся смех... Совершенно естественный. То легкое тремоло,
которое вызвало подозре-
615
пие, было перебором, неточностью доводки, тотчас скор-регнрованной. Безукоризненная
естественность — непременное условие. Это известно каждому из них и не нуждается в
договоренности, в обмене знаками... ни следа сговора. Какой сговор, господи? Зачем?
Разве мы не среди своих, не у себя? В своей стихии. В той, что нужна нам. Да, нам.
Таким, как мы. Такими создал нас господь бог. Нас пе переделаешь. Придется принять
нас такими, какие мы есть. Мы здесь как рыбы в воде, нам нигде не дышится лучше,
нам по душе резвиться среди всего этого... О, передай мне... Да не дергай же,
разорвешь... Как хотите, а по-моему, это потрясно... Ну, ты уж слишком... Ох,
поглядите... И неудержимый смех, всегда готовый брызнуть, вырывается, проникает
через закрытую дверь, обрушивается на него...
Возможно ли? Мы вас побеспокоили? Но мы же смеялись так тихо... Ни тени в
чистосердечных взорах, на гладких лицах ни следа дрожи... Это ои, только он сам,
заложил в них... Он находит в них то, что сам привносит. На-праспо было бы что-
пибудь им объяснять, все равно не поймут... Это — ведь правда? — чересчур уж тонко.
Попробуйте, расскажите кому угодно. Возьмите любого в свидетели. Спроси хотя бы у
своего друга... Поговори с ним об этом, попробуй пожалуйся ему...
Прислушайтесь... этот смех... Прислушайтесь хорошенько.— Что случилось? Что с вами?
— Этот смех... вы слышите их? Эти смешки... как иголки... Очнитесь же, не смотрите
на меня так растерянно... Эти смешки как капли воды, которые падают на голову
пытаемого... это специально для нас, это они нас пытают, хотят пас сломить... Вы
что, не слышите их? Но из чего вы сделаны? Нет, разумеется, вы не можете мне
поверить. Вы не можете поверить в такое коварство... Тот приподымается, устремив иа
него широко открытые глаза... Ну как могли вы пе заметить, когда... в тот момент,
когда вы имели неосторожность... когда вы были столь безумны...— Я? Безумен? Вы
шутите...— Да, безумны... наклонясь, схватив обеими руками зверюгу, потрясая ею под
посом у друга...— Да, повторяю: безумны. Вы сошли с ума... если в их присутствии
осмелились за этим пойти, водрузить это здесь, любоваться... Они встали, они это
отвергли, поднялись к себе и теперь пачкают, крушат... все... все, что придает цену
жиз-
616
ни... видите, как они заставляют меня выражаться... с каким пафосом, с какой
беззастенчивостью... видите, во что они меня превратили... они медленно убивают
меня...
В ответ па его вопль муки и ярости дверь наверху приоткрывается, опи осторожно
просовывают головы на лестницу... Что происходит? — Право, не знаю, ваш отец вышел
из себя. Ваш смех его раздражает. Оп... совершенно... не знаю, что с ним. Пичего не
понимаю. Опи спускаются па песколько ступенек, встревоженно перевешиваются через
перила...— Что с ним такое? Что стряслось?
Почувствовав, что ои уже не один, убедившись в поддержке встревоженной семьи, друг
пытается потихоньку успокоить обезумевшего: Видите, вы их напугали. Видите, как они
встревожены. Они веселились...— Конечно, мы веселились, нам и в голову пе
приходило, что это может вас раздражать...— Да меня-то это ничуть не раздражало.
Это вашему отцу показалось, будто...— Будто что? Что еще он придумал? В чем еще мы
провинились? Скажи же...— Да, скажите же им все, раз и навсегда. Потому что я
затрудпился бы... Я ничего, ровным счетом ничего не понял.
Он молчит. Он опускает голову, _ как нашкодивший мальчишка... Да нет, ие имеет
значения... голос у него слегка осипший... Будем считать, что я ничего пе говорил.
Я ничего не говорил.— Вы видите, иногда... он сам не знает, с чего. Что бы мы ни
делали, все выводит его из себя. Невозможно понять, чего он хочет. Невозможно
понять, что мы должны сделать, чтоб он был доволен... чтоб любил пас, хоть
немножко... их лица морщатся, уголки губ опускаются совсем по-детски, словно сейчас
они зальются горькими слезами.
Они гуськом спускаются по лестнице, выстраиваются в ряд у нижней ступеиьки, худые
руки болтаются вдоль тощих тел. Инспектриса общественного надзора, которую,
наконец, вьТЗвал^чгоЗмущенные соседи, сидит на стуле, прямая как доска, с записной
книжкой и карандашом в руках, оглядывая стоящих перед ней... Расскажите все, не
бойтесь. Опи молчат, бросая косые взгляды на своего мучителя. Толкают друг друга
локтями... Наконец, самый крепкий, самый отважный подымает голову, отбрасывает
назад прядь со лба, прочищает голос... Так вот... по правде... Одна из девочек
вдруг хлопается на пол, волосы па-
617
дают ей на лицо, она всхлипывает... Да... по правде... мы чувствуем...— Да, я это
почувствовал, когда был еще совсем маленьким, есть в нас... не знаю что... как мы
ни стараемся... есть в нас чго-то ненавистное ему... Да-да... все утвердительно
кивают, перешептываются... да, ненавистное... до смерти ненавистное... ои хотел бы
нас уничтожить... ои готов нас убить... Стоит только... Вот на днях, когда я
сказал...
Инспектриса машет карандашом...— Ну-ну, если вы будете так бормотать, говорить все
разом, я ничего не пойму... Это и без того не просто... В чем, собственно, дело?
Попробуйте объяснить толком. Что ему ненавистно?.. С тупым видом, мотая своими
головами деревенских дурачков, хлюпая носом...— Вот как раз... мы не знаем. Он
никогда этого не говорит. Но стоит открыть рот... Он не дает нам дыхнуть... даже
посмеяться, хоть чуть-чуть... даже когда его пет с нами... Мы были там, наверху,
закрыли дверь...
Она оборачивается к нему, понуро осевшему в кресле, уронив голову па грудь...— Вы
не позволяете им посмеяться, даже когда они один? Он подымает, он обращает к ним
молящие глаза... Вы же хорошо знаете, что это неправда... не в этом дело... вы
хорошо знаете... Одна из них вскидывает распухшее от слез лицо...— Что мы знаем? —
она всхлипывает... Вот всегда так, ничего нельзя сделать... Ну скажи, скажи, что я
сделала? Он, мадам, никогда вам в этом не признается, он никогда не скажет вам, что
все из-за этого...— Из-за чего? — Да из-за этого... у нее голос, интонации
ребенка... Да вот из-за этого, из-за этой мерзкой зверюги... Я не выказала к ней
достаточно почтения... Но ведь я же ее погладила... а? Разве не так? — Так, так, мы
все подошли, мы все внимательно смотрели... может, недостаточно долго. Каждое наше
движенье на счету. Задержись мы подольше, он счел бы, что мы ломаем комедию. Что бы
мы ни сделали, всегда не так.— Я... она снова заливается слезами... когда я
сказала, что это критская скульптура...— Нет, не так, ты сказала: Это напоминает
критскую скульптуру.— Да, правильно... я иногда вовсе теряю голову, говорю что
попало, лишь бы что-нибудь сказать... он прямо накинулся на меня, зарычал... Что,
что?., с таким ужасным выражением... ему прямо рот свело ненавистью... Что, что?...
Он укусил меня... Тогда мы смылись, мы решили, что так безопаснее, лучше уйти...
Разве не так? Я ведь правду говорю? Они утвердительно
618
кивают... Да, он ее укусил, неизвестно за что... Тогда мы вежливо попрощались... не
так ли? Вы же видели?., и поднялись к себе. И там, в своей компании, нам, конечно
же, захотелось утешиться, немножко развлечься... Она вытирает глаза, улыбается...—
Да, они показали мне картинки, мы посмеялись... и вот результат...
Он слушает, ничего не говоря, опустив голову... Что, что?.. Да — что, что? когда
вдруг, к его изумлению, она себе позволила, без разрешения, это она-то, никогда це
соблаговолившая сделать ни малейшего усилия, чтобы получить право вступить туда,
где даже люди понаторевшие, приобретшие опыт цепой величайших трудов, жертв,
самоотверженности, продвигаются осторожно, с опаской, она посмела нагло сунуться...
опа завладела этим, точно издавна ей принадлежащей вещью, она положила на это руку
с покровительственным видом... он едва сдержался, чтобы не оборвать ее, не
оттолкнуть, не ударить по пальцам... и она с самонадеянностью новичка, с
заносчивостью выскочки... Нарочно, чтобы его раздразнить, убежденная, что при
постороннем он не решится наказать ее, что остолбенеет от изумления... она имела
наглость, предвкушая заранее его бессильное бешенство, его сдерживаемую ярость...
она, обезьянничая, тоном старого знатока, посмела сказать: Это скорее напоминает
критскую скульптуру. Тогда он накинулся на нее: Что, что? и она едва заметно
отстранилась... никогда не следует показывать разъяренной шавке, что боишься ее
лая... а потом спокойно, отвернувшись от него, обращаясь, как ровня, к его другу,
повторила свои слова, а другие, стоя рядом, восхищались ее хладнокровием... Да, не
кажется ли вам, что это напоминает скорее критское искусство?., и с видом
победителя, наклонясь к нему, потрепала его по щеке, грациозно протянула руку гостю
и удалилась, сопровождаемая остальными, уже давившимися от смеха...
Попечительница несчастной детворы останавливает на нем суровый взгляд... Ну что ж,
можете радоваться, вы добились отличных результатов. Все это дело ваших рук, эти
запуганные, неполноценные, затравленные существа, которых вы держите на привязи,
которые ловят малейший взмах ваших ресниц, ие знают доверия, любви, боятся не
угодить вам, бросаются сломя голову выполнять ваши самые тухаппые поведения...
Критская скульптура... это было ие то, что вам требовалось. Слова «Критская
скульптура» были произнесены не так, как вам хотелось.
619
Вам не понравилась интонация. В ней не было положенного вопроса, должного
сомнения... и не только сомнения — должной дозы тревожного ожидания вашей похвалы.
И что же вы сделали в ответ, только взгляните на них,— они распростерты у ваших
ног, бросают на вас сквозь слезы умоляющие взгляды...— Критская скульптура... Разве
ие ты сам однажды говорил с нами об-этом? Что плохого, если я вспомнила? Хотела
порадовать тебя? Попыталась показать, что ты пе зря тратил время? Но ясно, для него
это только предлог, первый попавшийся... Он готов ухватиться за что угодно... за
что угодно, лишь бы утолить свою подозрительность, свою враждебность... свою
ненависть к нам...
Попечительница отвинчивает колпачок своего вечного пера, открывает записную
книжку...— Пу-с, пе будем терять время, резюмируем. Действительно ли вы укусили
бедную девочку? По меньшей мере странный воспитательный прием.
Он выпрямляется, встряхивается. Где мы? Что происходит? Вы ошиблись дверыо, мадам,
вы попали не по адресу. Оглянитесь вокруг. Посмотрите иа эту уютную комнату, на
старого друга, сидящего против меня, на перкалевые занавеси, душистый горошек,
настурции, вьюнки, сорванные в нашем саду моей дочерью, да-да, этой самой, и
расставленные ею с таким вкусом в старинных вазах, на эту скульптуру на столике,
между нами, иа эту неподражаемую вещь, которой мы сейчас любовались... Поглядите иа
этих детей... вам нигде не найти более обласканных... Видите ли вы хоть след
царапины? Кто и о каком укусе говорил? — Но вы сами знаете, мосье, они сказали,
будто вы их укусили... Укусил! Ну-ка покажите ваши лодыжки, ваши икры, ваши руки...
Укусил!.. Она поворачивается к ним...— Да, покажите мне.— Нет, мадам, ни к чему,
это незримый укус...— Вы убедились, мадам, о, им должно быть стыдно... если бы мйе
в их возрасте... по они насквозь испорчены, отъявленные шалонаи. Напрасно я
приглашал к ним лучших учителей, послушайте только, как коверкают они язык... эти
пошлые метафоры, эти безвкусные гиперболы...
Они сбились перед ним в кучу, они говорят все • разом... Ты прекрасно знаешь... О,
какое лицемерие, какая гнусная комедия... Ты сам знаешь, что ты сделал...— Что я
сделал? Вы свидетель, мой дорогой друг, вы были тут, что я сделал? — Да ничего, я
ничего не видел... Они бро-
620
саются в ноги к другу, заклинают его...— Скажите правду. Помогите нам. Чего вы
боитесь? Вы пе могли не заметить... Вы же видели, как он подскочил, как закричал...
— Ах пет, он пе двигался с места. Оп ничего не кричал.— Разве вы не слышали «Что,
что?», да, «Что, что?». Так свирепо. «Что, что?» С такой ненавистью. «Что, что?»...
Бедная девочка... Мы помогли ей подняться наверх, перевязали, дали валериановых
капель, апельсиновой воды... Что, что? Что, что? Что, что? и все потому только...
пет, это невыносимо... и только из-за того, что она осмелилась заговорить о
критской скульптуре... Друг словно задумывается... напрягая память...— Да, в самом
деле, ваш отец сказал: «Что, что?» Он выказал удивление. Признаюсь, я и сам...
говорить в связи с этой вещью о критской скульптуре... Я полагаю, детка, что вы
ошиблись...
Инспектриса смотрит на часы.— О, мадам, вы правы, вы попусту теряете драгоценное
время. Сейчас дети вообще слишком избалованы тем, что предупреждается каждое их
желание, что с ними держатся па дружеской ноге, они уже сами не знают, чего еще
потребовать... Им пе поправился, видите ли, мой тон. Я не выказал должпого
почтения, услышав, как опа несет эту околесицу. Мое удивление их оскорбило. Они
привыкли к обходительности. Если быть честным до конца, мадам, это хвастунишки и
бездельники. Уже одно то, что опи заговорили о «скульптуре», да еще «критской»,
было великим подвигом. Я должен был прийти в восторг, погладить ее по головке, дать
награду... а я себе позволил... И сразу жаловаться, обвинять меня в дурном
обращении, беспокоить вас... Она встает, протягивает ему руку...— Ах, мосье, вы не
одиноки, мы сталкиваемся с поразительными вещами... Но, поверьте мне, винить
следует не детей. Вы сами их чересчур избаловали. Жизнь, позднее, не будет с пими
так ласкова. Ни к чему развивать в них подобную чувствительность, ранимость...
Едва она уходит, они утирают слезы, причесываются, приводят себя в порядок,
наклоняются, чтобы поцеловать его, протягивают руку гостю... Извините нас... Мы на
ногах пе стоим. Доброй ночи, приятного вечера...
И вот уже веселятся... В этом возрасте огорчепия мигом забываются... Изредка еще
всхлипывая, не утерев как следует сморщенного, заплаканного лица, опа уже
улыбается, смеется вместе с остальными...
621
Он больше не в силах вынести этого доверчивого взгляда, устремленного на него
человеком, которому никогда в жизни... Знаете ли вы, что такое грех? Преступный
акт? Нет, вы не знаете...— Разумеется, знаю, можно ли на протяжении долгой жизни?..
Как вы себе это представляете? Разумеется, есть вещи, о которых я не люблю
вспоминать.— Ну, что, например, прошу вас, скажите... Впрочем, нет, ни к чему,
можете не говорить, мне и самому известно. Знаю я ваши злодеяния... Рафинированные
угрызения совести тех, кто на протяжении всей своей безмятежной жизни и мухи не
обидел. Тех, кто всегда благодушен, отрешен. Чист. Безукоризненно чист. Этот смех,
который вы слышите... тоже такой чистый, не правда ли? Невинный, прозрачный... Как
все прозрачно там, где находитесь вы... Они веселятся, это так понятно в их
возрасте. Ах, и мы были такими же. Сладкий безудержный смех. Нет сил перестать.
Наша матушка всегда с улыбкой ворчала на нас. Дедушка поверх своей газеты, поверх
своих очков кидал на нас снисходительные взгляды... Да перестанете ли вы наконец
валять дурака, безобразничать... Чуть потише, дети, уймитесь...
Простите, я только на минутку... скажу им...— Не надо, оставьте их в покое, мне это
ничуть не мешает.— Нет, не в этом дело... Я только.* Я сейчас вернусь... Встав,
быстро взбежав по лестнице... только показать им... дать понять... загладить...
начать все заново... постучав в их дверь...— Пожалуйста... Мне нужно к вам... Он
слышит возню, перешептывание... Они медленно открывают, отступают от двери, глядят
на него с недоверием, прижавшись друг к другу... Похоже, вам здесь весело... не то
что мне там, внизу... Не очень-то красиво с вашей стороны бросить меня... ласково
похлопывая по затылкам, сжимая твердеющие, деревенеющие в его объятиях плечи... он
ластится к ним, баюкает их, щекочет... ну улыбнись... хоть разок... Он дует... вот
здесь... он сделал ей больно? Неужели это возможно? Не соизмеряешь своей силы,
забываешь, как они хрупки, как ранимы эти дорогие крошки, его плоть, его жизнь...
Сущий пустяк... Какое-то «Что, что?», сказанное чуть резче... Чуть резче? Ну,
знаешь, надо признаться, «чуть резче» тут не вполне подходит, это было почти
грубо... они такие нежные... он властен над ними... он ими распоряжается, он
отвечает за все, он преступник, ему нет прощения... взгляните, до чего он их довел,
посмотрите на эту вонючую подстилку... модные журналы,
622
детективы, комиксы раскиданы по всей комнате... неописуемое уродство, пошлость...
бедные неполноценные создания, загнанные в свою берлогу, стоило одной из них
посметь приблизиться к источнику жизни... преступить священную ограду...
воспользоваться языком хозяев... «Критская скульптура»... невозможно поверить... Он
вскочил, он набросился иа них, ударил с маху, не глядя: «Что, что?»... безотчетное
движенье, прискорбный рефлекс, преступный жест...
Он готов искупить, пусть они только скажут как... ценой каких отречений, измен,
предательств... он ни перед чем не остановится, если есть надежда изгладить,
стереть из их памяти, добиться их прощения... Он гладит их по голове, щиплет за
мочку ушей, ласково ее подергивая... Вы, я вижу, оживились, забыли об усталости,
может, спу-’ стимся, пойдем вниз, мне будет повеселее... вы приготовите чай,
посидим, поболтаем... Ты объяснишь пам, дорогая, почему эта зверюга напомнила тебе
критскую скульптуру... Ты меня, право, удивила, я и не подумал сблизить...
Пусть она спустится, пусть войдет, пусть милостиво сядет возле нас... Полюбуйтесь,
какая она красивая, какая образованная... Сейчас она выступит как третейский судья,
не так ли?.. Критская скульптура... Ни вам, ни мце это не могло прийти в голову...
Но, по правде говоря, почему бы и нет? если взглянуть под определенным углом...
впрочем, по здравом рассуждении, в этом нет ничего такого уж невероятного... Он
берет ее за руку... Пойдем, пошли побыстрее, он, в конце концов, сочтет странным...
Спустись, прошу тебя... Она отнимает руку, подносит ее ко рту, потягивается...—
Нет, и не думай... Они рассмешили меня, разогнали сон... Но теперь, и вправду, пора
ложиться... Завтра я на ногах стоять не буду.
Посредственности. Да, именно... оп чувствует ужасную слабость... легкое
головокружение... словно перед обмороком... Тот, напротив него, встает, наклоняет
вперед грузный торс, протягивает огромную медвежью лапу, обрушивает ее ему на
плечо...— Что это с вами? Вы побледнели. Я сделал вам больно...— Нет... он
собирается с силами, подымает голову... Нет, ничего... Вероятно, вы правы... Они,
действительно, посредственности. Но услышать
623
это. Произнесенным вслух. Сформулированным. Странно, я никогда об этом пе думал.
Никогда пе думал этими словами.— Нет, право, вы меня неправильно поняли. Я сказал,
что если дело обстоит именно так, как вы думаете, как вам кажется... если этот смех
в самом деле... мне-то личпо он кажется вполне невинным... по если это продуманное
намерение отомстить, так мелко, с таким холод-ным ехидством, тогда, спору нет,
такой смех свидетельствовал бы о врожденной посредственности. И тут уж, дорогой
друг, сами знаете, ничего не поделаешь. Бесполезно сожалеть о том, что было или не
было сделано, терзаться, понапрасну тратить силы...— Да, я знаю, конечно.,.— Но
повторяю, ничего еще не доказано. Не скажи мне этого вы сами, мпе бы и в голову не
пришло...
Кончепо. Он их предал. Не удержался. Трусливо, чтобы обелить себя, спастись,
переложить на них всю вину, он пошел и донес. А теперь слишком поздно, дело
заведено и неотвратимо пойдет своим чередом. Здесь не ведают приливов и отливов,
метаний туда-сюда, вальсов-сомнений,— шаг вперед, шаг пазад,— к которым они
привыкли там, у себя, где все остается без последствий, пе влечет за собой никаких
наказаний. Здесь все четко. Необратимо.
Правосудие должно считаться только с фактами. Ни с чем иным. Ваше имя. Год
рожденья. Место жительства. Подымите правую руку и произнесите: Клянусь. Правда ли,
что обвиняемые неизменно отклоняли заботы, на которые вы, по вашей доброте, были
так щедры? Правда ли, что из-за своей разболтанности, из эгоцентризма, из мелочного
самолюбия они пренебрегали удовольствиями, по справедливости считающимися самыми
возвышенными, самыми чистыми, которые вы стремились разделить с ними? — Да, правда.
Но, возможно, я сам...— Пе пытайтесь запутать... сбить... Отвечайте на вопрос. Это
правда? — Да, правда.— Опи презирают искусство. Так вы заявили.— Ну, в общем, они
это демонстрируют...— Вот именно. Мы принимаем в расчет именно то, что было
продемонстрировано, понятно? — Да, понятно.— Вы сказали, что они ушли к себе в
момент, когда вы любовались статуей. А затем без конца, не переставая хохотали с
целью оскорбить вас, причинить вам боль, зная, что наверняка добьются своего, что
вы беззащитны.— Это правда. Во всяком случае, так я думал.— У вас были для этого
все
624
основания. Имелись прецеденты. Многочисленные. В судебном досье содержатся
отягчающие документы. Это, как я вижу, уже не первая ваша жалоба. Ну-с, поглядим...
Шесть лет тому назад они точно так же встали и вышли из комнаты под каким-то
ничтожным предлогом, почти не извинившись, не слишком вежливо, в тот момент, когда
вы читали им вслух. Припоминаете? — Да, я читал им отрывки из Мишле.— Именно так.
Через некоторое время — примерно год спустя,— когда вы привели их в музей...— Не в
музей. На выставку.— Возможно, в докладе не уточнено, Допустим, на выставку. Они
отвернулись от полотна — восхитительного — Мастера из Авиньона.— Не отвернулись. Я
преувеличил. Они стояли перед картиной, но не смотрели на нее. У них был замкнутый,
обращенный в себя взгляд... И когда я сказал: Это прекрасно...— Вы подали жалобу,
употребив в ней слово «отвернулись». Вы ие должны были этого делать.— Да. Если быть
совершенно точным, мне следовало заявить, пожалуй, что в ответ на мое замечание
«это прекрасно»... они промолчали.— Но убедительно, в таком случае нужно еще
доказать, что молчание было враждебным, известна поговорка: молчание зпак согласия?
— Это было враждебное молчание.— И это все? Ничего больше? Пожимания плечами?
Хихиканья или хотя бы ухмылки? — Нет, ничего такого я ие заметил...— И у вас нет
свидетелей? — Нет, мы были одни.— В таком случае, доказательства отсутствуют.
Здесь, как вам уже было сказано, принимается во внимание только то, что было
продемонстрировано. — Значит, доказательств нет? Действительно? Молчание знак
согласия... не спорю, это убедительно. Весьма убедительно. Разумеется, им случалось
молчать и в других случаях, относительно которых я мог бы поклясться...— Все так же
опираясь только на впечатления? Впечатления такого рода ненадежны. Именно в этот
день, хотя бы на мгновение, неведомо для вас, в этом молчании могло быть как раз
согласие.— Да, хотя бы на мгновение? Даже у них? Даже они... как знать?., даже они,
забыв на этот раз о моем присутствии, могли почувствовать, как, проходя надо мной,
обтекая меня стороной, наплывают от картины некие флюиды, исходит некий ток... даже
они... не исключено... пусть у них и пониженная проводимость, пониженная
чувствительность... даже их могло пронять... И одного этого мгновения достаточно,
не так ли? Минута раскаяния искупает все грехи...— Да, но вернемся, если не
возражаете, к тому, что может быть до-
625
казано. Когда они встали, когда поднялись к себе, когда стали смеяться так, как вы
это описываете, чем глубоко задели вас... вернемся к этому. На этот раз вы слышали
их не один.— Нет, со мной был мой друг, он тоже слышал и сказал, в этом я уверен...
— Хорошо, хорошо, садитесь, мы рассмотрим это. Пусть войдет свидетель. Клянетесь ли
вы говорить всю правду? Только правду? Поднимите правую руку и произнесите:
Клянусь.— Клянусь.— Слышали ли вы смех этих молодых людей? — Да, слышал.— И, слыша
на протяжении некоторого времени этот смех, вы сказали о них: это свидетельствует о
их посредствепности... Погодите. Не перебивайте. Впоследствии вы уверяли вашего
друга, будто сказали: это свидетельствовало бы об их посредственности.— То есть...—
Отвечайте на вопросы: когда вы произнесли эту фразу впервые, сказали ли вы
«свидетельствует» или «свидетельствовало бы»? Изъявительное наклонение или
условное? Как вы понимаете, это чрезвычайно важно. «Свидетельствует» или
«свидетельствовало бы»? Припомните...
Все присутствующие замерли, слышно, как муха пролетит. А он, сидя в последнем ряду,
сутулится, втягивает голову в плечи... Сейчас раздастся взрыв, это рухнет на них,
на него... Он слышит, как твердый голос медленно и четко произносит: Я отлично
помню. Я сказал: свидетельствовало бы. Слезы счастья. Избавление. Ему хочется
броситься на колени, молить о прощении... Свидетельствовало бы — значит, это
правда. Свидетельствовало бы — именно так он и сказал. Не свидетельствует, нет, а
свидетельствовало бы... Как мог он быть настолько низок, чтобы усомниться в
порядочности, в безупречной добросовестности... свидетельствовало бы,
свидетельствовало бы, свидетельствовало бы... значит, еще не все потеряно, еще есть
надежда... Он больше ничего не боится, пусть решают, пусть указывают, он приемлет
заранее любой приговор, даже обвинительный, в особенности обвинительный, он его
заслужил, только он один, любое наказание... Да, я сказал — свидетельствовало бы.
Этого требовала, впрочем, простая вежливость. Что мне оставалось?.. Движенье и
шепот в зале...— Значит, если бы вы могли, вы сказали бы: свидетельствует?.. Все
вокруг него колеблется, шум в ушах, в глазах туман, до него, словно издалека,
доносится: Да, я сказал бы так.— Почему? — Потому что мне хотелось преподать ему
урок. Проучить его. Он сам виноват. Я был шокирован тем, что он так дурно говорит
мне о сво-
626
их детях, мне — постороннему человеку... желая, разумеется, как всегда в подобных
случаях, чтоб я ему возразил, надеясь, что я его успокою. Так вот — нет, я ненавижу
подобные комедии, человек должен отвечать за свои поступки: если дело обстоит
именно так, как вы говорите, то это свидетельствует о их посредственности. Впрочем,
от мнительности, от страха он в ту минуту так и услышал: это свидетельствует о их
посредственности. Жаль, что мне пришлось потом убеждать его в противном...— Но этот
смех... вернемся к нему... этот смех, так потрясший истца, вы же тем не менее их
осудили за него... Да, в конце концов это стало раздражать... если прислушиваться.
Но, будь я один, я наверняка и внимания не обратил бы. Я ведь человек простой, без
выкрутасов. Не придираюсь. Не усложняю. К чему копать, доискиваться? Жизнь и без
того сложна. Я бы, как говорится, не стал делать из мухи слона, хотя в данном
случае это и не совсем подходящее выражение. И они бы успокоились. Или продолжали
смеяться... Какая разница? Эти молодые люди таковы, какие они есть. Не лучше, не
хуже прочих. Их не переделаешь. Пусть себе смеются досыта, если душа требует. Жить
и давать жить другим...
Блаженная легкость, словно кризис уже позади, жар спал, и просыпаешься с ощущением
скорого выздоровления... Крохотная старушка рядом с ним, которая слушала все,
вытянув шею, обращает к нему свои добрые выцветшие глаза... щеки обвисают,
морщатся, губы растягиваются в широкой беззубой улыбке, голова утвердительно
кивает... Как справедлив вынесенный приговор. Как приятно ему подчиниться...
Конец борьбе... К чему? Нужно наконец понять, что мы свое отжили, пришло их время
вступать в игру...
Пора покориться, прекратить сопротивление... Не отбиваться, не дрыгать ногами,
когда они нежно, но твердо пытаются тебя пестовать, когда пеленают, ворочают с боку
на бок и в каждом их взгляде, движении снисходительность, ласковая жалость. Лучше
даже опередить их желания — согнуться больше, чем к тому вынуждает бремя лет,
дышать тяжелее... ох, мое старое сердце, ох, мои старые кости... Освоить это
трогательное кокетство... Постичь это искусство. Ведь тех, кто его отвергает, тех,
кто трусливо уклоняется, безжалостно призывает к порядку, бросив на-
627
смешливый взгляд, первый же велосипедист, едва не сбивший их, когда они чересчур
поспешно шагнули на шоссе или шли чересчур близко от края тротуара...
Как уютно чувствуешь себя, сжавшись в комочек, свернувшись в своей сладкой немощи,
гладкой и морщинящейся, точно бычий пузырь, когда из него с едва слышным шипением
выходит воздух... Ах, что вы хотите, такова жизнь, ничего не попишешь... Мы сами
первые, поверьте, сожалеем об этом, пе стойте, присядьте, позвольте уступить вам
место, дайте я понесу... ах, какой он еще молодец, да он еще всех нас переживет...
а все потому, зпаете, что он ни от чего не отказался, полностью сохранил свои
увлечения, свой азарт... не надо мешать им, пусть себе тешатся своими прихотями,
своими маниями, прекрасно, когда они держатся за свои цацки... главное, пе
перечить... Подойти, если они хотят, склониться, почтительно полюбоваться... и
уйти. Каждому свое. У каждого свои вкусы. Что может быть естественнее? Что может
быть разумней?
Разве мы зовем вас с собой? Разве мы позволяем себе требовать, чтоб вы вместе с
нами следили остекленевшими глазами за перемещениями шарика, всем телом сотрясаясь
вместе с флиппером?.. 1 Чтоб в оглушительном гаме упивались песенками пленительной
пошлости, гремящими из джук-бокса? 2 Вы, разумеется, никогда их не слышали, читали
комиксы? Разве мы не сносили безропотно все ваши ухмылки, ваши нескончаемые
подначки, ваше стариковское презрение склеротиков, конформистов, невежд, тупиц?..
Разве мы рвали у вас из рук, чтобы их разодрать, сжечь, ваши тома в роскошных
переплетах... неприкосновенные... инкунабулы... священные книги? Разве мы позволили
себе хоть раз ухмыльнуться перед этой зверюгой? Мы даже сказали... желая вас
порадовать... когда-нибудь и мы будем такими... нужно взять себя в руки, принять
участие в их старческих играх... разве не сказала она... и я просто восхитился
ею... что это напоминает критскую скульптуру?..
А потом мы заперлись у себя. Наконец-то свободные... Жить и давать жить другим...
раз уж вы это так называете... да, так это называется на вашем языке... вы любите
такие слова... это понятно само собой, к чему объяснять? Жить. Живой. Это живет...
Каменная зверюга живет...
1 Игральный автомат (от. амер. flippers).
2 Музыкальный автомат (от амер. juke-box).
628
мертвые слова, которыми обмениваются умирающие, для нас они лишены смысла. Что
живое и что неживое? Что? Джук-бокс? Живое. Бэби-фут? 1 Ну, подымите руку. Живое.
Так. Браво. Разумеется, живое. Комиксы? Живое. Обложки иллюстрированных журналов?
Живое. Рекламы? Живое. Стриптиз? Живое. Живое. Живое. Подымайте руку быстрее.
Выше... Но нет, что ты заставляешь их делать? И тебе не стыдно? Ах ты скотина...
оставим их в покое, сейчас они никому не мешают, достаточно не обращать на пих
внимания, забыть о них...
Смех звучит громко, раскатисто, настоящий здоровый смех, ни над чем, явно не над
нами, смех, который сам подступает, накатывает и отпускает, там, на месте, у них...
они не виноваты, если несколько капелек просачивается сквозь закрытую дверь...
легкие брызги... прохладная нега... Задрав головы, они подставляют лица...
добродушная улыбка размягчает их черты... Вы слышите их?.. Мой отец говаривал про
нас: Они такие дурачки... только покажи палец, и они уже хохочут...
Избавление. Покой. Свобода. Упоительное уважение к другому, которое — до чего это
справедливо, до чего это верно — есть не что ипое, как уважение к себе. Жить и
давать жить другим... Свободен... пуповина обрезана... швартовы отданы... один...
чист... по просторным пустым залам, по старинному сверкающему паркету... туда,
только туда, в тот угол, подле окна... туда, где предлагает себя... нет, пе
предлагает, это не предлагается и ничего не требует. Именно в том и сила. Ничего.
Ни от кого. Самодостаточно. Это здесь. Неизвестно откуда взявшееся. Неизвестно от
чего оторванное. Спокойно отторгающее все, что было приклеено: все образы, все
слова. Отбрасывающее все. Нет слова, которое могло бы лечь, удержаться на этом. Нет
слова, которое может с этим слиться, заключить союз. Никакой фамильярности. Это
здесь. Одинокое. Свободное. Чистое. Ничего не требующее. Он останавливается и
застывает перед этим: ноздреватый камень, вытесанный в
1 Футбол-автомат (от. амер. baby-foot).
629
форме странной зверюги. Не имеющей точного названия, И не нужно. Табличка с
указанием происхождения, даты была бы уже наглостью. Профанацией.
Теперь начинается операция. Прежде всего — время. Подобно водам Иордана, оно
расступается, давая путь... Нет. Оно не расступается. Оно остановлено. Недвижное
мгновение, не имеющее пределов. Мгновение, застывшее в вечность. Одно бесконечное
мгновение, безграничный покой, наполненный этим. Чем этим? Но здесь уже нет пичего,
нет уже мелочных, точных, кокетливых, красивых, уродливых, льстивых, лживых,
тиранических, марающих, умаляющих, возвеличивающих, пустых, унизительных слов... к
которым приходится тянуться, теряя всякое достоинство, инстинкт самосохранения,
которые надо упрашивать, за которыми нужно охотиться, гнаться, расставляя им
ловушки, приманивая, усмиряя, муча. Нет. Никаких слов. В растяпувшемся мгновении,
без берегов, без горизонта, даже дальнего, в покойном, безграничном, недвижном,
неколебимом... совершенно недвижном... безмятежном... это... Что это? Нет. Не надо
слов. Это. И только. Здесь, от этоц каменной зверюги исходит, распространяется...
Движение? Нет. Движение тревожит. Пугает. Это здесь. Это здесь извечно. Ореол?
Нимб? Аура? Мерзкие слова на миг касаются этого и тотчас отлетают. А он, который
здесь... Нет, не он, он — бесконечность... которую это наполняет... нет, не
«бесконечность», не «наполняет», пе «это». Даже «это» недопустимо... уже излишне...
Ничего. Никаких слов.
И вдруг воды сходятся, время возобновляет свое течение, конец. В нем не остается
ничего, кроме глубокой умиротворенности.
Слова возвращаются, ложатся, ничто более не удерживает их на расстоянии. Покорная,
пассивная вещь позволяет им облечь себя. Себя одеть. Вокруг нее суетятся опытные
закройщики. Ловкие руки вертят ее. Она стоит смирно, пока они накалывают на ней
слова, сносит длительные примерки. Дает внимательным глазам обозреть себя с разных
сторон, выставляет напоказ свои прелести. Умело подобранные слова облегают и
подчеркивают ее формы, переливчатые слова прикрывают их. Теперь, в этом одеянии и
уборе, он еле-еле узнает ее. Опа держится несколько натянуто, словно сознавая свой
высокий ранг. Она требует и добивается почтения.
630
Слова, которыми она окружена, это нечто вроде колючей проволоки, по которой
лропущен электрический ток... Посмей теперь эти, смеющиеся там, наверху, протянуть
к ней руку и снисходительно потрепать ее, они почувствовали бы, как вонзаются в них
шипы, как их ударяет разряд.
Сидя друг против друга, они со знанием дела украшают, защищают стоящую между ними
каменную зверюгу... Кто из тех, верхних, посмел к ней приблизиться? Кто посмел
прорваться сквозь все линии обороны? У кого хватило наглости, выдернув наугад из
бесформенной кучи, из нагромождения отбросов, из исполинской свалки, где он рылся,
эту «критскую скульптуру», попробовать приложить ее к ией? Да ни у кого. Этого
просто не было. Кто это слышал? Кто об этом помнит? Даже вспоминать об этом
унизительно. Безумство придавать этому какое-то значение. Бред, не так ли?
Совершенно неуместно, ни во что не укладывается... Нужно быть слишком избалованным
жизнью, нужно не иметь никаких других забот, чтобы волноваться по таким пустякам...
Вы правы... С этим покончено, я больше об этом не думаю. Пусть себе смеются сколько
душе угодно. Я ие слышу.
В самом деле? Возможно ли? Как в это поверить? Тзбя действительно это ие трогает?..
В таком случае усилим немного дозу. Чуть-чуть потоньше, чуть вкрадчивей и тотчас
оборвать, чуть-чуть язвительнее, обжечь исподтишка, украдкой погладить крапивой,
подсыпать щепотку порошка, вызывающего зуд... Ничего не чувствуешь? Правда? Неужто
начисто позабыт наш условный код, выработанный за долгие годы? Неужто он
окончательно переметнулся на другую сторону, в лагерь этого доброго толстого
простака, на лице которого застыла дурацкая довольная улыбка? И вам так уютно,
тепленько там, внизу, в своем кругу? А ну-ка, еще чуть громче, настойчивее..,
коротко, пронзительно... прервем и возьмемся снова... чтоб он ждал, затаив
дыханье... разрываясь надвое, притягиваемый одной своей половиной сюда, к нам...
Но они считают, им все дозволепо, как будто нас здесь нет... кота нет... мышам
масленица... посметь разглагольствовать с таким цинизмом о своих эскападах,
признаваться в своих одиноких экскурсиях, похваляться ими... В последнем зале, пе
так ли? Возле окна? Божественна?
631
Правда? Да. Великолепная вещь... Один. Без нас, без родных, обманывая нас, прячась,
отправляясь туда вот так, средь бела дня, делая вид, что пошел работать...
озираясь, не следят ли за ним, почти бегом, подстегиваемый нетерпеливым желаньем
поскорее предаться этому, этому пороку... бросая по выходе тревожные взгляды по
сторонам и возвращаясь домой как ни в чем не бывало, словно честный гражданин,
добропорядочный отец семейства, который, как и все, трудится в поте лица, как все
окружающие — в конторах, на заводах, в шахтах, на полях... меж тем как он пытался
уклониться, бежал украдкой... и там, шито-крыто, в одиночку... для себя одного...
ио время идет, время торопит, надо оторваться, оставить запретный плод, прервать
наслаждение... и это средь бела дня, в рабочее время, и не стыдно? взбредет же на
ум... растрачивая силы, выходя оттуда изнуренным, одуревшим, ни па что не
способным, вынужденным рухнуть подле старикашек пенсионеров, домашних хозяек,
которые прохлаждаются на садовых скамейках... И разумеется, пи слова нам, когда он,
наконец, возвращается домой с озабоченным видом... Кто-нибудь мне звонил? Где
почта?..
Зато потом в своем углу, с себе подобными, сделанными из того же теста, со старыми
жуирами, старыми распутниками... Позволить себе отвести душу,
разоткровенничаться... слюнявые губы старых гурманов... Да, я ее знаю...
Совершенство. Великолепна. Но помните, в Прадо, в Риме, в Базеле, в Берлине...
обратили ли вы внимание... приподымая тяжелое грузное тело, выходя на середину
комнаты, выставив вперед ногу, ну прямо манекенщик, демонстрирующий новую модель
костюма... Если бы вы только знали... вот тут, в этой округлости, в этой линии...
рука скользит вверх по ляжке, по бедру... вот здесь, видите, в этой правой ноге,
выставленной вперед, вот тут, вот так... Губы издают отвратительный звук, громко
чмокают, целуя копчики пальцев... Не буду распространяться. Настоящее чудо. Я стоял
перед нею часами. Не мог глаз отвести. Египетская, да, крайняя слева у самого окна.
Из-за нее одной стоит поехать.
Но кажется, что мало-помалу голос его хрипнет, садится... Заметил, вспомнил,
наконец, что мы здесь... Но нет, на это нельзя рассчитывать, он сейчас чересчур
возбужден, ничего не поделаешь, чтобы заставить его прийти в себя,
632
к нам, остается пустить в ход сильные средства... Потихоньку отворить дверь, молча
спуститься гуськом по лестнице... И тотчас... это нужно видеть, зрелище, радующее
сердце,— пойманный с поличным, на месте преступления, застегиваясь, не успев еще
даже остыть, выпрямляясь, оборачиваясь к нам, прокашливаясь, чтобы выиграть время,
прийти в себя...— Ну что, решили вернуться?.. Не хотите спать? И правда, еще
рановато... несмотря на усталость... Кстати, как рыбалка?.. А прогулка? Хорошо
прошвырнулись?.. Как прошел день?.. Мгновенно все вспомнил, код снова найден, все,
только нам одним известные, знаки налицо,— в голосе, в интонациях... даже и не в
них... волны, которые улавливаем мы одни, передаются нам напрямую незаметно для
других...— Да, неплохо провели время. Хороший денек. Очень хороший... В добрый
час... Приятно отметить, что он образумился так быстро, ничего не забыл, можно
отметить даже явный прогресс. На этот раз — капитуляция немедленная и
безоговорочная. Никаких попыток ограничить себя, довериться только незримым волнам
или даже интонациям. Вы слышали?.. Конечно. Что за вопрос!.. «Прошвырнулись». Ни
больше ни меньше. Поразительно, какую живость, изобретательность порождает подчас
страх, во мгновение ока отвергая «прогулялись» и хватаясь за «прошвырнулись». Даже
слегка растягивая — проошвырнуулись... Выбрасывая белый флаг. Очень хорошо.
Заслуживает поощрения. Похлопывания по склоненной спине. Браво. Отлично схвачено...
Прекрасно проошвырнуулись. Здорово. Потрясно...
Теперь все в полном порядке. Можно не свирепствовать, не терять время, как
приходилось прежде, когда он был еще настолько неосмотрителен, что продолжал,
словно не ощущая нашего присутствия, изливаться без стыда и совести, возбужденпый,
неспособный сдержаться, как того требует скромность, просто приличие... когда нам,
чтобы добиться, наконец, капитуляции, приходилось присесть где-нибудь в сторонке, в
уголке, и оставаться там, не двигаясь, главное, не вмешиваясь, ничего не говоря, ни
единого слова, как бы слушая вполуха, одновременно перелистывая, а то даже и читая
журнал или книгу...
Быть может, он не понимает... Ну и потеха наблюдать, как он старается приподняться,
вытянуть повыше шею, держать голову над идущей от нас, вырабатываемой нами,
испускаемой самим нашим присутствием, самим нашим
633
молчанием пеленой ядовитого газа... который все уплотняется, растекаясь по комнате,
мало-помалу заполняя ее доверху и захлестывая его... он храбрится, хорохорится,
задира-петушок, маркизик на высоких каблуках, привскакивает, чтобы глотнуть свежего
воздуха, делает вид, что ничем не отличается от другого, от своего простодушного
друга, увлеченно разглагольствует, как и тот, смеется, протягивает руку, сейчас он
ласково погладит шершавые бока зверюги... глянцевитые страницы художественного
альбома... ничем не отличается от того, другого, на том жег уровне... это так
трогательно... поглядите только, и он тоже, совсем как тот, в полной безопасности
среди крахмального перкаля, душистого горошка, газонов, пони... оба они далеко-
далеко от нас, от сырых и темных задних дворов, где некогда он играл с нами...
Он покачивает головой, раздумывает, отвечает...— Да, полагаю, вы правы. Пожалуй.
Запотекская цивилизация. Да, правда, под этим углом... Но ему приходится тратить
все больше сил, чтобы протолкнуть слова сквозь постепенно уплотняющуюся толщу...
слова выбираются из нее искаженными, обмякшими, дрожащими, они плавают, не достигая
цели, утратив свой блеск, тусклые, серые, убогие, замаранные, пропыленные, точно
облепленные гипсом, цементом... Другой протягивает руку к зверюге... сейчас ее
поставит... удержать, остановить его, не закричать... осторожно, не трогайте, это
опасно, разве вы не чувствуете?.. Меж тем как наивный... глухой...
бесчувственный... совершенно спокойно кладет на нее руку, легонько поворачивает,
чтобы разглядеть получше...— Вот здесь, взгляните, как божественно выглядит на
свету эта линия... она прекрасна... Это мне напоминает...
Его слова, будто вокруг них нет ничего, кроме чистейшего воздуха, устремляются, не
встречая ни малейшего сопротивления... ни отклонения, ни искажения, ни дрожи, ни
осквернения... блистая чистотой, его слова устремляются прямо к цели: Ну а вы, там,
вы ничего не сказали. Как она вам? Что вы о ней думаете?
Я? Что я о ней думаю? Бедняжка, ослепленная светом, внезапно заливающим клетушку,
где она сидит взаперти, с трудом приподымается... еле-еле ворочает языком: Я? Вы
меня спрашиваете?.. Да, вас. Разумеется. Вы ничего не сказали. Мне хотелось бы
знать, что думаете об этом
634
вы... Меня, как равную?.. Да, как человеческое существо, подобное другим. Столь же
достойное уважения...
Ее палач, весь красный, с выпученными глазами, пытается изобразить на своем лице
сладенькую улыбку.,* В самом деле, ты ничего не говоришь... Давай, детка, если у
тебя на это хватит храбрости... попробуй...
А почему бы мне и не попробовать? Мы ведь уже не одни, мой милый, у меня есть
защита... Добрые люди, как видишь, приняли участие... Это нежданное вмешательство,
внезапное избавление — поистине чудо... голова кружится от свежего воздуха... Что
об этом думаю я? Я? Ты извинишь меня, по не могу же я, в самом деле, упустить
подобный случай?.. И вдруг, совершенно переменившись. С уверенностью. Спокойно...
Что ж, я полагаю... есть, возможно, в тоне что-то чересчур твердое,
непререкаемое... печать многолетних одергиваний, унижений... Что ж, я должна
сказать, меня это, скорее, наводит на мысль о Крите. О критской скульптуре... И
встает, непринужденно прощается, в то время как тиран, вцепясь руками в
подлокотники кресла, чтобы не броситься на дерзкую, не ударить ее... весь красный,
задыхаясь, дергается вперед, словно хочет укусить: Что, что?
Неплохо. Спектакль удался. Они все оценили по достоинству. Ему уже никогда не
оправиться. «Это напоминает мне критскую скульптуру». Вот так. С маху. Откуда ты
взяла?.. Какая разница, это именно то, что было нужно. Теперь, после этого усилия,—
ведь, чтобы выжать из себя такое, все же понадобилось немалое напряжение,— не грех
и поразвлечься немного... Ты совсем бледная... хватит, расслабься... Погляди... Ой,
что это? Вот здорово, классная штука, дай-ка мне... Ну, умора.
Смех... без цели, без мишени вольно раскатывается в пустоте вокруг них... невинные
всплески, детский хохот... еще и еще... И вдруг тишина... Добрый наивный взгляд
поверх стола встречается с его глазами... Не понимаю* почему...— Почему что? — Не
понимаю, почему критская скульптура... большая рука медленно вертит зверюгу,,*
критская скульптура... как странно...
— Странно. Да. Правда. Странно... Хрупкая внутренняя переборка шатается под
давлением, вот-вот рухнет,,*
635
Странпо, вы правы, мне тоже кажется... Странно, что возникает такая мысль... В
самом деле, почему критская? Почему ие китайская? халдейская? греческая?
византийская? египетская? африканская? Почему?.. Напор усиливается, сейчас все
будет сметено... нет сил это сдержать... Почему? Да потому, что они всегда несут
околесицу, только бы доказать... только бы опровергнуть то, что я, как им известно,
думаю о их неискоренимой лени, о их невежестве... Это подымается в нем, клокочет,
голос его крепнет... Чтобы эпатировать меня... Он задыхается... чтоб... чтоб... им
же в высшей степени наплевать на все это... Он обводит стены широким жестом
вытянутой руки, хлопает ее тыльной стороной по морде зверюги... на все, все это,
слышите... и вообще на все... все, все, все... они систематически рушат, сжигают,
взрывают...
Тот подымает руку, словно желая защититься, оттолкнуть его...— Да нет, полно, вам
это мерещится... Успокойтесь... Знаете, в конечном итоге, это, пожалуй, не так уж
невероятно, как представляется на первый взгляд... Строго говоря, можно было бы...
И тотчас исполинские волны в нем опадают... Если подумать, мне припоминается, на
Крите были изваяния... правда, малоизвестные... Буря вновь усиливается...—
Малоизвестные! И вы думаете, что именно они, которые никогда даже не взглянули...—
Ну и что, достаточно одного раза... достаточно, чтобы один раз поразило... и могло
оказаться, что именно это... Достаточно один раз, случайно заметить и обратить
внимание на сходство. Невинные обрящут...
Покой... Какой покой вокруг... в лучах луны усмиренные волны напоминают серебряное
озеро... Ни на одной почтовой открытке нет вида прекраснее, чем тот, что сейчас
запечатлен в его душе... Голос его мягок, слаб от волнения...— Невинные обрящут...
Да и знает ли он их по-настоящему? Их-то ведь и знаешь хуже всего... Страсть
ватмевает взор...— Действительно, вам не хватает снисходительности. Никто не знает,
каковы они на самом деле. А вы — меньше чем кто-либо... это естественно. Не
исключено, что они совсем иные, чем вам кажется. Вы, возможно, были бы удивлены...
Уцелевший возвращен к жизни, доставлен на носилках, ему наложили повязки, сделали
обезболивающие инъекции, и теперь, вдали от буранов, ледников, расселин, бездонных
ущелий, отвесных скал, вдали от умирающих и мертвых, на крахмальных простынях... В
то время как над
636
ким, подтыкая одеяло, склоняют свои чистые светлые лица, свои белоснежные чепцы
сестры милосердия, ои расслабляется, сладко вздыхает, засыпает...
Все в доме спит. В старинных вазах поник душистый горошек. На просторных обмякших
креслах с прелестной небрежностью морщатся перкалевые чехлы... Наверху медленно
отворяется дверь... н вот они... они молча спускаются... скрипнул паркет... они
останавливаются, прижав палец к губам, на щеках шаловливые ямочки, свежие уста
приоткрыты... они идут... куда? что они задумали?.. Он ждет... Но еще раньше, чем
они успевают подойти, радость возвещает ему, что они сейчас... да, возможно... да,
бесспорно... они идут сюда... к этой скульптуре, оставшейся на низком столике...
они подымают ее... но он ие боится... все их движения так осторожны, так
благоговейны... они держат ее на вытянутых руках, поворачивают... опасаться
нечего... они перешептываются... Да, ты видишь... Я уже давно считала... Нет
никаких сомнений. Взгляни на эту линию. Согласись, я права. Критская. Только так...
Неведомая услада. Нечто подобное, вероятно, и именуется счастьем...
Но осторожно, сейчас они обернутся... Поскорее скрыться, главное, чтоб они ничего
не услышали, не попя-ли, что он здесь, шпионит за ними... не почувствовали на себе
его взгляда... омерзительного прикосновения, от которого они тотчас сожмутся,
отвердеют... И тогда они пойдут на все, чтобы заставить его подавить это, вытеснить
в глубины памяти... стереть — эту идиллическую картину, это небесное видение,
порожденное старческой похотыо, жалким распутным воображением... Никогда больше шг
малейшего проявления интереса, даже из вежливости, даже при посторонних... Никаких
больше критских скульптур, пусть даже это и сказано, чтоб поддеть, чтоб показать,
как легко — стоит пм только захотеть — нанести ему поражение на его собственной
территории... Критская скульптура, пусть и назвапная наобум, брошенная смеха ради,
покажется ему милой шуткой, сладкой щекоткой, лаской по сравнению с тем режимом,
который они установят для пего отныне и навсегда, без всяких поблажек.
Впредь их пе разжалобят, не обезоружат никакие знаки уважения всех простаков
мира... Могут сколько угодно обращаться к ним, молчащим в своем углу, сколько
угодно унижаться, упрашивать, протягивая, пытаясь положить им
637
на колени, умоляя взглянуть... на эту цветную репродукцию... Посмотрите... такое
качество не часто встретишь... Что вы об этом думаете? от них не добьются ничего,
кроме отстраняющего жеста...— Я, знаете ли... с ухмылкой, от которой бросает в
дрожь... я, знаете ли, этого просто-напросто не вижу. Я ведь, знаете, дальтоник...—
Как? Дальтоник! Что ты рассказываешь? Что еще ты выдумаешь? Ты смеешься над нами!
А милый простак с розовым и гладким лицом священника, который даровал уже утешение
стольким скорбящим... самая грубая скотина, закосневшая во зле, если найти добрый
мягкий подход... вмешивается...— Не нервничайте... Так вы ничего не добьетесь...
Но, дорогое дитя, это ведь не причина. чДальтонизм ничему не мешает. Происходит
замена. Есть ведь и живописцы дальтоники... Но никаким долготерпением, никакой
кротостью не спасти эти падшие, погибшие души, не вернуть эту, неисправимую, на
путь истинный, хотя бы ненадолго.— А вот для меня, представьте, дальтоник я или не
дальтоник, живопись — пустое место. Впрочем, и скульптура тоже. И вообще искусство,
если уж договаривать до конца. Искусство с большой буквы. То искусство, которое так
чтит, так обожает папа. Может, потому, что он слишком много таскал нас по музеям...
Слава богу, теперь я туда ни ногой... Седая голова покачивается, большие
простодушные глаза излучают снисходительность, жалость...— Это печально, бедное
дитя, печально слышать ваши слова... Вы лишаете себя такой большой радости... Вы
огорчаете вашего бедного папу... который старался сделать лучше... хо^л дать вам...
разделить с вамп... Возможно, он был неловок, но поверьте мне, многие на вашем
месте...— Да, многие, немало есть папенькиных сынков... Он сам был одним из них...
Вы никогда его не слышали... А ну, продемонстрируй-ка ему свой номер, расскажи-ка,
это так поучительно, об обряде посвящения, который в вашей семье, из поколения в
поколение, проходили все мальчики... да и девочки ие были избавлены... Расскажи-ка
об этом потрясении, в первый раз, перед чем бишь? Не перед улыбкой Джокопды, это
случилось с дедушкой... Не перед Венерой Милосской, это еще поколением раньше... Ну
давай, показывай, не заставляй себя так долго упрашивать, не корчи из себя
скромника, вы ведь, все вы, от стыдливости и не умрете... Ну, говори... Вот видите,
мосье, какой он упрямый... Знаешь, если ты будешь молчать, я расскажу сам... Ведь
638
это Фрагонар, не так ли, был первым потрясением? Фрагонар или Ватто, а? маленький
плутишка, в таком возрасте, а уже шалун, сладострастник...
Таким он и остался, поверьте мне. Даже хуже, особенно в последние годы... с
угасанием активности... эскапады все чаще, все продолжительнее... Думаешь, мы не
знаем? Уверяю вас, мы готовы были бы на все закрыть глаза, каждый — свободен, в
конце концов, мы ведь не требуем от него, чтобы он отправился на выставку комиксов
и зашелся там от восторга... между прочим, выставка — первый класс... нам заранее
известно, что он ответил бы на это ухмылкой, «оскорбительной для наших чувств»...
Они-то ведь безжалостны... чего их жалеть... Они-то наглы и неуважительны... Так
убеждены в своей правоте, в поддержке всех тех, самых респектабельных, кто еще чтит
официальный культ, всех правоверных, которые не пропустят свободного дня, чтобы не
посетить всем семейством какую-нибудь картинную галерею, музей для отправления
священных обязанностей. И вдруг такое несчастье в семье, до сих пор весьма
почтенной... Откуда?.. Как? в бессонные ночи спрашивает он себя... Откуда такая
очевидная тяга к вульгарному, к пошлому?..
СМЕРТОНОСНОЕ ДЫХАНИЕ. ЛУЧ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ. Слова из их обихода, из тех, что
большими черными буквами отпечатаны над рисунками комиксов, возникают, всплывают в
нем, мельтешат, исчезают и снова появляются... а потом — пустота... только какая-то
апатия, скорее даже приятная... отупение...
Напротив него грузный мужчина с розовым лицом деревенского джентльмена недвижен,
нем, словно бы погружен в дрему... Откуда здесь эта статуэтка из грязно-серого
ноздреватого камня, эта коротколапая, приземистая зверюга с тупой мордой, с ушами,
похожими на колеса, на шины... ей не место на этом низком столике... Ни там, на
камине, где она заменила... надо же было что-то туда поставить... мраморные часы со
сломанным маятником... Ей следовало остаться в подвале, среди продранных кресел,
старых сундуков, негодных горшков, тазов и кувшинов с побитой эмалью... Почему было
не вытащить маленькую сирену, подаренную когда-то... кем же?., такую приятную на
ощупь... ласкавшую взгляд, которому ничто не мешала
639
скользить но молочно-белым выпуклостям... Но, пожалуй, продолговатая фигурка
алебастрового тигра, отливающего золотом, подошла бы еще лучше к линиям и цвету
камина, к блеклым тонам снопов и букетов на занавесях, на крахмальных перкалевых
чехлах, на старинных фарфоровых вазах, откуда нпспадают лиловатые, розовые и белые
веточки душистого горошка...
Он вздрагивает, приподымается, стучит, зовет... да откройте же крышку гроба,
сдвиньте могильную плиту... освободите, выпустите... Еще на несколько мгновений...
еще хоть раз...
Он сдерживается, чтобы не припустить бегом вдоль набережных, по аллеям парка, он
старается как можно медленнее переступить порог высокой двери старого дворца,
поднимается по широченной лестнице, идет по анфиладе залов, где возвышаются, где
покоятся белеющие изваяния... Но там, подле окна... как всегда на своем месте...
вот она... под защитой стеклянного колпака...
Без спешки. Спокойнее. Она не так-то доступна... надо еще заслужить... собрать все
остатки сил, не рассеивая ни частички... сосредоточиться... открыться... создать в
себе вакуум... чтобы вновь, как некогда, от нее стало исходить, излучаться,
заструилось...
Они отворяют дверь, спускаются, входят... Два старика сидят друг против друга,
утонув в своих креслах, бокалы, наполовину еще полные, стоят перед ними на низком
столике. Взгляни на него: он все еще сжимает трубку в зубах... А эта каменная
зверюга... Зачем она здесь? Что это такое? Носорог? Пума? Да нет, посмотрите на
уши. Скорее это какое-то мифическое животное... Священный объект, вероятно, предмет
культа... Какого культа?.. Разве теперь узнаешь, что она для них значила... Они
приподымают, поворачивают, ощупывают... этот след...
— Вам пе кажется иногда, что со всем этим покончено... Это мертво. Мертвый мир.
Мы — жители Помпеи, погребенные под пеплом. Мы — мумии в саркофагах. Погребенные
вместе с вещами, которыми пользовались при жизни... Тот приподымается в кресле,
наклоняется вперед..,— Полно, что вы говорите?.. Что еще вы придумаете?
640
Как можно поддаваться, чувствовать себя задетым этими детскими выходками?.. Бунт
пресыщенных подростков... Это пройдет.
Ты его слышишь? Ты слышишь, что говорит твой" друг? Что говорит твой брат, твой
двойник... Взгляни на него, это зеркало, в котором ты должен был бы узнать себя...
Взгляни на это чересчур розовое, чересчур гладкое лицо, размякшее за долгие часы,
за долгие годы от благодушия, безмятежности, от сытого довольства отрешенностью...
когда, держа шляпу в руке, оставив в гардеробе все запретные вещи, трости, зонты...
терпеливо отстояв в очереди у входа, вы медленно скользите в толпе добропорядочных
людей, останавливаетесь, замираете... Ах, разумеется, было тесновато... даже в
будни, даже и пе в часы пик... но мне так не терпелось... Так хотелось кинуть хотя
бы беглый взгляд... я, конечно, пойду еще... А я был уже два раза... Вы не
находите, что над всем возвышается, все подавляет... Конечно... Это восхитительно.
Перед этим хочется встать на колени...
— Да что это с ними? Что они делают там наверху? Отчего так хохочут? — Ну что с
ними может быть, по-вашему? Они веселятся, вот и все... это нормально... Вспомните,
когда нас разбирало...
Нет, можно ли даже подухмать? Он — твой двойник, твой близнец? Не думали мы
этого... всерьез не думали... только смеха ради... чтоб подразнить тебя... Он —
твое зеркальное отражение, этот тупица, тугоухий болтун, в простоте душевной
изрекающий одну банальность за другой... будто этим можно тебя успокоить...
избавить от корчей, дрожи... когда между ним и тобой, когда между вами и
рассеянными по белу свету чудесами проскальзывает идущее сверху, от нас дуновение,
этот порыв колючего ветра... холодного воздуха... Взгляните, как он ерзает в своем
кресле, как подымает руку, чтобы заставить того умолкнуть... Нетерпеливо мотает
головой... приподымается, напрягает слух...— Нет... Прислушайтесь...
Нужно усилить дозу... Усилить? Кто сказал усилить? Кто, пусть неслышно, пусть даже
про себя, имел неосто-
21 М. Бютор и др.
641
рожыость сказать «усилить»? Кому из них неизвестно, что смех, чтоб произвести
эффект, должен звучать невинно, непосредственно... журчанье ручейка, воркование,
щебет... неудержимо... как его сдержать, как сдержаться, если это так забавно,
умора, да и только... Ие так громко, тебя услышат... не так громко... право, тебя
слышно внизу... Ты помешаешь им... они прыскают, прикрывая рот ладошкой... еще и
еще... и как угомониться, когда разбирает... теперь довольно пустяка, жеста,
словечка, чтобы безудержный хохот вырвался, раскатился, передался другим... это
ведь так заразительно, правда? Когда почва подходящая, а она подходящая... удобрена
беззаботностью, детской ветреностью, легкомыслием...
Разве могут задеть их какие-нибудь страхи, давние обиды, какие-нибудь нечистые
помыслы, миазмы, идущие снизу, проникающие сюда?.. О чем речь? Что еще за новости?
Я ничего не понимаю, ну, ничегошеньки. А ты?.. Да и я тоже, конечно... Ой,
посмотри... ну и умора... хохот... просто лопнуть можно... дай-ка мне... передай-ка
ему, дай-ка снова мне, еще и еще... тихонько приливая, подступая, внезапно
взрываясь, потом стихая, уходя вглубь... подземные воды... но вот он
выплескивается, бьет гейзером, очень высоко, слишком высоко... Ой, тише, ты им
помешаешь... они думают, мы пошли спать... и снова хохот... что мы... не в силах
договорить... опи давятся от смеха... Да замолчи же, я больше не могу, перестань,
замолчи, хватит... ну, не дурак ли... ну, не идиоты ли... Да, мы — идиоты... Я вас
спрашиваю: с чего вы покатываетесь, что я такого сказал?., гримасничая, как клоун,
корча изумленную мину старого педеля... Тсс-тсс... успокойтесь... Вы что, дети?..
Дети... Ой, держите меня... ой, хватит, умоляю... хватит... ты что, не слышишь?
глянь на ручку... ха-ха-ха, на какую еще ручку? пет, это уж слишком... взрывы
хохота следуют один за другим, без перерыва... на дверную ручку, идиот... она
поворачивается, в дверь стучат... Что такое?
Крупного зверя, который забился в свое логово, выкурили из берлоги, он вылез...
открывает, пусть войдет... Вот видите, доза была слишком сильной, он рухнул, его
большие рачьи глаза помутнели, он вот-вот сдохнет... А мы-то думали, что он еще
способен кусаться, что нам с ним никогда не сладить... Они куда слабее, чем
кажутся... Ну, в
647
чем дело? Что с тобой? Что случилось? Очень уж зло разбирает? Хохот не по душе?..
Готовы кусаться, как всегда, стоит чуть подразнить... Нет? Не будешь кусаться?
Правда? Вовсе не сердишься? Тут, ей-богу, что-то ие так, его подменили в колыбели,
как говаривали наши бабушки... это не оп... Нет, это он, он самый, я узнаю. Я знаю
его как облупленного... И укусил бы, достань ему сил... Если б мы не манежили его,
пока он не выдохся и не приполз просить пощады... не сдался на милость...
Ваш смех? Какой смех? Ничего пе слышал. Я слышал только какой-то шум... Вы, значит,
не легли? Если бы вы только знали, как бы мне хотелось быть на вашем месте... Но
ничего не попишешь, я должен вернуться назад...
Она кладет руку на его согбенную спину... Лежачего не бьют... она улыбается ему,
целует в щеку... Ну, крепись... Теперь уж недолго... Отбрось все страхи, мир
заключен... ты получил прощение... Подобно ребепку, который подошел к матери, чтобы
та его поцеловала, и потом, успокоенный, возвращается играть к детям, он спустится
сейчас... Перед тем как выйти, он делает пам знак рукод*. озорной мальчишеский
жест, и лукавая, жалкая, трогательная улыбка как-то натянуто, как-то косо застывает
на его разгладившемся, одутловатом старческом лице... ^___
— Ну хватит. Довольно. Пора спать, хватит ребячиться, хватит играть... Хватит?
В самом деле? Хватит? — Да, хватит. Он представил нам веские доказательства.— Какие
доказательства? Здесь все их видели. Все видели, как он явился с дохлой зверюгой.
Все видели, как он поверг к нашим стопам это приношение. Сами знаете, трудная
жертва. И ангел не слетел, не задержал его руку. Он убил свою зверюгу. Принес и
бросил перед нами.— ^Ничего такого я не видел; Ты принимаешь желаемое за сущее.—
Нет, я это видел. С некоторых пор я чувствовал, что оп поколеблен... плоть слаба...
как оп пн боролся, прижимая к груди живую, теплую зверюгу, как ни пытался любой
ценой защитить ее, он не мог устоять перед нашими бесконечными увещеваниями... В
конце концов он отвернулся от нее, забросил ее, перестал за ней ухаживать, и она
сдохла, тогда он схватил ее и приволок сюда... Вы же видели, ие отрицайте... Перед
кем вы пытаетесь ломать комедию? Где вы находитесь? Кого хотите обмануть? Кто ж пе
видел, что он вошел с недвижной зверюгой на руках?..
21*
643
Они молчат... Видите, все заметили. Он положил ее перед нами и сказал: Вот. Сдаюсь.
Я принес ее вам. Сами видите: она мертва. Вы можете вертеть ее как угодно. Это
падаль. Жалкие останки... Вы его слышали? — Да, все его ясно слышали: ои это
сказал. Но нужно было допросить его. Важны намерения. Следовало допросить его,
почему он так поступил.— Допросить? По его допросили.— Кто? — Я. В тот момент,
когда ои положил ее иа пол, я сказала ему: Хорошо, очень хорошо, но ведь это уже не
в первый раз. Конечно, тебя уж не поймать на том, что ты используешь эту зверюгу
против нас. Это из тебя выбили. Да ей и не по силам тебя защитить... Слишком
хрупка, слишком уязвима... Только и может произвести впечатление па таких бедняг,
какими мы были, сидя взаперти, в плену у вас, в вашей власти. Но есть ведь и
другие... Малодушный, всегда готовый па предательство, он спросил: Какие другие? Я
расхохоталась... Ладно, пе ломай комедию, ступай вниз к своему другу, поговорите с
ним о ваших тайных походах, укрытых от наших кощунственных взглядов...
насладиться... эта линия... бедра... это движение... самая прекрасная вещь из
всего, что я видел в Риме, в Берлине... Но он же упал на колени... и не говорите,
что вы этого не видели... оп ясно сказал, сказал громким, внятным голосом: Нет, с
этим покончено. Больше ие будет бедер, рук, линий, форм, красок, ничего такого...
только согласитесь...— Да, это было ужасно, каким ледяным взглядом ты посмотрел на
пего, когда спросил: согласимся на что?.. Ои слегка дрожал, ои стисмул мои колени,
слезы текли по его лицу: Только согласитесь принять меня, не отвергайте... Я готов
пожертвовать всем... никаких эскапад, никаких предательств, никаких поползновений к
бунту, нападкам, лишь бы вы допустили меня к себе... никогда не уходили, как
сейчас, никогда этого не делали...
Чего этого? Он отвернулся, бедняжка... Чего этого? Оп ве посмел даже сказать, зпал,
что опасно, что есть вещи, которых — даже в такой момент — лучше не касаться...
чтоб показать, насколько он уподобился нам, как рад будет, если мы его допустим
участвовать во всех паших играх, ои ограничился этим мальчишеетш жестом, этой
жалкой лукавой улыбкой... Ты видел?.. Я ие выдержала и поцеловала его... Хватит,
встань, ступай вниз. Ты понял, это — главное. Теперь иди, там ждет тебя посторонний
человек... Глаза его блеснули радостью, когда я это сказала: Посторонний, чужой,
должно быть, удивляется там, внизу..,
644
Я похлопала его по плечу, и он отвернулся, пряча слезы благодарности, нежности...
Иди поскорее вниз, твой гость, вероятно, недоумевает, что случилось, что ты тут
делаешь, запершись с нами...
— Надеюсь, вы пошли туда не затем, чтоб выбранить их? Меня они, право,
нисколько не беспокоили...— Выбранить? Я? Их? Выбранить! Вот они бы посмеялись.
Куда там! Я уже давно не вправе и слова сказать. Погоду делают они. Кто это сказал,
что в паше время родители обращаются со своими чадами как с высокими гостями... с
бесконечной предупредительностью... Ходишь па цыпочках, гнешь спину, чувствуешь
себя вознагражденным, если они спизойдут... Но это нужно еще заслужить. Нам ничего
не спускают... даже этого... Оп щелкает погтем указательного пальца по своим
зубам... и поверьте мне, конца не видио. Чем больше им уступаешь, тем они
требовательнее.
Тот покашливает... Ему не по себе от воздуха, которым приходится тут дышать...—
Насчет этого, сами поиимате, я пичего не могу вам сказать... Тут у меня нет
никакого опыта. Наверно, отцовство, как и брак, требует, чтобы все шло гладко,
особого призвания. У меня его не было, я понял это очень рано...
Потом протягивает руку, ласкает каменную зверюгу, стоящую между ними па низком
столике... Лицо его разглаживается... Взор увлажняется..
Но вдруг: Прислушайтесь... точно удар в спину вывел его из транса... Он
выпрямляется: Что еще такое? Что случилось? — Это нечто...— Ах, опять это? Этот
смех?..— Ну, не смех как таковой... смех сам по себе ничто... Да, действительно,
ничто... я рад это от вас слышать...— Сам по себе — ничто, но здесь есть... Я знаю,
это неразумно... это противоречит здравому смыслу...— Да, противоречит здравому
смыслу. И вы погружаетесь в это, вы этим тешитесь, не хотите из этого выйти...
Какая потеря времени... Какая трата энергии... Ведь нет же ничего. Ну, ничего. Вас
повергает в ярость ничто. Пустота. Воздух. Вы сражаетесь с пустотой. Он наклоняется
вперед с выражением зрелого, опытного человека, который беседует с подростком:
Ничего, поймите. Вам достаточно сделать так... его крупная рука отметает воздух...
и все исчезнет, ничего пе останется: детский смех. Они забавляются. Вот и все. Де-
ти-которые-забавляются. Только и всего. И ничем иным
645
быть не может. Не надо искать в этом ничего иного. Этот смех таков, каким вы его
делаете. В нем будет то, что захотите вы. Право же, я ие могу вас понять. Ои
оборачивается к окну, словно призывая па помощь... Бейте в набат, созовите,
допросите тысячи здравомыслящих людей, людей нормальных, и все до одного, слышите,
все до одного скажут вам, что это бредпи, чушь, о которой и говорить не стоит...
^веряю вас, не стоит... это нелепо, недостойно... Объясн1гге-ка мне лучше... Вот
тут есть о чем призадуматься... Почему после стольких лет... вы же помните... после
стольких лет безраздельного поклонения... всем этим мраморным колоннам в лучах
медового света, всей этой божественной гармонии, этим золотым сечениям, вдруг стало
ясно... вдруг обнаружилось, что существует это... что есть и в этом...
Он послушно кивает головой, он покорно позволяет увлечь себя, вложив свою потную
ручонку в сжимающий ее сильный кулак...
Он останавливается, подставляя себя нежной ласке золотых лучей, изливаемых
полированным мрамором, округлыми, полными надежности, покойного довольства линиями
статуй...
И он тоже полон, умиротворен, он погружается в сладкую истому. Он слышит странно
резонирующий, словно бы доносящийся откуда-то издалека, металлический голос,
решительные, взрослые интопации.
Отяжелевшая голова, словно подвижная голова куклы, клонится книзу, болтается, как
если бы она была прикреплена к его туловищу гибкой металлической проволокой...— Да,
вы правы, это поразительно... на протяжении стольких веков... подобное затмение
вкуса...
Вкуса? Действительно, вкуса? Мы пе ослышались? Вкуса. Да, вкуса... сложив губы
трубочкой, нелепо округлив рот, он проронил это: круглое, скользкое... вкус... Вот
умора. Лопнуть можно.
Он вдруг пробуждается...— Нет, язык подвел меня, не знаю, как у меня вырвалось... я
думал о другом... Вы отлично знаете, дело не в этом.— Не в этом? гладкое и
округлое, шелковистое, благоуханное, душистый горошек, старииные вазы и крахмальный
перкаль, доколумбовы
646
скульптуры с их чистыми линиями, наивной и ученой прелестью?.. Люди благородного
происхождения с первого взгляда понимают, куда попали... малейшая погрешность, и их
коробит, они отворачиваются, фу, какая гадость, затыкают пос... какое чудовищное
соседство, падо же было пасть так низко... Действительно, с твоей стороны было
ошибкой употребить эго слово... Даже в вашей среде «вкус» скомпрометирован... одно
из слов... вроде «хорошего тона»... которые только и годны что для загадок:
назовите слово, указывающее, что тот, кто его употребил, не обладает качеством, им
обозначаемым? Не знаете? Так вот, это слово — вкус, ха-ха...— Хватит. Прекратите
ваш дурацкий смех. За кого вы меня принимаете? Что за комедия? Вам отлично
известно, что дело не в этом.— А в чем же?.. С тупым видом, раскачиваясь, супув в
рот палец... Скажи же нам... Он кричит: Все дело в силе, в отваге, в остроте, в
динамизме, в энергии... Не важно где... как... агрессивность... разрушительная мощь
всегда и везде... и в современном искусстве... как бы оно ни называлось... оп-арт,
поп-арт... я готов принять... но пусть это будет искусство, подлиннее искусство...
Подлинное? Искусство? Час от часу не легче, Искусство. От Харибды к Сцилле.
Искусство. Ай-ай-ай... Искусство... Широко разверстый рот, и из него вылетает
огромный шар, надутый восхищением, благоговением... Вытянувшись в струнку, вперив
взор... напялив потомственную ливрею... вышколенный с пеленок, чтобы служить
мэтрам... гордый возможностью показать простолюдинам, на которых это производит
впечатление и которые покорно следуют за ним по огромпым, украшенным лепниной
дворцовым залам, мимо высоких окон, глядящих в парк, ярких картин, изображающих
подвиги доблестных героев, славных завоевателей, святых мучеников за веру...
Он одинаково почтителен и заботлив со всеми, кто заслужил здесь место в силу ли
богоданных прерогатив или достоинств, дарованных высоким рождением.
И мы, его наследники, мы, кому наше скромное происхождение уготовило, равно как и
ему, второстепенные роли, малые и скромные дела, мы должны научиться черпать
удовлетворение и радость в своем низком положении... должны чувствовать себя
обласканными, когда ве-
647
ликие мира сего удостоят отбросить на нас, преданных им всей душой, легкий отблеск
своего сияния...
По у этих гадких мальчишек, у этого чертова отродья, как ни воспитывай, что пи
пробуй... мягкость, силу... сколько ни показывай им пример... сколько ни держи их в
ежовых рукавицах, ничего им ие спуская... у них какая-то извращенная склонность все
пачкать, все ломать... Простите меня... униженно кланяясь, с фуражкой в руке... как
я их ни наказывал, все без толку... это молодое поколение...— Ну, полно, полно,
успокойтесь, друг мой, я вас знаю, ценю вашу преданность, не надо так
расстраиваться, не браните их чересчур, вы увидите, это пройдет... они не ведают,
что творят...— О... весь съежившись, всеми порами источая подобострастие... о, как
подумаю, что они посмели... по отношению к чему-то, столь священному, и после всех
порицаний, всех поучений... Пе трогать... смахивать пыль и протирать осторожней
осторожного... они себе позволили... И все, чтобы досадить мне, злые, испорченные
мальчишки хотели надо мной поиздеваться, опозорить меня...— Успокойтесь, друг мой,
так ли уж это серьезно? — Да, очень серьезно...— Но о чем речь? Что они сделали? —
Они... по это чудовищно... как сорванцы, которые привязывают кастрюльку к хвосту
кошки, эти негодяи... они смастерили из гофрированной бумаги, вроде той, извините,
что кладут в коробку с печеньем, с конфетами... колье, плоеный воротник... и
надали_на шею этой статуе... этому мифическому зверю... своего рода пуме... Я это
обнаружил утром... закричал, позвал их, они прибежали, нагло улыбаясь, несносно
хихикая... я едва мог говорить, я только указывал им иа нее пальцем... Кто? Кто из
вас это сделал? Они переглядывались, едва сдерживая смех: Кто? Ты? Или ты?
А потом выстроились передо мной полукругом и одип из них, шагнув вперед, сказал мне
с вызовом: Все. Все вместе. Этот плоеный воротник — плод коллективного труда.
Коллективный труд. Ясно? И оттолкнув меня, они подошли к камину и, несмотря на все
мои мольбы, мои крики, взяв ее, положили па стол кверху брюхом... Тебе пе кажется,
что так она выглядит лучше? Нет? Да не бойся, мы ее пе сломаем... они похлопывали
ее... признайся, в этом положении она гораздо красивее... и плоеный воротник ей
идет как нельзя больше... У нас это вышло само собой... вдохновение осенило... Не
важно из чего, любой материал годится... даже твои прославленные мэтры теперь
648
ничем не брезгают, ведь правда? Даже презренным свип-цом, если им вздумается... Но
мы-то даже не пытаемся превратить свинец в чистое золото, мы просто развлекаемся, и
все... Сорви, если хочешь, пожалуйста, я сам его снимаю, ие волнуйся... Но
согласись, ведь ей это шло, согласись, это ее украшало... в ней есть что-то унылое,
кургузое, а это сообщало ей легкость, придавало какую-то...
Тут я пришел в себя, я схватил их за шиворот, я стал трясти их... Несчастные
молодые старички, жалкие подражатели, покорные внуки тех, кто пятьдесят лет назад
пририсовывал усы, да, вы сами знаете... полагая, что они потрясут мир, сметут
все... по известно, что с тех пор... а ну-ка, вон отсюда, отправляйтесь спать...
И они поднялись, ни слова не говоря, заперлись там, наверху... Я полагал, что они
подавлены, думал, что уничтожил их... и вдруг услышал смех... эти раскаты смеха
точно топкие ремни секли, хлестали меня...
Вот умора, вы слышали? Джоконда... усы Джоконде... Они все еще с места ие
сдвинулись, все еще составляют свои хронологические таблицы, держатся за свой
жалкий приоритет, ублажая ненасытное самолюбие своих мэтров, своих «творцов»... Усы
Джоконде... А правда, мы пе подумали об этом, браво, мы в восторге... С этим давно
покончено, бедняжка, со всеми твоими досками почета, табелями о рангах... тут
предтечи... там эпигоны... тут великие, там ничтожества... Усы — это лихо... жаль,
нас там пе было, мы не смогли принять участие, вот бы посмотреть, какую рожу ты
скорчил... Нет, это глупо, мне жаль его... всю жизнь стараться не нарушить
приличий, киснуть в подобострастии, никогда не позволяя себе... На, держи... и
разодрав коробку с печеньем, вышвырнув печенье иа пол, топча его ногами, вытащив
гофрированную бумагу, сложив ее... Смех замирает, лица становятся серьезными... Ну-
ка, дай, мне пришло в голову... или нет, она слишком мала, лучше взять картонку...
ища глазами... вот, держите, и не вокруг шеи, лучше вокруг морды, или нет, вокруг
брюха... пониже... и ее нужно посадить, вроде как в балетной пачке... нет, право,
она мне иачииаег правиться... это придает ей вид... шик... Ох, гадкое слово...
Поглядите, как оп побледнел, он сейчас упадет в обморок... оно пошло, да?
вульгарно... Да не гляди ты с таким отчаянным видом, иа, мы тебе ее возвращаем,
держи свою игрушку, видишь, па ней
649
нет пояса, нет красивого колье... а жаль, оно очень шло ей... ну вот, успокойся, мы
рвем его, выкидываем... Нет, господа, поверьте, у нас нет авторского самолюбия, мы
не стремимся создать нечто неповторимое, коллекционную вещь... мы не жаждем ни
обогащения, ни славы в настоящем или будущем... Мы ничем не связаны, чисты. Мы все
равны. Все гениальны... Ты тоже, знаешь, ты — гений... ты тоже, почему бы нет?
Стоит тебе захотеть... Ты тоже...
Их твердые ладошки сжимают его руки... Пойдем, развлекись немножко, как мы,
вставай, потянись как следует, разомнись... Осторожно, он вырвался, взгляните на
него, он присел на корточки за креслом своего друга... Что ты там делаешь?
Прячешься? Значит, ты этого так боишься? Полно, вылезай оттуда... Они вытаскивают
его из-за кресла, он не сопротивляется, только молча мотает головой... улыбка
расплывается по его гладкому лицу старого кретина... Увидишь, мы позабавимся,
потанцуем... Право, это тебе пойдет на пользу, разыграем вместе комедию... дай себе
волю... открой шлюзы, опрокинь барьеры, выпрямись, наконец, прыгай, резвись... они
похлопывают его по груди, по лбу... тут сокрыты «сокровища», «неподозреваемые
богатства», выражаясь вашими словами... как и п пас, как и во всех... Нет? Ни за
что на свете? Отказываешься? Это твое последнее слово? Предпочитаешь не двигаться с
места, рухнуть здесь, грузный и инертный, как твоя зверюга... взгляни на нее... На,
бери ее, неси на камин, поставь на место... он наклоняется, берет ее на руки... они
подталкивают его... К чему такие предосторожности, не делай это с видохм, будто
несешь святые дары, святой потир... ну вот, здесь ей хорошо... Сейчас ты увидишь,
мы начинаем... но посмотрите, как он весь напрягся, одеревенел, скукожился... да
расслабься же... беззаботней, дай себе волю... Ты раскрепощен, свободен, пойми
это... больше нет сеньоров и мэтров, святых образов, ты сам мэтр, сам себе хозяин,
ты и твой суверенный жест... Больше нечего страшиться, нет ни судей, ни законов...
Просто жалко смотреть, во что тебя превратили за долгие годы, вся жизнь прошла в
послушании, в набожном поклонении, это и не позволяло тебе никогда, даже мысленно,
хотя бы... посмотри на нас... это так легко...
«Легко»... смотрите, как он весь сжался, его напугало это слово... одно из слов-
барьеров, одов^овчядок, которые заставляют немедленно отступить, поскорееУкрыться в
650
загоне, сбиться поплотнее. Легко. Да. Но отныне это не должно пугать тебя. Легко, а
почему бы и нет? Тем лучше, если легко, это такое наслаждение, не приходится
сдавать экзамены, проваливаться, унывать, отчаиваться, дрожать, начиная все
сызнова, покрываться смертельным потом, заниматься самобичеванием, простираться пиц
и часами ждать знака, пусть самого ничтожного, лишь бы он подтверждал
избранность... Все — избраны. Все — призваны. Отныне и навсегда покончено с
отлучениями, исключениями... Встань, расправь затекшие члены, да не бойся же...
Он кидает на друга, утонувшего в своем кресле, застенчивый взгляд ребенка, которого
просят прочесть стихотворение на семейном сборище... Да не гляди ты на него, забудь
его, забудь все... пошли... скинь эти стесняющие тебя одежды... поступай как мы...
пазабавимся вместе... Он тяжело подымается... Но что эдю? Что вы намерены сделать?
Поставить пьесу? Балет? Не хотите же вы, чтоб я... Ну, чем он еще недоволен? Право,
просто руки опускаются... Еще капельку терпенья... Это никак не называется,
пойми... С названиями, ярлыками, дефинициями покончено... Это то, чем оно станет, а
чем — никто не знает и знать не хочет... Бросайся очертя голову... без оглядки...
Да, безоглядно, безвозвратно затерянный, всеми забытый, недосягаемый для глаз,
недосягаемый для воспоминаний... в пустоту, в невесомость... он ощущает, как его
грузное тяжелое тело... Кто это сказал? Кто сказал — грузное? Кто сказал — тяжелое?
Кто сказал — тело? Откуда взялись эти слова? Они лежат на мне. Они прикреплены ко
мне... я облеплен словами... сорвите их... Они тащат его за собоД вертят,
заставляют лечь, встать... тяжелая, грузная туша, слон, мамонт пускается в пляс...
Он смотрит на эти старые, отвалившиеся от него слова, он, смеясь, топчет их... Вот
чем я был облеплен всю жизнь... грузная, тяжелая туша... я больше не боюсь...
глядите, что я делаю... но по мере того как движение увлекает его все
стремительнее, отваливается и это, точно струпики, когда после скарлатины шелушится
кожа... отныне нет ни «глядите», ни «я», ни «делаю»...
Остается только то, что теперь проталкивается, циркулирует в нем, через него, между
ними и им, они — единое целое, они точно кольца змеи, которая взвивается, качается,
скользит, ползет по мебели, по лестнице, свертывается клубком, падает,
разворачивается, вытягивается, бросает-
651
ся из стороны в сторону... вода течет из опрокинутых ваз... цветок на прямом стебле
колеблется, как свеча, в его руке... Задыхаясь, он валится в кресло, подымает
голову и видит склоненные над ним улыбающиеся лица.,. Вот что вы заставили меня
делать... это безумие...
Друг, который сидит против пего по другую сторону низкого стола, прижав, словно это
помогает ему сосредоточиться, большой и указательный палец к углам опущенных век,
не двигается, молчит. Неколебим. Неприступен. Нечувствителен, как стены замка к
бурлению воды, слегка захлестывающей их снизу, к насекомым, копошащимся в типе
крепостного рва.
— Прислушайтесь... Но прислушайтесь же... Тот отнимает руку, открывает усталые
глаза — К чему? Что случилось? — Мне порой кажется... вы будете смеяться, вы
тоже... что... что жизнь... простите меня, это нелепо... ну, в общем, то, что за
неимением лучшего, приходится называть так... опа теперь там, у них... а ие здесь,
уже пе в этом... он щелкает зверюгу в бок... Это все в прошлом. Ушло. Скоро от
этого пичего не останется, все, что будет появляться, тотчас будет исчезать...
рушиться, едва возникнув... постоянная утечка... ничего нельзя будет удержать,
сохранить, сберечь, никаких сокровищ, ничего заслуживающего благоговения, ничего
подобного им уже не нужно... Л без них...
— Так значит, им пичего подобного уже пе нужно? И со всем этим покопчено?
Прискорбно... Оп кладет руку на спину зверюги, тянет ее к себе... Мы с тобой,
оказывается, им не нужны... Какое несчастье, какой ужас, что ж теперь с нами,
бедными, будет...— Да, это правда, вы сами не понимаете, как верно то, что вы
сказали... склоняясь через стол, шепотом... Что с нами будет? Что станет с на-ми
без них? — Без них? Что станет с нами? старый друг покачивает головой, взор его
изливает сочувствие... Простите, что причиняю вам боль, но, я полагаю, придется
обойтись без них. Увы, с этим нужно смириться. Но смеется тот, кто смеется
последним. Ибо мы сильны, очень сильны, то, что заключено в этом, очень сильно,
обладает огромной мощью... В день, когда они попытаются разрушить это... Но до него
еще далеко, думаю, вы их переоцениваете, преувеличиваете их опасность, бедные дети
не так уж грозны, им не по плечу...
652
Засунув руки в карманы брюк, надвинув кепку до бровей, зажав в зубах окурки, они
лениво шатаются среди подмостков, время от времени останавливаются, прислу*
шиваются к навязшим в ушах выкрикам зазывал, с гримасой отвращенья глядят па
омерзительные жесты работорговцев, которые подталкивают вперед свой товар, по*
ворачивают его во все стороны, похлопывают по ногам* шлепают по бедрам... Вот
здесь, пожалуй, не спорю, ecfb какая-то вялость в контуре ляжки, но взгляните зато
на линию спины... несравненна. Вся непосредственность и мощь примитива. Редкая
вещь. Кто скажет лучше? Настой роженно приглядываясь, срывающимся голосом... Ну*
смелее...
Никакого движенья. Никому «не поднять». Все слишком бедны. Обнищали. Можете
оставить ее себе. Оставь’ себе свое чудо. Пусть тебе будет лучше.
Он подымает голову и внезапно, с каким-то неожиданным для себя самого выражением,
которое заставляет иЯ еще до того, как он открыл рот, сделать шаг назад, сбиться в
кучу: Да. Лучше. v
Странно, но хватило этого — этого безотчетного оттей* ка в тоне, показавшего им...
они с трудом могут поверйть;» что он и вправду от них оторвался, не обращает на ни<
внимания, не помнит о них, глядит в себя, созерцает нечто в себе самом и так
просто, с таким спокойствием и серьеЗ* иостью констатирует: Да. Лучше.
И они, в свою очередь безотчетно, словно заразясь от него, тянутся в струнку,
выпрямляются по стойке смирно, с застывшими лицами, с вперившимися в него глазами.
Да. Лучше. И более ни слова. Воспользоваться этой нежданной победой, упрочить свои
позиции. Да, лучше, слышите! И на этом все. Брысь, пошли вон, чтоб я вас нё видел.
И это уже бьет в нем, парастает, переполняет его, льется через край, течет, отныне
не встречая преград, этого по удержать, да, лучше, да, ничего нет лучше, чем эти
мгновения контакта, совершенного слияния...
Что-то мелькает в их глазах, которые утратили неподвижность, на их оживших лицах...
Один из них делает шаг к нему, остальные пезаметпо его одергивают... Дай же ему
653
сказать... Интересно...— Да, правда, интересно, просто умора, не так ли? Просто
умора, что мне взбрело на ум подарить вам... он расхаживает перед ними... все то
лучшее, чем я обладаю... то, чего никому у вас не отнять... Да, просто умора, что я
обхожусь с вами как с высоким гостем, которого сажают на почетное место, для
которого достают из погреба, которому дают отведать самые свои тонкие вина... И я
вдобавок вечно корил себя за то, что не смог, ие сумел дать вам что-то еще
лучшее... умолял вас простить мне все несовершенство... заставлял себя, вот уж
поистине умора, как можно дольше скрывать от вас... бедные дети всегда успеют
столкнуться... прятать от вас могилы и показывать лишь прекрасные венки... и
главное, мечтал оставить вам в наследство этот талисман, чтоб вы хоть иногда, хоть
на несколько мгновений, ни от кого не завися, в полном одиночестве, могли отвратить
от себя... чему вы улыбаетесь? — Вовсе мы не улыбаемся... Мы слушаем тебя...— Да,
отвратить от себя... простите мне высокопарность*,. удержать на почтительном
расстоянии смерть... Тут есть чему, улыбнуться, над чем посмеяться* Вы правы.
Каким4 же я был дураком. Пеликан. Готовый все отдать вам. Всем пожертвовать...
устраниться, потесниться, лишь бы дорогим деткам было где расцвести, лишь бы
предоставить юг побольше места... Только бы они соблаговолили принять... Достаточно
ли это хорошо? Красиво ли подано? О, какое счастье, они не отворачиваются,
напротив, глядите, наклоняются... Нет? Да?
. Они стоят полукругом, прижавшись друг к другу, локоть к локтю, лица, их недвижны,
остекленелые глаза прикованы к нему. Он подходит к ним ближе... Скажите же что-
нибудь... я ведь. к вам обращаюсь... вы слышите меня?
Он разбивает свои слабые стиснутые кулачонки о их могучую грудь, в его голосе
проскальзывают плаксивые интонации... Я знаю, что смешон, что с вами все
бесполезно, все бессмысленно... А потом* отступая, отодвигаясь от них, кричит,
срываясь на фальцет: Но знайте, я не один... Есть люди, лучшие люди... Одинокий
прохожий, которо-го окружили на пустынной дороге хулиганы, озирается по сторонам,
зовет на помощь, поблизости есть люди, мои спутники тут, они услышат, они совсем
рядом, за первым поворотом, сейчас они прибегут... Слава богу, остались
654
еще люди, которым все это дорого... Я не одинок в своих взглядах... Все те, кто еще
способен по-настоящему сделать усилие... все они со мной... и молодые люди, ваши
ровесники, для которых я никогда и пальцем не пошевелил, для которых ровным счетом
ничего не сделал... по собственному побуждению, без всякой моей просьбы... округ
жают меня, поддерживают...
и
Они надвигаются на него, сгрудившись еще плотнее..* их челюсти, их взгляды
тяжелеют, наливаются жестокостью... Только послушайте его, послушайте это ошалелое
кудахтанье... А ты ведь считал себя непобедимым, вооруженным до зубов... Мы,
значит, внушаем тебе такой страх, что ты ищешь защиты у сил порядка, скликаешь на
помощь, призываешь фараонов...
— Нет-нет, пичего подобного, поверьте... Я не этого хотел... Неужели я
настолько глуп? Разве я не знаю, что такие доводы на вас не подействуют, вас не
запугают? Мне хотелось просто напомнить вам, что я не исключение, не такое уж
ничтожество, наконец, не такой уж безумец... Я, разумеется, не должен был... сам не
знаю, что на меня нашло, это вырвалось невольно...
— Невольно... Вырвалось... сработал, понимаете ли, один из рефлексов,
обусловленных многовековой жизнью среди благонамеренных, оберегаемых,
привилегированных, обосновавшихся среди своих сокровищ, прикрывающих свои
копилки... И при первой же угрозе... как удержаться... Ко мне, добрые люди, на
помощь, бравые стражи!.. Не драться же с этим хулиганьем, слава богу, мы не одни,
есть полиция, чтобы нас защитить... Хороший удар дубинкой вразумит этих маленьких
негодяев... Лучшее средство прочистить вам мозги...
Выходит, мы еще недостаточно низко склонились перед этим маленьким чудом. Этим
шедевром. Чистым произведением искусства. Которому место в музее. Разве мы не
слышали, как это было объявлено? Не слышали, как были оглашены последние указы?
Конечно слышали и продефилировали перед ней, воздали честь, куда нам было деться. А
потом ушли. Заперлись у себя. Но даже и это, оказывается, было слишком. Даже это не
было дозволено, следовало зайтись здесь на всю ночь в экстазе и петь до хрипоты
хвалы... Вот чего он требовал. А? Признайся, ты этого хотел? Заставить пас отречься
от самих себя, унизиться... Ты побледнел, изменился в лице, когда мы, спо-
655
койные, независимые, безразличные, встали, попрощались и ушли как ни в чем не
бывало... Этого он не мог вынести, бросился за нами вдогонку...— Неправда, никуда я
не бросался, с места не двинулся...— Не двинулся? Не поднялся наверх? Не тряс
дверь? — Но когда? Гораздо позже, когда от вас...— Ах, когда мы позволили себе...
какое оскорбление величества.... когда мы развлекались в своей Компании... тихопько
смеялись за закрытой дверью...— Да, когда вы пизвергали, обрушивали па нас... Нас
залило... мы начали задыхаться..,— Задыхаться? Как интересно.,.
Теперь уж мы сами взываем ко всем добрым людям, ко всем здоровым, нормальным людям
на свете... к вам, мосье, достойнейшему их представителю, к вам, который кажется —
и безусловно является — человеком вполне уравновешенным... Почувствовали ли вы,
слыша наш Смех, что-либо, мешающее вам дышать? Почувствовали ли вы себя не в своей
тарелке?..
Он оборачивается к другу...— Да скажите же им... умоляю... признайтесь... Быть пе
может, чтобы вы ничего не почувствовали... Вы ведь не раз прерывали разговор,
встревоженно прислушивались... Скажите им...
Друг трясет головой...— Я был бы счастлив поддержать вас, я от души хочу вам
помочь... Но несмотря па все ваши попытки обратить мое внимание, мне объяснить...
я, со своей стороны, находил... должен признаться, этот смех вполне невинным,
скорее даже приятным... безумный хохот, как бывает в этом возрасте... когда не
можешь остановиться... Покачивая головой, с ностальгической растроганной улыбкой...
Да, юный смех... свежий смех...
Они повторяют за ним: Юный смех. Свежий смех. Невинный смех. Ты слышишь? Ты слышишь
голос разума? Ты слышишь голос мудрости? Невипный смех. Юный свежий смех.
Они повторяют, скандируя каждое слово. Точпо сапоги печатают по шоссе. Свежий смех.
Юпый певинпый смех. Невинный. Невипный. Сапоги печатают все громче, в голосах
звучат хриплые поты команды.
656
Наконец с этим покончено, с этими дикими, эксцентричными выходками. Теперь
воцарится порядок. Мир, как у добрых людей.
Эти смутьяны, нарушители спокойствия совсем распоясались.
Взгляните хоть на этого. Прикрылся маской благонадежности. В глазах всех — своих
подчиненных, начальников, зпакомых, друзей, соседей — слыл порядочным человеком,
безупречным отцом семейства, посвятившим жизнь своим детям. Таким воспитанным,
таким уважительным молодым людям... «Пичего ие могу сказать, у меня никогда пе было
оснований на них жаловаться»... сколько раз слышали, как оп твердил это? Сколько
раз слышали, как оп похвалялся редкостным везеньем, полным согласием в своей
семье...
И вот, представьте, в этом уютном доме, обставленном с изысканным вкусом, где сам
он вырос подле своих очаровательных родителей, подле нежных розовощеких бабушки и
дедушки, с их серебряными сединами, среди крахмального перкаля и душистого
горошка... в окружении таких красивых вещей, подлинных произведений искусства...
был притон, гнездо... происходили такие вещи..; Кто бы мог заподозрить?.. Один из
друзей застал их как-то врасплох, но не поверил своим ушам, никогда никому об этом
не обмолвился, да никто бы и не понял, всякий здравомыслящий человек решил бы, что
это игра больного воображения, явное безумье. Простой смех... невинный смех...
Свежий смех. Смех, свойственный этому радостному, беспечному возрасту,
благословенной поре жизни, увы, столь быстротечной, когда, сами помните, достаточно
пустяка, чтоб рассмешить, когда не можешь совладать с этим сладким, неудержимым
смехом... Так вот, этому субъекту, прикрывшемуся маской доброго отца семейства...
втайне... только ему одному известными способами удавалось превращать этот смех в
миазмы, в удушливые газы, в смертоносные бактерии, в поток гнили, в море грязи,
затопляющее якобы всю землю... Он предлагал снабдить всякого, кто пожелает,
орудиями, позволяющими в любую минуту безнаказанно извлекать из свежего детского
смеха всю мерзость мира... сеять подозрительность... доносительство... к чему бы
это привело, спрашиваю я вас, не наведи мы тут порядок? Ие отшатнись мы от пего,
как от зачумленного, не изолируй его просто в санитарных целях, из простых
соображений безопасности...
657
Он кидается к ним, цепляется за них... Вы же сами прекраспо знаете, вы же знаете,
что лжете. Как вы ни бездушны, вы ведь не сможете жить спокойно, если допустите,
чтоб вместо вас был осужден... Вы хорошо знаете, что сами спровоцировали все... как
всегда... ехидно...
Он вслушивается... ехидно... Он в удивлении выпрямляется... Ехидный... Об этом
следовало подумать: ехидный.
Вот это весомо. Это можно противопоставить невинному. Свежему... Ехидный смех...
Они растерянно оборачиваются, словно обескуражец-пые, а он, напротив, приходит в
себя, отпускает их, встает к ним лицом, скрестив руки на груди, с вызывающим
видом... Да. Ехидный. Это будет понятно всем. Ехидный — привычно. Ехидный —
узаконено. Ехидный — затрагивает все это... он делает широкий жест, вбирающий и их,
и статую на столе, и друга в кресле, и приоткрытую дверь наверху, на лестничной
площадке, откуда несло... нет, не песло, так не принято... откуда выделялся,
обрушивался иа них... нет, и это тоже не подходит... выделялся, обрушивался, это
отдает чем-то дурно пахнущим... откуда шел... вот это чисто, стерильно, совершенно
безвредно... откуда шел ехидный смех. Так ведь говорят, ие правда ли? Всякому ведь
понятно, что означает слово «ехидный»? Кто им не пользуется?
Ну, так вот: их ехидный смех вызывал у меня... это я ведь тоже могу сказать? Это
тоже дозволено?., вызывал — что может быть естественнее? — у меня чувство какой-то
неловкости. Какие власти, какая полиция, какой самый суровый режим, подавляющий
малейшее посягательство на порядок, запретит человеку с грустью констатировать, что
ехидный смех вызвал у него вполне понятное чувство неловкости?
Кто может против этого возразить? Как видите, мы в равном положении. С обеих сторон
вполне нормальные люди, граждане, которые придерживаются установленного порядка,
уважают обычаи, чтут законы. Одни утверждают, что смех был невинный. Другой
возражает в полном соответствии с действующим кодексом, пользуясь своим правом, что
этот смех был ехидный.
658
Ехидный? Вот к чему ты клопишь? Только этого п ждешь? Чтоб сказали во всеуслышанье,
что смех был ехидный? Ты уверен, что это твое последнее слово? Не боишься пожалеть
потом? А по зубам ли тебе этот кусок? Или ты забыл, что с тобой случилось, когда ты
неосмотрительно выклянчил «посредственности»? Разве эти «посредственности» не
послужили тебе уроком?., эта ампутация, от которой ты чуть не умер, истекая
кровью?.. Но «ехидный» ведь гораздо хуже, куда опасней. «Ехидный»... подумай-ка...
мы относимся к тебе с ехидством... Мы какое-то чужеродное тело, которое вонзилось в
твою плоть, грызет тебя...
Он шатается, у него подкашиваются ноги, кружится голова, слабым движеньем руки он
хочет остановить их.., видит внимательные, растроганные лица, склоненные над ним...
ах, его только могила исправит, вечно фанфаронит, пыжится, не соразмеряет своих
сил, жаждет эмансипации, разыгрывает из себя независимого...
Неужто мы так страшим тебя? Но ты же знаешь, мы вовсе не злые... Ехидные — это мы-
то, полно, просто смешно... Ты в это сам не веришь. С чего ты взял?..
Мы угрожаем? Мы опасны? Как? Чем? Подойдите же, подойдите, господа полицейские,
можете нас обыскать, мы безоружны, у нас не было дурных намерений. Этому господину
померещилось. Вот наши документы. Мы из хорошей семьи. Молодые люди, получившие
прекрасное воспитание. Мы не знаем, что ему взбрело на ум. Спросите, пусть скажет,
что мы сделали, чем провинились, чем не угодили.
Они подходят с проникновенным видом, проводят пальцем по ушам, похожим на колесо
телеги, на раковину, задают вопросы, почтительно выслушивают ответы...
Так безупречно воспитаны, приучены с малолетства... Надо браться пораньше, даже
если, по счастью, бог их талантами не обидел... На прогулке они сами обращают
внимание на какую-нибудь башню, колокольню... Хорошо отлаженный механизм
срабатывает в них автоматически, едва среди деревьев, за рыночной площадью, над
сверка-
659
ютцей пестротой фруктов и овощей, от которых ломятся прилавки, чуть заметно
вырисовывается изящный сероватый контур портала... Они торопливо пересекают залитую
солнцем площадь, глухие к выкрикам, к зазывным прибауткам торговцев, и
останавливаются, задирая голову к святым с уплощенными лицами, отбитыми
конечностями... они отворачиваются с гримасой отвращения от безобразных витражей...
Какое убожество, какая пошлость... Как только допустили?.. Куда смотрит Департамент
изящных искусств?
А их сообщническое перемигивание с ним, насмешливая, чуть высокомерная, но
снисходительная мина при виде какого-нибудь темного провинциала, который заходится
от восторга, хотя совершенно очевидно, что именно это, именно эта часть, как я
полагаю, была, пусть и неплохо, но полностью реставрирована. И они тотчас
отворачиваются, отходят...
Это не значит, что и с ними не бывает... даже с ними... ие надо преувеличивать, не
надо требовать невозможного... то ли по рассеянности, то ли, возможно, под влиянием
какой-то дурной склонности, низменного инстинкта, их иногда влечет... Стоит им,
однако, заметить, что тем самым они себя пятнают, компрометируют, они немедленно
спохватываются... Разве не приобрели они той способности к мгновенному
самоконтролю, той безупречной естественности, по которой с первого взгляда видны
хорошие манеры, выработанные, подобно рефлексу, образцовым воспитанием?.. Именно
таким, какое он постарался им дать... Рааве он ие может чувствовать удовлетворения?
Но что-то вдруг закрадывается в душу, коробит, режет... в их взгляде порой сквозит
какая-то неуверенность... словно бы тревога, опаска... щупальца тянутся, как бы в
сомнении, боязливо... с какой осторожностью они примериваются, ощупывают, обвивают,
сжимают... Но недостаточно крепко, не так, как он сам, не присасываясь по-
настоящему, всегда готовые отдернуться, вяловатые, дрябловатые, легко отрываемые...
Ему хочется схватить их и удержать силой... Тут, стойте тут, раз уж вы это выбрали,
раз уж это привлекло вас, раз уж это вам правится... Что за беда, если это
реставрация? Какая разница, пусть даже копия, если тебе это кажется красивым...
Если ты так чувствуешь... И они тотчас подымают руку, словно бы прикрываясь... Да
ие нахожу я тут ничего красивого, с че-
660
го ты взял... это я сразу понял... Вовсе я смотрел не на это...
Вот они, прекрасные плоды. Вот что получается, когда стремишься возвести эти
великолепные сооружения... цементируешь, подправляешь, тащишь, отбираешь то, что
привлекательно, достойно сохранения, драгоценное наследие веков... Бьешься, чтобы
укрепить, оградить, приподнять, улучшить... и вот вам итог: эти здания, тоже
выстроенные из натасканного отовсюду... обманчивых подобий... подделок...
В результате сам запутываешься, не можешь отличить в них подлинное от поддельного,
где оригинал? где копия? Тщетно оп разбирает их часть за частью, пристально изучает
каждую в отдельности, яростно роется повсюду, рискуя, ну и пусть, вырвать в своем
неистовстве то, что, возможно, было и хорошим, уничтожить то, что следовало бы
сохранить, ему удается лишь разломать их сверху донизу...
Он пробирается на ощупь среди обломков, плутает среди разоренных руин, то и дело
спотыкаясь о бесформенные кучи, кружа на месте, ища...
И вот... он вздрагивает, напрягается, подымает голову... вы слышите?., наконец-то
цельное... гибкое, трепетное, мощное, живое... действительно, их собственное... Ему
снился дурной сон, он не разрушил, пе повредил, даже не задел их, они крепки,
выкованы из прекрасного добротного материала, который ничему не поддается...
Прислушайтесь, как они веселятся... он подымает голову, блаженная радость
разглаживает его черты...
И другой, сидящий напротив, смотрит на него с симпатией... Вот видите, вы согласны
со мной... право, не было никаках оснований вбивать себе в голову... Вполне
невинный смех... свойственный их возрасту...
Он подымает голову еще выше, напрягается еще сильнее... у них там идет возня...
Дверь открывается и что-то, нечто вроде первоапрельской бумажки, которую
привязывают на кончик нитки... медленно спускается... он смотрит... Что это?.. Он
слышит негромкие взрывы... видит раскачивающийся над своей головой плакатик, где
черным по белому написано: Невинный смех... Он хватает записку, срывает ее, комкает
и торопливо прячет в карман... Нет, отнюдь не невинный... за кого вы меня
принимаете?
661
Я никогда в это не верил... нитку втягивают наверх... смех раздается громче... и
снова на кончике нитки спускается, раскачивается плакатик: Издевательский смех...
Он жадно протягивает руку... Да, вот именно: издевательский. Отлично. Вы слышите
их: издевательский смех. Это яспо, и это о^ень хорошо. В их возрасте необходимо
утверждать се-бя> отвергая нас, я нахожу, что это очень полезно. Утверждать себя
против нас в их возрасте — это, я считаю, свидетельство здоровья... Все новые и
новые раскаты смеха...
Друг начинает ерзать на своем кресле... Может, это и свидетельствует о здоровье,
но, по-моему, они слишком уж затянули удовольствие, это начинает, в конце концов,
раздражать... Нитку вновь втягивают, опускают. На плакатике, который болтается,
щекоча голову друга, огромными буквами начертано: Ехидный смех... Друг обеими
руками отбивает бумажку, но она парит вокруг его макушки, касается ее, взмывает
вверх, снижается и, наконец, падает прямо на лысую голову... он подымает руку,
хватает бумажку, рассматривает... Что это? Ехидный... Да, никаких сомнений: ехидный
— самое подходящее—слово... Все же, простите меня, надо признать, в таком смехе, в
такой скрытой издевке, коль скоро вы сами утверждаете, что они хотят поиздеваться,
и впрямь есть нечто ехидное...
Вид у него оробелый, он сам испуган тем, что сейчас сказал, и уже готов пойти на
попятный... очевидно, ему вспоминаются драмы, вызванные его словами о
«посредственностях».
Но от того, что происходит перед ним, он весь подается вперед, вцепившись руками в
подлокотники кресла, тараща глаза: голова утвердительно кивает, лицо сияет
удовлетворением, блаженная улыбка... Теперь вы сами видите, я был прав, я же вам
говорил: ехидный смех. Но это слово не страшит меня. Нисколько. Напротив. Оно меня
приводит в восторг. Когда вас ломают, гнетут, надо сопротивляться, ничем не
брезгуя. Даже ехидством, оно необходимо. Оно действует. Ехидство я принимаю. Пусть
эти дети ехидничают, пусть будут такими, какими им захочется, какими угодно, лишь
бы оставались собой. Лишь бы жили... по-настоящему... Пусть самоутверждаются против
меня, если так нужно, я это приемлю, я этого хочу... пусть ранят меня, топчут, если
это принесет им пользу, пусть даже убьют...
662
Смех стихает. Плакатики подымаются. А они спускаются, подходят к нему... Ну что ты
сходишь с ума... Опи гладят его по голове, протягивают ему свой носовой платок...
На, я не могу видеть тебя в таком состоянии... Ты сам не знаешь, что придумать,
только бы помучить себя, растравить... Ну, что ты еще сочинил? Что это значит, что
это говорит нам: Ехидный. Издевательский. Невинный?.. Невинный, сам знаешь, не
большего стоил. Как мог ты подумать, что топорные слова из чужого обихода... слова,
взятые из лексикона посторонних, из их словарей...
Это верно, они правы, как могут эти старые, заскорузлые слова объять, вобрать то,
что непрерывно циркулирует между нами, такое текучее, зыбкое, переливчатое, то, что
ежесекундно меняется, расплывается во все стороны, то, чего не задержать никакими
пограничными столбами, то, что наше, только наше... Какое слово, пришедшее извне,
может упорядочить наши отношения, разъединить или сблизить нас?.. Ты отлично
знаешь, что здесь, в нашем доме, все эти слова... Мы употребляли их смеха ради.
Чтоб позабавиться...
Он ощущает, как свежие упругие щеки касаются его щек, вдыхает идущий от их кожи
запах молока и меда, соки, которые полнят их, текут в нем... он вырывается,
отталкивает их... Нет, оставьте меня... Нет, не надо. Не сливаться... Мы должны
сохранять дистанцию. Я поневоле стесняю вас, на вас давлю... Тяжкое бремя. Мертвый
груз... И вообще, природа делает свое дело, придет день, а он уже недалек...
Они зажимают ему рот своими крепкими ладонями... Замолчи, не говори так... Ты ведь
знаешь, это невыносимо для нас...— Ладно, ладно, молчу... Но ты меня щекочешь... Он
трясет головой с видом старого ворчуна... оставь меня, что ты делаешь? Он ощущает
на шее их легкие пальцы...— Опять ты зарос... придется мне тебя постричь... Да это
он из кокетства, ты же знаешь его. Думает, это ему к лицу... Он качает головой,
смеется...— Ну и глупые вы...
И вдруг, была не была, он не может устоять, в счастливом порыве он наклоняется над
столом, хватает в руки зверюгу, протягивает им... Нате, возьмите, Унесите ее
отсюда. Она ведь все равно достанется вам. А мне она больше ни к чему. Право, я не
дорожу ею, сами знаете, я пе дорожу ничем, кроме... он кивает на них... кроме моих
663
маленьких дурачков... И почему только... Ну, чего вы ждете? Она вам не нужна?
Они не двигаются, вид у них смущенный...— Ты ведь это не всерьез? Нам? Тебе ведь
будет не хватать ее...— Говорю вам, мне все равно... И потом я знаю...
Она протягивает руки, берет зверюгу, прижимает к себе... Да, можешь не сомцеваться,
я буду беречь ее, хранить, а ты станешь ее навещать... Так хотя бы... она грозит
пальчиком, лукаво улыбается ему... так ты хотя бы будешь чаще заходить к нам
наверх, злой серый волк...
Да где же это, черт побери? Было здесь, он сам отложил... но они, как водится,
схватили, бог знает зачем им это понадобилось, бог знает что их могло тут
заинтересовать... даже не спросили, считают, им все дозволено, берут все без
разрешения...
Он взбегает по лестнице, останавливается перед дверью, взявшись за ручку... Лучше
бы спуститься обратно, не настаивать, не видеть, не натолкнуться... Не знать... Да
минует меня... Сердце не лежит... Но что это еще за приступ слабости, малодушия...
точно они еще могут чем-нибудь удивить его... не станет же он ждать, пока они
выйдут, чтобы спросить их... ему это нужно сейчас, немедленно... он поворачивает
ручку, распахивает дверь... Ну конечно... Среди всего этого кавардака, раскиданных
пластинок, иллюстрированных журналов, сваленных на пол, разбросанной одежды... Ага,
вот он, так я и знал. Нет, вы просто неисправимы. Конечно, это вы взяли...— Что?
Что еще мы взяли?.. Он наклоняется, подымает.— Вы же видели, что это последний
номер... Я едва успел его проглядеть... Сколько раз я просил вас... Но все как об
стену горох...— Ладно, я тебе обещаю, я больше не буду, я думал, ты уже прочел, он
валялся несколько дней... Куда ты торопишься, присядь на минутку... Он вздыхает...—
Где?., в этом хаосе... они суетятся вокруг пего, прибирают, сдвигают в кучу
пластинки, журналы, освобождая место на диване, и он опускается...— Подожди, дай
подложу подушку... вот так... так тебе будет удобнее... он опирается па подушку,
продолжая тихонько ворчать, а они рассаживаются вокруг на стопках газет, прямо на
ковре, поджав под себя ноги.
664
Он, как бы в рассеянности, как бы ничего не видя, скользит взглядом по стенам, по
мебели... на миг задерживается у ларя... и отводит глаза... Да, она пока на месте,
он различил темную массу там, где помогал установить ее, отступая, приближаясь,
чтобы убедиться, что именно здесь, возле окна, свет падает правильно и она будет
хорошо смотреться... Слушая их, разговаривая с ними, он вновь касается
отсутствующим взглядом... груды писем, почтовых открыток, рекламных проспектов,
прислоненных к морде, к бокам и отчасти ее загораживающих... А на спине что-то
вроде протуберанца... Осторожно, как бы невзначай, его взгляд возвращается к ней...
Что-то вроде сиденья, на манер тех, какие водружают на прирученных слонов,
недостает только балдахина... Он пытается поддержать разговор, не показывая вида,
но голос его звучит отчужденно, потусторонне... голос привидения... Это какая-то
темная чаша... его пустой взгляд пронзает ее... узнает... это раковина гигантской
устрицы... Наверно, до краев полная окурков, пепла, а зверюга служит ей теперь
подставкой... или, скорей всего, не надо приписывать им осознанного намерения,
определенного замысла... они просто забыли убрать пепельницу, которую поставили, не
думая, на первое попавшееся свободное место, чтобы она была под рукой, когда эта
рука с сигаретой, покачиваясь, машинально тянулась в поисках полого предмета, куда
можпо стряхнуть пепел... Он стыдливо, опасливо отводит взгляд...
Главное, ничего не показать, прикинуться мертвым... пусть себе ощупывают его
сколько угодно, поворачивают и переворачивают, он бесчувствен, слеп, недвижим...
Но разве их проведешь такими детскими уловками? Стоило ему войти, сесть, они
поняли, несмотря на его отсутствующий взгляд и рассеянный вид, что он все
приметил... они улавливают малейшую волну, самое ничтожное завихрение того, что
подымается в нем и что он всеми силами сдерживает... Но вот он не выдерживает,
встает, направляется прямо туда... сейчас протянет руку, с маху отшвырнет почтовые
открытки, пепельницу, которая, оглушительно гремя, покатится по полу... грохоча,
как поток, который ринется в трещину, как только он яростно выдернет из нее
шпаклевку, вырвется и обрушится, все нарастая, на них, на него самого, увлекая за
собой их всех, цепляющихся друг за дружку, захлебывающихся, задыхающихся... они
съеживаются, прикрывают руками голову...
665
Но потом, поскольку ничего не слышно, отваживаются бросить искоса взгляд и видят,
что ои стоит у ларя и, протянув руку к спине зверюги, гасит свою сигарету в
пепельнице...
Они приходят в движение, суетятся, палетая друг на друга... Вы видели? Возможно ли?
Что происходит? Невероятно... Это безоговорочная капитуляция, сдача на милость
победителя, отреченье... Наконец-то он понял, что ему остается только покориться,
принять неизбежное... подавить в себе всякое поползновение к протесту, последние
остатки надежды... его рука медлит, грубо давя окурок о дно пепельницы, пальцы
теребят его, разбрасывая табак, скатывая в шарик бумажку...
Потом он оборачивается. Отбрасывает полы пиджака, засовывает руки в карманы брюк и
глядит им в лицо, подняв голову, выпятив грудь... В его глазах странное,
непривычное выражение, безразличие, доброжелательная безучастность...— Вы, право,
зря так дурно обращаетесь с этим несчастным животным... Вам следовало б поберечь
его. Вещь довольно редкая, ценная... на вес золота... Они ощущают на своих лицах
мину дамы, которую он не раз им показывал — она входит в его репертуар,— той самой,
что, глядя в мастерской известного художника на его холст, спросила: А это, мэтр,
что представляет собой это? и услышала дерзкий ответ: Это, мадам? это представляет
собой триста тысяч франков... Они срывают с себя гротескную маску, они открывают
свои лица, по которым пробегает тень улыбки...
Почему вы улыбаетесь? Не верите мне? Но то, что я го-горю, важно для вас...— Нет,
мы тебе, конечно, верим... Они кивают головой, теперь на их застывших лицах
печальная отрешенность, серьезность, которая приличествует облаченным в траур
наследникам, сидящим перед столом нотариуса, уткнувшегося в свои бумаги... Итак,
есть еще эта музейная вещь... Эксперты оценили ее стоимость очень высоко...
Она первой приходит в себя, вскакивает, бежит к ларю, снимает пепельницу и ставит
около зверюги...— Не знаю, чьих это рук дело... Сколько им ни говори... К открыткам
она не притрагивается, они служат скорее защитой... Сам видишь, не надо было
отдавать ее нам... Ты ведь нас знаешь... знаешь, какие мы... Лучше будет, если ты
ее заберешь... Остальные, словно пробудившись, вскакивают, вырываются из унылого
кабинета, уставленного по стенам
666
пыльными папками, спасаются, выбираются на свет, на свежий воздух...— Она права.
Знаешь, что ты должен сделать для душевного спокойствия?.. Подарить ее какому-
нибудь музею... Хотя бы Лувру. Не ты ли говорил, что там как раз открывают зал
доколумбова искусства? Лувр, это было бы отлично.
Но в чем дело? Что тебе не нравится?.. Отвечай же, скажи что-нибудь... Ты не хочешь
дарить Лувру? Вообще музею? Да? Предпочитаешь, чтобы мы держали ее дома? Этого ты
хочешь? Говори же... Тебе это больше по душе? Ты хочешь, чтобы мы поместили ее в
витрину, под замок?.. Он слабо покачивает головой... Нет, этого он не хочет...
Зачем в витрину... хранить из милости, из жалости... Откуда она, эта статуя? О,
право, не знаю, она всегда тут была, семейная реликвия... она, думается,
принадлежала одному из моих дедов... Да не волнуйся же так, мы твоей воли не
нарушим... сам видишь, что там ей было бы лучше... ну, будь же разумным, где ей
может быть лучше, чем в музее? Где б еще ее так холили, лелеяли? Просто
поразительно... Ты ведь так любишь музеи! Ты ведь не вылезал из музеев целыми
часами... да не красней же... я имею в виду часы досуга... Светлые часы... и когда
я говорю «светлые», я не хочу сказать ничего дурного... я говорю «светлые», как
говорят светлый день, светлые минуты... радужные, если угодно... А, видите, он
улыбнулся, он понимает...
Где же ей место, как не в прекрасном, великолепном музее, во дворце?.. Вот почему
мы подумали о Лувре... Эти роскошные залы, ты же помнишь, эти сверкающие просторы
мозаичного паркета, эти высокие окна с вписывающимися в них садами... а комнатки
наверху, в которых есть что-то интимное, располагающее, подобно небольшим часовням,
к самоуглублению, к молитве... вот где ей было бы всего лучше, если только
согласятся туда ее поместить... Вообрази ее среди даров, среди драгоценных
приобретений, оберегаемую подобно той, что ты так любил, возле окна, под кубическим
стеклянным колпаком... нежный свет, скользящий по ее боку...
Он весь сжимается, подымает руку, словно защищаясь... словно умоляя их... Да что с
тобой?.. Нет, к чему настаивать? он трясет головой... Нет, он не хочет... ну, так
чего же ты хочешь? Скажи прямо, решись же наконец.,.
667
и главное, не думай, будто нам просто падо от нее избавиться... старичок, которого
собственные дети хотят поместить в комфортабельный дом для престарелых, ни в коем
случае не должен думать... сам знаешь, это отнюдь пе в паших интересах, для нас
это, скорее, жертва... Все, о чем шла речь, только ради тебя самого... Решайся, и
нечего портить себе кровь... Он утвердительно кивает, рот его растягивается в
доброй беззубой улыбке... Я сделаю, как вы захотите. Все равно, скоро уже вам
решать...
Какая трогательная заботливость... это показывает, насколько они с ним считаются...
Вы видите, как они иногда выводят меня из себя, хотя бы своим дурацким
хихиканьем... Но надо быть справедливым, я ие вправе жаловаться... Опи, в сущности,
так милы со мной... Редко кто в паше время может этим похвастать... Ничего не
скажешь, у меня — хорошие дети... Взять хотя бы эту вещь... которая вам так
нравится, я хотел оставить ее им, а они, представьте, сами предложили, даже
настаивали, чтобы я отдал ее в дар музею... О да, мне повезло. Мне, конечно, было
бы приятио, если б они оставили ее дома... Есть что-то особое в том, чтоб жить
рядом с такими вещами... Но к чему навязывать, если они не хотят, правда? Каждый
волен быть счастлив так, как ои хочет... Я согласился. Будут людл, которых она
одарит минутами... Да может, и их самих, кто знает... вещи, тебя окружающие
постоянно, перестаешь замечать... но они сами, в один прекрасный день, как знать?..
Возможно ли? Там, в очереди возле кассы, этот затылок... Он пробирается вперед,
расталкивая людей... Что такое? Вы тут не стояли... Всегда находятся бессовестные,
которые норовят пролезть первыми... Нет, я хотел только посмотреть... секунду...
извините, пожалуйста... Нет, разумеется, было б слишком прекрасно... Но этот
раскатистый смех за его спиной... он оборачивается. И все его одиночество,
бесприютность, вся его мука, растекаясь по незнакомым лицам, наваливаются на него
от этого ледяного смеха... В чем там дело? Что еще стряслось? Да какой-то старичок
в очереди упал в обморок... Вон там... Ну как? Вам лучше? Ничего, это пустяк... Все
уже прошло...
668
Да что с тобой? У тебя такой грустный, такой расстроенный вид...— Нет, ничего
подобного... Разумеется, я предпочел бы, чтоб вы оставили ее дома, по я пе прав,
сам понимаю... Нельзя быть эгоистом... Так будет лучше... Другие смогут этим
воспользоваться... Они гладят его по голове, улыбаются ему... Он подымает к ним
покорный взгляд, боязливый, виноватый взгляд ребенка... Но ведь и вы тоже, не
правда ли? Вам же все-таки приятно будет время от времени?..— Ну, разумеется,
полно, ну..,
- Ну, где ж она? Ты не помнишь? Я здесь не был целую вечность...— А я, думаешь,
был... Но уж никак не в этой секции. Потом, если еще останется время, воспользуемся
случаем...— Просто невероятно, сколько здесь видишь, видишь заново... вещи, о
которых даже не подумал бы... когда показываешь Париж друзьям из провинции, из-за
границы... Поверьте, если б не вы, я ни за что не собрался бы в Сен-Дени посмотреть
на гробницы французских королей... Не заглянул бы лишний раз в Нотр-Дам — хотя
ежедневно прохожу мимо — полюбоваться витражами. А уж Лувр...
Но до чего трогательны эти люди, до чего уморительны, когда обалдело
останавливаются, замирают... когда, толкая друг друг локтем, перешептываясь,
удивляются, радуются, гордятся тем, что издали узнали... будто на каком-нибудь
приеме, на премьере углядели живую, из плоти и крови, знаменитость, давно известную
по фотографиям на журнальных обложках... Ой, иогляди-ка... «Иоанн Креститель»
Леонардо да Винчи... А там... да это же «Сельский концерт»! А тут, иди скорей сюда,
взгляни... Рафаэль... Жанна Арагонская... Хочется опустить глаза, отойти... Хотя
друзей здесь вряд ли встретишь, это пе грозит, разве что и они тоже, бедняги...
разве что и на них свалилось такое же бремя...
— Сожалею, что вынуждеп вас торопить, но, наверно, нам пора... И все же
минутку... Пройдем к выходу через те залы, это нас пе задержит... Там, помнится, в’
одпой из боковых комнаток справа должна быть... одна древняя индейская статуэтка...
она принадлежала нашей семье... А, вот она, смотрите, возле того окна...
Они подходят и замирают перед ней в благоговейном молчании. Друзья наклоняются,
почтительпо читают
669
надпись...— Помнишь, кто-то из нас сдуру ляпнул, что это критская скульптура? Какое
преступление! Отец готов был его убить... Покачивая головой... Бедный папа... Но
знаете, если мы хотим посмотреть все... Вы, я уверен, не решились полностью
выложить свою программу. Спорю, что нам пе миновать Пантеона, паломничества на Пер-
Ла-шез... Видите, сколько дел у нас впереди.
Их смех звенит... Беззаботный смех. Невинный смех. Смех никому не предназначенный.
Смех в пустоте. Их голоса сливаются в смутный гул, который удаляется, затихает...
Похоже, там, наверху, захлопывается дверь... И дальше — тишина,
Содержание
I Андреев. Предисловие « 3
Мишель Бютор
ИЗМЕНЕНИЕ. Перевод С. Тархановой (гл. I—IV) я Ю. Яхниной (гл. V—IX) ,..••••« 23
Ален Роб-Грийе
В ЛАБИРИНТЕ. Перевод J1. Коган . 9 , 237
Клод Симон
ДОРОГИ ФЛАНДРИИ. Перевод Е. Бабуп . 353
Натали Саррот
ВЫ СЛЫШИТЕ ИХ? Перевод J1. Зонипой , 573
IV*
Б 98
Бютор М. Изменение. Роб-Грийе А. В лабиринте. Симон К. Дороги Фландрии. Саррот Н.
Вы слышите их?/Пер. с фр. Предисл. JI. Г. Андреева.— М.: Худож. лит., 1983.— 671 с.
В книге представлены произведения школы «нового романа»— «Изменение» (1957) М.
Бютора, «В лабиринте» (1959) А. Роб-Грийе’ «Дороги Фландрии» (1960) К. Симона и «Вы
слышите их?» (1972) Н. Саррот. В лучших своих произведениях «новые романисты»
улавливают существенные социальные явления, кризисные стороны сознания,
потрясенного войной, бездуховностью жизни и исчерпанностью нравственных ориентиров,
предлагаемых буржуазным обществом.
4703000000 160 й, „,,ь .
Б~ 028(01) 83 136 83 И(ФР)
Мишель Бютор. Изменение. Ален Роб-Грийе. В лабиринте. Клод Симон. Дороги Фландрии.
Натали Саррот. Вы слышите их?
Редакторы | Б. Вайсман |, Я. Кулиш Художественный редактор Ю. Конное. Технический
редактор J1. Вецкувепе. Корректоры Г. Ганаполъская, С. Колганова
ИБ .N1 8190. Сдано в набор 19.08.82. Подписано в печать 13.05.83. Формат
84Х108'/з2. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать
высокая. Уел. печ. л. 35,28. Уел. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд. л. 37,70. Тираж 50 000
экз. Изд. К» VI-606. Зак. jsft 2928. Цена 3 р. 90 к. Ордена Трудового Красного
Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-
Басманная, 19. Минское производственное полиграфическое объединение им. Я. Коласа.
220005, Минск. Красная, 23
Вам также может понравиться
- 6 ошибок при общении с девушкамиДокумент6 страниц6 ошибок при общении с девушкамиzzz123Оценок пока нет
- Tieni Ghriadushchiegho Zla - Rei BredbieriДокумент456 страницTieni Ghriadushchiegho Zla - Rei Bredbierivit100% (1)
- 000. Аннотированный Каталог Книжной Серии. Выпуски 1 - 300Документ152 страницы000. Аннотированный Каталог Книжной Серии. Выпуски 1 - 300tuvosipОценок пока нет
- Pelevin - Chapaev-I-Pustota S9oiwg 42053Документ204 страницыPelevin - Chapaev-I-Pustota S9oiwg 42053Ani MonaselidzeОценок пока нет
- Заклинания D&D5 чорнокнижникДокумент15 страницЗаклинания D&D5 чорнокнижникBIG jekОценок пока нет
- Сочинения в 2-х тт. by Анна Ахматова PDFДокумент457 страницСочинения в 2-х тт. by Анна Ахматова PDFPiano AquieuОценок пока нет
- Ключи к Лолите (К. Проффер)Документ92 страницыКлючи к Лолите (К. Проффер)Иван Владиленович Кузин100% (1)
- Sontag Protiv InterpretatsiiДокумент58 страницSontag Protiv InterpretatsiiNiko Tretyachenko100% (1)
- Алданов - Том 1 - 1994Документ596 страницАлданов - Том 1 - 1994KhfjfdoОценок пока нет
- Толстой Л.Н. - ПСС в 90 томах - Том 16. Несколько слов по поводу книги ''Война и мир''Документ258 страницТолстой Л.Н. - ПСС в 90 томах - Том 16. Несколько слов по поводу книги ''Война и мир''Nick TirdeaОценок пока нет
- Dom V Kotorom Mariam Petrosyan Kak Itogov y Tekst DesyatiletiyaДокумент2 страницыDom V Kotorom Mariam Petrosyan Kak Itogov y Tekst DesyatiletiyaИлья ВладимирскийОценок пока нет
- Мандустра анонс PDFДокумент1 страницаМандустра анонс PDFStanislav VorobyevОценок пока нет
- Фантастика - Б. В. Дубин. Рецензия на книгу - Цветан Тодоров - Введение в фантастическую литературу -Документ4 страницыФантастика - Б. В. Дубин. Рецензия на книгу - Цветан Тодоров - Введение в фантастическую литературу -Focalisation ფოკალიზაციაОценок пока нет
- Kak Pisat RasskazДокумент24 страницыKak Pisat RasskazMax TemirovОценок пока нет
- Knjiga OttepelДокумент481 страницаKnjiga OttepeldijnanaОценок пока нет
- Ageev Roman S Kokainom 1990 OcrДокумент178 страницAgeev Roman S Kokainom 1990 Ocrvanja.kosanovic2Оценок пока нет
- Оноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность.От EverandОноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность.Оценок пока нет
- Slit 2013 11 005Документ36 страницSlit 2013 11 005Patito CumОценок пока нет
- История моей жизниДокумент379 страницИстория моей жизниYoga Studio SatoryОценок пока нет
- детективДокумент4 страницыдетективДиана РысенкоОценок пока нет
- Сартр - Дороги свободыДокумент374 страницыСартр - Дороги свободыAndrey AvdeenkovОценок пока нет
- А.А.Зиновьев. Русский экспериментДокумент311 страницА.А.Зиновьев. Русский экспериментpetvet826Оценок пока нет
- Balashov V Balashova T Sost Francuzskaya Novella DvadcatogoДокумент577 страницBalashov V Balashova T Sost Francuzskaya Novella DvadcatogoAna NTОценок пока нет
- Стефан Цвейг - Вчерашний мир - 2004Документ226 страницСтефан Цвейг - Вчерашний мир - 2004gwinpin32Оценок пока нет
- генис феномен пелевинаДокумент6 страницгенис феномен пелевинаTatiana SklyarovaОценок пока нет
- Писатели РеалистыДокумент5 страницПисатели РеалистыLeraОценок пока нет
- Kristofer Koduell - Illyuzia I Deystvitelnost 1969 PDFДокумент362 страницыKristofer Koduell - Illyuzia I Deystvitelnost 1969 PDFСтас СергиенкоОценок пока нет
- PDF‑ДокументДокумент1 страницаPDF‑ДокументГу ЛяОценок пока нет
- Frantsiya Kak Kontseptualnyy Obraz V Rannih Romanah G Gazdanova Vecher U Kler Istoriya Odnogo Puteshestviya PolyotДокумент6 страницFrantsiya Kak Kontseptualnyy Obraz V Rannih Romanah G Gazdanova Vecher U Kler Istoriya Odnogo Puteshestviya PolyotLiudmyla HarmashОценок пока нет
- Камоэнс Луис Де - Лузиады - 2014Документ435 страницКамоэнс Луис Де - Лузиады - 2014Jumbo JamboОценок пока нет
- НеоромантизмДокумент11 страницНеоромантизмВадім МілевськийОценок пока нет
- Носик Борис. Мир и Дар Владимира НабоковаДокумент713 страницНосик Борис. Мир и Дар Владимира НабоковаKebab TvrtkićОценок пока нет
- Poetika Smerti V Romane Lui Ferdinanda Selina Puteshestvie Na Kray NochiДокумент8 страницPoetika Smerti V Romane Lui Ferdinanda Selina Puteshestvie Na Kray NochiLiudmyla HarmashОценок пока нет
- Сон в Красном Тереме. т. 1. Гл. i - XlДокумент377 страницСон в Красном Тереме. т. 1. Гл. i - XldianaОценок пока нет
- Саррот Н. - Тропизмы. Эра подозрений. - 2000Документ440 страницСаррот Н. - Тропизмы. Эра подозрений. - 2000Helen LeonchykОценок пока нет
- Александров Ю., Барзах А. (ред., сост.) - Русский комиксДокумент353 страницыАлександров Ю., Барзах А. (ред., сост.) - Русский комиксnicefriend77100% (1)
- О Пелевине - копия PDFДокумент28 страницО Пелевине - копия PDFPolinaОценок пока нет
- Paustovsky Naedine S Osenju 1972Документ451 страницаPaustovsky Naedine S Osenju 1972AnaОценок пока нет
- Уэллс Г. - Собрание сочинений в 15 томах. Том 1 - 1964 PDFДокумент474 страницыУэллс Г. - Собрание сочинений в 15 томах. Том 1 - 1964 PDFDmitriy TishkinОценок пока нет
- Ежов и Шамурин. Русская поэзия XХ векаДокумент744 страницыЕжов и Шамурин. Русская поэзия XХ векаRostamSayafiОценок пока нет
- Rossijskij Zhilblaz, Ili Pohozhdenija Knjazja Gavrily Simonovicha Chistjakova: Russian LanguageОт EverandRossijskij Zhilblaz, Ili Pohozhdenija Knjazja Gavrily Simonovicha Chistjakova: Russian LanguageОценок пока нет
- Romany o Revolyutsii Skvoz Prizmu Istoriosofii Doktor Zhivago B Pasternaka I Tihiy Don M SholohovaДокумент4 страницыRomany o Revolyutsii Skvoz Prizmu Istoriosofii Doktor Zhivago B Pasternaka I Tihiy Don M SholohovaЕвгений ТатариновОценок пока нет
- Srednevekovye LegendyДокумент56 страницSrednevekovye LegendySasha VaneshaОценок пока нет
- Márcio Roberto Do Prado - Anais - AraraquaraДокумент1 061 страницаMárcio Roberto Do Prado - Anais - AraraquaraLeandro VieiraОценок пока нет
- РКИ. Урок 2Документ6 страницРКИ. Урок 2Rosa LuxemburgОценок пока нет