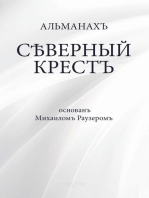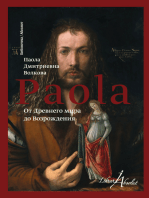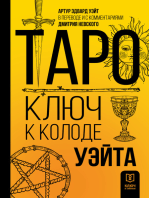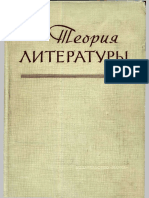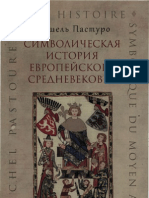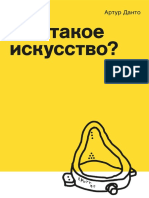Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Di Mauro Traduzione
Загружено:
Paolo Seri0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
6 просмотров19 страницdi mauro traduzione
Оригинальное название
di mauro traduzione
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документdi mauro traduzione
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
6 просмотров19 страницDi Mauro Traduzione
Загружено:
Paolo Seridi mauro traduzione
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 19
Призвание и проект
История и современность искусствоведения
введение
«Призвание и проект» хотят быть, в первую очередь, образовательным
и популярным вкладом, который, исходя из моего личного пути, может
привести к более широкому и общему осмыслению роли и функции
искусствоведения в современном обществе. Эти соображения нельзя
отделить от субъективного опыта, это было бы неискренним, и, с другой
стороны, любая модель письма не может выходить за рамки ссылки на
память. Однако, на мой взгляд, в равной степени верно, что опыт
каждого, а также зависимость от базовых условий нашего
существования, а не отобранных нами, таких как наследование семьи с
последовательной сетью отношений, в Италии так важны, место и,
прежде всего, историческое время, не уклоняются от того, чтобы быть
образцовым
в целом », не умаляют значения отдельных« речевых актов », которые
двигают и оживляют общее построение« языка », адаптируют его к
меняющимся временам и делают его конструкцией, в которой прошлое и
настоящее пересекаются, способствуя разграничению будущих гипотез,
в свою очередь, суждено превратиться в моменты нового настоящего в
беспокойном и постоянном движении.
Возвращаясь к критике, я считаю, что хорошей отправной точкой для
исследования подлинного значения и истории любой темы является
начало с ее этимологии. Термин «критика» происходит от греческого
корня «kritikè», то есть «искусство суждения», который, в свою очередь,
состоит из «tèkhnè», который является матрицей слова «искусство», от
прилагательного «kritikòs», а это от глагола «krinò». что в свою очередь
можно перевести как «я сужу». Поэтому умение и смелость судить. И
сколько смелости в мыслях и действиях большого количества
искусствоведов, особенно итальянских, последнего поколения - тема,
которая обсуждается много раз в текстах, которые последуют.
Понятие «суждение» очень показательно, однако, несмотря на его
семантическую правильность, оно рискует оказаться чрезмерно резким,
слишком категоричным по отношению к деятельности, которая,
безусловно, представляет аспекты «сладкого» планирования, моменты
подлинное сочувствие к объекту анализа до такой степени, что оно
составляет его, в лучших случаях, когда письмо понимается как
творческий, а также соревновательный акт по отношению к работе и
поведению в смысле реального перформативного акта в свою очередь,
«художественные», как и в кураторской деятельности, они становятся
определяющим и основополагающим моментом художественного
выражения, рассматриваемого как единое целое, а не
фрагментированной и относительной сущностью. Возвращаясь к
нижеподписавшимся, удача быть председателем кафедры «История и
методология искусствоведения» в Академии Альбертина в Турине
позволяет мне углубить, помимо того, что должно быть нормальным,
саму основу моего опыта - человек и профессионал. Причина, по
которой я, изначально не предвидя этого, почти внезапно обнаружил,
что попал в эту роль, заключается в непостижимости судьбы и частой
иррациональности ее выбора, а также в роли пешки в точной
исторической и культурной эволюции, которая началась много веков
назад. Я часто использую термин «призвание», чтобы обозначить свой
подход к проблемам современного искусства. На самом деле, я считаю,
что, несмотря на все еще преобладающий постмодернистский климат,
где предполагаемое возвращение к «современному», о котором мы
говорим, является не чем иным, как внушающими внутренними
колебательными движениями, последствия которых таковы, что
определяют увеличение определенных естественных аспектов
профессиональных навыков, связанных с ко всему спектру творческих
дисциплин проявление критики, которая сейчас настолько раздута,
можно проследить не только за вынужденным поиском новых рабочих
мест, столь часто встречающихся в быстро меняющемся западном
обществе, либо просто за счет расчета возможностей, но и за
подлинные случаи, следовательно, лучше, не могут помочь, но все же
апеллируют к наследию, которое кто-то, в данном случае ошибочно, мог,
по желанию, определить поздне идеалистическим или пост -
романтичным. Тем не менее, используя этимологический анализ, мы
находим его как «призвание». Происходит от латинского
существительного "vocatio", имя действия "vocare", и все это восходит к
"vox", то есть к "voice". Таким образом, призвание - это, по сути, призыв, ,
который адресован человеку божественностью, так что с делами и
действиями исполняй свою волю. В светскую и разочарованную эпоху,
подобную нашей, я не мечтал бы приписать полномочия, настолько явно
тауматургические taumaturgici, функции критики, если вообще что-то,
чтобы указать, что ее не следует резко упрощать и умалять, как это
часто случается в последнее время. Поэтому, когда в начале 80-х годов
я,ветеран (хотя и очень молодой) и, следовательно, свидетель, а не
главный герой, участвовал в молодежных движениях 77-го года, я
бродил беспокойно и с любопытством в новом мегаполисе, который
характеризовал этот необычный и особенный сезон; позже чрезмерно
очерченный теперь снова в моде, это был просто неожиданный
профессиональный толчок направить мои умственные энергии к тому,
что казалось мне новыми и стимулирующими художественными
формами, способными загрязнять себя ритмами и видениями СМИ,
музыки, комиксов театрального спектакля сочинять новую синестезию.
Но в моем случае это было незамедлительно, чтобы присоединиться к
проекту и моя личная осведомленность была подтверждена на местах
даже до суда третьих сторон, чтобы убедить меня в правильности
пройденного пути и возможности, осознавая подводные камни
путешествия, реализовать мои чаяния, цель, которую также можно
достичь, сочетая ее с возможностью оказания услуг другим. Как уже
упоминалось выше, определенный способ восприятия критики с моей
стороны и, конечно же, с других, был бы невозможен, если бы не
завершение длинного исторического путешествия от классической
античности до наших дней, которое затем является долгим ходом. к
которому разворачивается мой курс «Истории критики», о котором я
попытаюсь дать компендиум в этом тексте. Широкий и четко
сформулированный путь, который начинается издалека, начиная с
первых документируемых следов критического мышления в
классической Греции, и разворачивается по векторной траектории,
сопровождаемой частыми отступлениями, призванной клеймить
круговорот мысли и действий, которые делают историю, для достичь
сегодняшнего дня. Причина такого выбора, который я оставляю
неизменным с самого начала моего академического опыта
преподавания, сейчас двадцать лет назад, и, тем не менее, всегда
находил удовлетворение у студентов, заключается в недоверии курсам
по одной теме, те, которые касаются, то есть с преобладанием,
конкретных тем, таких как, например, французская критика
девятнадцатого века или современная, поскольку они не в состоянии
дать представление завершенная история эволюции определенного
явления, такого как искусствоведение, которое из-за своей особой
природы «прикладного творчества» рискует оказаться абстрактным
проявлением, особенно в свете той роли, которую оно приняло в
современной системе. Это также с учетом того факта, что желанное и
священное воссоединение на университетском уровне с последующим
выходом из предыдущей неопределенности не более четко
определенных «высших учебных заведений культуры» все еще
находится на этапе написания этого текста в фазе реализации. Так что,
на мой взгляд, подход, который способен уловить постепенность
эволюции искусствоведения от хронического или умозрительного
упражнения «бок о бок» произведения, до конкретной и автономной
профессии с автономными правилами например, чтобы поместить его в
качестве интегративного компонента, а иногда даже конкурировать с
последним. Это второе издание книги. По сравнению с первым отличие
состоит в большей полноте в отношении важных фигур критики,
невольно забытых, как исторических, так и современный, в различных
тематических взглядах и связанных с недавно опубликованными
важными очерками или тематическими художественными событиями.
Обложка тоже меняется. Если в 2013 году выбор пал на «Восходящий
город» Умберто Боччони, символ «взрывного» измерения основного
исторического авангарда, моей страсти к футуризму и поражения
электрическим током, которые у меня были, когда он попадал в мой
взгляд во время посещения MOMA в 1987 году, на этот раз регистр
меняется.
Пьеро Мандзони является символическим персонажем и предвосхищает
концептуальный поворотный момент, который приведет искусство на
сторону дематериализации. Сложная и жизненная интеллектуальная
личность умерла очень молодым в 1963 году. Его «Дерьмо Художника»
был одной из наиболее подходящих провокаций, касающихся новой
роли художника в обществе потребителей и развлечений, между
шаманизмом и успешным «брендом», способен похвастаться
бесконечным количеством подделок, не всегда удачных. Учитывая
сложность воспроизведения оригинальной фотографии, я выбрал
версию и дань, которую туринский художник Гек, один из наиболее
ценных и умных авторов стрит-арта, дал, чтобы обозначить идеальный
мост между продвинутой и постсовременной.
Лионелло Вентури и «История искусствоведения».
Из-за своей исторической уникальности повествования 360 ° исходной
дидактической поддержкой, которая сегодня необходима, является
драгоценный текст Лионелло Вентури, написанный в двух изданиях от
1936 и 1948 годов, «История искусствоведения».
Вентури был сыном знаменитого Адольфо, одного из самых
значительных искусствоведов периода девятнадцатого и двадцатого
веков того поколения, которое все еще находится под сильным
влиянием так называемого «филологического» подхода, основанного
главным образом на тщательном анализе источники, чтобы установить
точную атрибуцию произведения, и не могло быть иначе, если бы кто-то
думал об огромном художественном наследии, которое нужно
проанализировать и инвентаризировать в то время, когда исторические
и социальные условия позволили первым авторитетным деятелям
выйти на поверхность интеллектуалы, профессионально занимающиеся
изучением истории искусств, примерно в середине 1800-х годов.
Сын Вентури, выросший в кругу учеников Бенедетто Кроче, выделяется
как один из самых авторитетных историков итальянского двадцатого
века по разным причинам. Прежде всего, большая широта взглядов по
сравнению с авторитетным мастером, оправданная, давайте не будем
забывать, также из-за специфики его интереса к искусству по сравнению
с интеллектуальной гетеродоксией Кроче, особенно из-за желания
связать анализ работы и его автора, хотя всегда видели, в соответствие
указанного Кроче как единичных и неповторимых единиц в социальной
структуре времени, в которое они нашли свое место, тогда как для
Кроче, как известно, любая попытка набросать историю стилей, которые
независимо от размера индивида были явно дезавуированы. Поэтому
Вентури был в состоянии связать свою идеалистическую, но
отрицательную формацию с теориями, внимательными не только к
содержанию, но и к формальному анализу работы, таким как чистая
видимость и, прежде всего, мысль Генриха Вольфлина, который со
своими знаменитыми биполярными парами между которых я упоминаю,
среди прочего, дихотомии «Закрытый - открытый», «линейный -
живописный» придаст форму методу интерпретации стилей и их
размещению на синхронной оси, что будет влиять на самые передовые
отражения искусствоведения до сегодняшнего дня. С самого начала
своей карьеры Вентури осознал необходимость объединения, что станет
очевидным из «Истории», истории критики и искусства, которые
рассматриваются как две зеркальные и необходимые стороны долгого
интеллектуального путешествия. Начиная с первых работ, таких как
«Критика и искусство Леонардо да Винчи», 1919 года, где
необходимость не разделять идеи художника и идеи ученого и, прежде
всего, «вкус первобытных людей» 1926 года, основанный на смелом
сравнении итальянских художников XIV и XV веков с импрессионистами,
которых считают «примитивами». В новой, современной чувственности
Вентури уделяет внимание понятию «вкус» как неизбежному компоненту
для правильной интерпретации произведения, поскольку оно способно
повлиять на художника, а также на его психологию и личную склонность.
Таким образом, Вентури подтвердил необходимость анализа, который
предвосхищает раз и навсегда указанные категории, основание Кроче,
для снижения работы в течение времени, в которое она была
произведена, с последующим социальным и историческим коррелятом,
составляющим фундаментальную часть языка, без ущерба для
неприводимости отдельного автора, чтобы быть скрытым за толстым
одеялом массовой культурной анонимности. Отсюда необходимость
создать реальную историю критики, которая шла параллельно и часто
связывалась с тканью, хотя и автономной, истории искусства. Как
утверждал Джулио Карло Арган в своем мнении, которое в свою очередь
цитирует Нелло Поненте в предисловии к тексту Вентури, «сделать
критику надлежащим объектом критического мышления означало
признать, что произведение искусства не существует, как ценность, если
не в суждении, которое признает его таковым, но именно, процедуры
суждения, способы превращения опыта в произведение искусства и
достижения его в ценность, в исторической перспективе оказались очень
разными и их трудно свести к единице. Таким образом,интуиция
Вентури, даже в исторических пределах времени, в котором это
происходит, и учитывая бурное и непредсказуемое ускорение
художественной системы, которое произошло после '68 года, с
постепенным и неумолимым появлением постиндустриального
общества, все еще могут сегодня, чтобы стать действительным
стимулом и примером правильного подхода к текущим, колеблющимся и
неуловимым проблемам. Сохраняя в силе текст туринского мастера, о
котором я на протяжении многих лет предоставлял студентам
обоснованное резюме, основанное на убеждении, что Вентури, несмотря
на его несомненный интеллектуальный рост, был сыном другой эпохи, и
некоторые из его суждений, в частности, в отношении таких явлений, как
маньеризм и неоклассицизм, они кажутся нашему восприятию
современниками устаревшими, прожитыми в оригинальном тексте
идеалистическими, но понятными предрассудками и дихотомией
«искусство» и «не искусство».
Не говоря уже о культурном и блестящем стиле, но, безусловно,
вежливым в глазах студента, который, за исключением нескольких
случаев получения вторых степеней, имеет в своем активе не особенно
глубокие исследования итальянской литературы и филологии. Без
ущерба для холста Вентуриана, этот фундаментальный след
дополняется личной интуицией и другими полезными
библиографическими материалами, которые периодически
обновляются, для существенной неизменности образовательного
проекта. Я еще раз подтвердил важность для меня исторического пути,
который начинается с основ и подходов к современному миру, имея
дело со всем, и это много, происходит в среднем поясе. С этой точки
зрения мой путь - это обычный путь, хотя он открыт для частых
отклонений и диахроний, его можно определить как аристотелевский, а
следовательно, классический. Это поразит тех, кто ожидает от меня,
если они знают его историю, подхода, нацеленного исключительно на
самую ограниченную современность.
Это моя специализация, сценарий моего обучения, что я думаю, я могу
освоить. Это не означает, что я являюсь утверждающим в контексте
преподавания в университете, такого как обучение в Академиях
изящных искусств, метода преподавания, способного создавать
стимулы, которые студент будет свободно изучать в максимально
возможной степени, например, предвидеть, рядом с одним точный
анализ современной сцены как можно ближе, строгая историческая и
философская стажировка, в случае Академий, подтвержденная
уникальностью работы в лабораториях. Поэтому я не согласен с теми,
кто, стоя на явно авторитетных кафедрах, поддерживает необходимость
обучения, ориентированного исключительно на текущие дела. Старение
программ, преодоление классических и устаревших оков не означает
отрицания того, что положительно в традиции. Конечно, любовь с
первого взгляда часто случается, как это было в моем случае, при
контакте с газетой, но это не означает, что не нужно историческое
исследование, а требование, которое проявляют многие студенты. Итак,
хотя я не философ или филолог искусства как образования, я использую
элементы, взятые из истории этих двух дисциплин, чтобы составить мою
образовательную загадку, а также теоретическую структуру моей
текущей линии наблюдателя. Поэтому я придерживаюсь подхода
современного ученого, увлеченного и вовлеченного в последнее,
стремящегося анализировать его и жить с ним, с дискретной базовой
гуманистической культурой, постоянно иннервируемой и обновляемой,
которая пытается передать студентам стимулы, которые они они могут,
если сочтут это целесообразным, продолжить расследование.
Истоки искусствоведения в античной, поздне-древней и
средневековой эстетической теории
Дебют находится в эпицентре западной мысли, в классической Греции
третьего века До нашей эры в которой культурная традиция прошлых
веков позволяет сделать первые эстетические оценки о целях и
характере искусства, ранее оцененные совместно как продукт
божественного вдохновения. Повествование о Плинии Старшем в его
«Naturalis Historia» относится к первым критическим суждениям о
греческих художниках, о которых он косвенно сообщает из трактатов о
живописи и скульптуре Сенократа, скульптора школы Лисиппа и
Антигона Хариста. оба жили в первой половине третьего века. Следует
отметить, что в случае Плиния «историю» следует толковать в
соответствии со значением «исследования», исследования,
проводимого вокруг тайн естественной вселенной, чтобы позволить
человеку узнать и осознать свое биологическое превосходство. Таким
образом, «природа» и «искусство» впервые сталкиваются друг с другом,
уступая место дебатам, которые будут занимать центральное место, по
крайней мере, до конца XIX века. Ксенократ ставил делать точные
суждения о стиле, технике и композиционных возможностях серии
художников того же возраста или предшественников. Не было попытки
создать искусство в рамках более сложной системы, это было бы
невозможно в то время. Соответствующая новинка, с формальной точки
зрения, была мифологизированным Сенократом, внедрившим практику
«Художественная литература». С риторическим процессом «экфразиса»
язык стремился вызвать силу и внушение пластических изображений.
Творчески конкурируя с ними и представляя те отношения соучастия
между изобразительным искусством и литературой, которые будут
иметь большое влияние позже, от тосканских поэтов тринадцатого и
четырнадцатого веков. дорожные компаньоны художников, в первую
очередь Джотто, которые проложат путь к обновлению живописи, к
достижению «соответствий» Бодлера и, в нашем двадцатом веке, к
знаменитым литературным способностям Роберто Лонги, и это лишь
некоторые из наиболее показательных примеров , Но этот дебют
художественной критики на культурной сцене обусловлен большим
художественным и философским созреванием Греции, прежде всего
спекуляцией двух краеугольных камней западной мысли, таких как
Платон и Аристотель, чье влияние будет иметь решающее значение для
всех последующих событий История культуры до наших дней, в
соответствии с изменившимися эпохальными условиями и
вытекающими отсюда циклическими призывами. Итак, первый цикл
уроков посвящен анализу того, что можно назвать «древней эстетикой»,
понимаемой как связь и соответствие между философией красоты и
философией искусства, где я использую, в частности, очень хорошо
структурированный текст Джанни Карчия, туринский ученый, умерший
рано. В древнем фундаментальном эстетическом понимании
понимается круговая форма зрения, в которой видение соответствует
видению, в сущности нарциссическом подходе, который, тем не менее,
тесно связан с художественным опытом и во многих отношениях также с
критическим опытом. Велика актуальность, приписываемая чувству
зрения, возвышенному как самое благородное и острое из всех, потому
что только с помощью видения мы можем проникнуть в сокровенную
сущность вещей и понять разницу между чувствительным sensibile и
разумным e l'intelligibile. Вся классическая эстетика, предшествующая
прорыву Платона, может быть заключена в дуализм между орфо-
аполлонианским компонентом, к которому он относится, рассматривая
его как стремление к гармонии и высшему примирению, к концепции
искусства как абсолютной красоты и недоступный, если не для высших и
вдохновенных душ, и противоположный матрице Дионисия, в которой
есть осознание трагедии и заблуждения существования, и единственное
возможное утешение для неизбежности судьбы дается освещением,
полным необузданной чувственности , Эстетика Платона основана на
противоречии, которое он устанавливает против софиста Горджии,
сторонника искусства чистой фантазии. Мысль Горджии, вопреки тому,
что станет краеугольными камнями Платона, по сути своей,
антипедагогическая и антиобщественная, и основана на магической и
внушающей силу слова, видимого в демиургическом измерении,
способного разгрузить зрителя, совершенно пассивно, как
неконтролируемый шторм эмоций.
Заимcтвуя отрывок из текста Кархии: «Как поэтика искусства для
искусства, так сказать, поэзия Горгиева предписывает своего рода
лунатизм совести, наводящий на размышления и как
наркотизированный словом, которое всегда вместе лекарство и яд, что-
то вроде снотворного для совести ". Ссылка, однако, в первую очередь
направлена на «логотипы», в случае с Горджией, рассматриваемая как
симметричная музыкальному выражению, высшая дисциплина среди
древних, поскольку, как утверждает Аристотель, ее движения
гомологичны интимной структуре человеческой души, в то время как
изобразительное искусство, живопись и скульптура оформлены в более
низком иерархическом измерении, как чистое «teknè». Платон, в явной
оппозиции к горгианскому софизму, поместил в искусство ожиданий
выдающуюся дидактическую и педагогическую природу, представляя его
как инструмент, способный обучать молодежь выполнению благородных
и правильных действий в соответствии с единством построения
сообщества в полисе. Следовательно, осуждение "teknè" как
инструмента само по себе, по существу, самореференцируемого, как
можно видеть из пристальной критики, которую он ведет в отношении
гомеровских рапсодий, то есть тех эпических певцов, профессионально
посвященных толкованию поэм Гомера. Это потому, что они, гордясь
своей высокой и специфической специализацией, отрицали бы
универсальность художественного выражения. Что для Платона связано
не столько с рациональным или иррациональным, сколько с
ультрарациональным. Что касается концепции мимесиса, о которой
Аристотель даст другую психологическую интерпретацию, Платон
поддержит ее только как “hermeneia” "герменейя", то есть
интерпретация. Поэт выступает как привилегированная связь между
человеком и божеством и говорит за него. Фактически, для философа
вдохновение означает «энтузиазм», который в переводе с
этимологической точки зрения становится «пребыванием в боге», то
есть ставит себя за пределы измерения контингента и земли,
следовательно, материи. У Платона есть недоверие к восприятию как
деятельности, наделенной автономным интеллектом. Чувства
ошибочны, поэтому даже видение таково, если оно не подвергается
верхнему ментальному фильтру. Художники, в целом, в тех случаях,
когда Платон конкретно упоминает об этих механических искусствах,
должны поэтому воспроизводить реальность строго объективным
образом, в то время как поэт или музыкант должен обезличивать себя,
чтобы быть в непосредственном контакте с божественное, с музой.
Таким образом, понятие красоты имеет смысл, если оно относится к
добру. Это толкование, которое в поздние древние времена будет
принято тем, кто считался наиболее значительным продолжателем
платоновской мысли, то есть Плотином. Но другим великим божеством
опекуна западной мысли, несомненно, является Аристотель, который
сравнивает себя с мышлением Платона, подтверждая некоторые
тезисы, особенно касающиеся педагогической функции искусства, но
четко отличая себя от других. Аристотелевская мысль более
«секуляризирована» и, безусловно, ближе к нашему мышлению. Карчия
пишет: «По сравнению с платоновской конструкцией Аристотель, в
восьмой книге« Политикa » «мышиный человек » и его роль в
воспитании гражданина, прежде всего подчеркивает характер свободы и
эмансипативное измерение, присущее такому воспитанию. В то время
как Платон подчеркивает характер дисциплины, как правило,
музыкального образования, Аристотель настаивает на понятии, которое
уже сродни латинскому понятию «отиум». Действительно, гражданин
Аристотеля живет в полисе, который уже имеет эллинистические черты,
в которых, а не элемент социальной сплоченности, подчеркивается
измерение свободы выражения лица. Фундаментальная
противоположность заключается в том, что между рабским характером
ручной практики и свободным характером «теорий», к которому, в
конечном счете, относится и искусство». Но для Аристотеля основную
точку зрения на искусство дает понятие мимесиса, которое полностью
отличается от платоновской мысли и впервые вводит великую тему
натурализма. Из текста: «Так же, как и техно, для Аристотеля искусство
больше не находится в области мимесиса, подорванного иллюзией и
обманом. Как мимесис, искусство здесь действительно продуктивно, в
том смысле, что мимесис теперь означает действовать как природа, как
«паузи».
Чтобы прояснить этот момент, необходимо кратко обратиться к общей
концепции Аристотеля относительно отношений между природой и
искусством. Как видно прежде всего из анализов, содержащихся во
второй книге «Физика», для Аристотеля человеческое искусство
является лишь частным случаем более общего и глубокого искусства,
характерного для природы. Основополагающим элементом,
объединяющим искусство и природу, является наличие в обоих
измерениях силы и материи, тот факт, что они не являются чистым
действием, но являются процессом, разворачиваются. Единственное
отличие, с этой точки зрения, заключается в том, что в искусстве
условный элемент (и, следовательно, также и финалистический)
акцентируется сильнее, поскольку материя обладает несравненно
большей независимостью, чем натуральный продукт ».
Как известно большинству, для Аристотеля художественный сборник по
преимуществу - это трагедия, созданная способами, которые, кажется,
вводят использование современного языка в междисциплинарный
сценический подход: «С точки зрения неэмоционального понимания, но
чисто рациональный, существенный элемент трагедии, в
метафизическом смысле ее сущность, состоит из «мифов», то есть
переплетения действия. Существует связь между мимесисом в
значении, описанном в четвертой главе «поэтики», и «мифами»: если
мимесис фундаментально связан с процессом обучения как
переосмысления, трагические «мифы» же он отличаетюся тем, что
выявляют сюжет, связь смысла, в рамках хаотической дисперсии
мирских событий». Переплетение и события трагического действия,
строго построенные вокруг схемы, которая предусматривает принцип,
срединную фазу и окончание. B конечном итоге, оказывают воздействие
на катарсис, на эмоциональное освобождение, которое приводит к
осознанию способности изменять собственную судьбу. С этой точки
зрения Аристотель может быть вполне обоснованно определен, как на
это указывал Маурицио Феррарис в своей статье, опубликованной в
«Repubblica», предвестнике эстетических тем современной
«художественной литературы», особенно в отношении нововведений,
представленных большими Американскими телевизионными
сериaлaми нулевых лет. Помимо фундаментального эссе Carchia,
интересные наблюдения сделаны в эссе Tiziana Andina, профессора
теоретической философии в Университете Турина, под названием
«Философия искусства. От Гегеля до Данто ". В этом томе Андина
фокусируется на истории философии искусства, дисциплине, которая
достигает своего апогея в двадцатом веке и имеет наиболее
значительный показатель в критике из Неаполя Артура Данто, но, как
это часто бывает, она находит в греческом классицизме его
происхождение.
В первой главе, инициированной «Двадцатый век и долгая история
подражательной теории», цитируется знаменитая картина Магритта
«Ceci n'est pas une pipe», символический пример подражательной
теории искусства и для установления его параллелизма с языком. В
обоих случаях это физические структуры, которые передают значения.
Из текста, всегда ссылающегося на работу Магритта, который, как
известно, представляет трубу, сопровождаемую подписью: «Как
справедливо отмечает Мишель Фуко, подпись, буквально говоря,
объясняет реальную вещь, на которую, однако, большую часть времени
мы не обращаем должного внимания. Очевидно, работа Магритта «не» -
это трубка; так сказать, Шерлок Холмс не мог курить, потому что это
работа, и это, на всякий случай, «представляет» трубку. Это может
показаться тривиальным вопросом, но это решающая точка зрения,
чтобы понять природу онтологического вопроса, связанного с
искусством. Платон и Аристотель могли бы утверждать, что
произведение имитирует трубку ... Оба объединены идеей, что
искусство - это прежде всего мимесис, разница, если вообще что-то,
заключается в их соответствующих выводах: Платон считает, что
искусство бесполезно и вредно, а аристотель дает конкретную цель ".
Таким образом, ссылаясь на знаменитую метафору дома, для Платона
дизайн последнего, пусть и ледовитого, имеет очень относительную
ценность по сравнению с реальным домом, в комплекте с крышей и
фундаментом, но последний - не что иное, как прослеживая идею дома,
помещенного в то потустороннее измерение, которое является
единственным, которое действительно имеет значение.
Аристотель, несомненно, влияет на длинную и значительную скобку
эллинизма, а также критических и эстетических теорий, которые
проявляются там.
«Платон выводит два следствия:
а) произведения являются остаточным продуктом, важнее «знать, как
руководить» армиями, чем «знать, как говорить» об управлении
армиями (например, писать эпические стихи);
б) художники и произведения искусства должны быть изгнаны из
идеального государства ».
На самом деле Платон прекрасно осознавал силу художественных
действий, особенно тех, которые сосредоточены на устной и
репрезентативности. Недоверие оправдано его политическим видением,
содержащимся в «Республика», которая видела идеальное государство,
управляемое философами, «…философия может законно стремиться
взять на себя задачу описания структур реальности и направить нас к их
разумному пониманию. Искусство, с другой стороны, обладает
способностью определять действия, и действия, которые мы хорошо
знаем, оказывают влияние на мир ... Другими словами, хотя хороший
пример может подтолкнуть вас к совершению доблестного действия,
плохой пример он может направить нас к подлым или злым действиям ".
Это приводит к очень низкой уверенности Платона в отношении
свободной воли человека, как если бы театральное представление о
преступлении или его изобразительное представление почти могли
привести к тому, что мы совершим то же действие. Наоборот,
Аристотель, подтверждая тезисы подражательной теории, в
соответствии со своим философским подходом полагает, что искусство
наделено своими собственными законами и правилами. Мы, конечно, не
подтверждаем автономию искусства, но это значительный шаг вперед:
«То, что заставляет нас страдать, когда мы видим их на самом деле,
доставляет нам удовольствие, если мы наблюдаем их на изображениях,
которые настолько преданы, насколько это возможно, подобно рисункам
самых отвратительных зверей или трупов (Poetica, 4,2).
Затем Андина останавливается на современности позиций Аристотеля и
на влиянии на последующие направления мысли и на дебаты,
касающиеся определения произведения искусства:
«На следующих страницах мы увидим, как эти основополагающие идеи
Аристотеля сформировали две теоретические ориентации, которые
касаются проблемы определения со стороны эстетического опыта:
первая касается возможности разработки определения на основе
эстетических свойств произведений искусства; вторая касается
возможности формулирования определения, которое фокусируется на
эмоциональной связи, которая связывает работы и пользователей».
Существенное отличие эстетики от философии искусства. Возвращаясь
к исторической оси, эллинизм - это фаза первого осаждения культурных
ценностей, период, в котором миф и классицизм объединяются в
секуляризированную вселенную. Распад греческого полиса между
смертью Александра в 323 г. до н. и исчезновение королевства Лагиди в
Египте в 30 году до нашей эры порождает метаморфозу в более
широком географическом контексте, когда традиционные ценности
"гречности" i valori tradizionali della grecità сливаются и интегрируются в
очень большие и сложные государственные системы, где различные
популяции сосуществуют с точки зрения использования, обычаев,
уровней аккультурации, в том смысле, который, используя современную
терминологию, можно определить как первую глобализацию, в которой,
в отличие от сегодняшнего дня, были заложены основы для
гармоничного сосуществования цивилизаций.
Стоическая метафизика в течение пяти столетий сохраняла свой
конституционный корень, по существу, нетронутым, и, как отметил
Кархия в своем эссе: его наиболее важный и актуальный аспект
заключается в том, что он больше не двиежтся в измерении формы, а в
измерении события. С этой точки зрения нельзя не отметить
значительного сближения с опытом авангарда второй половины
двадцатого века, особенно в области “performance”. Фактически,
образцовая фигура стоической эстетики - это фигура танцора, чье
действие проявляется в «здесь и сейчас» настоящего, в вечности,
заключенной в момент ее проявления. Танцор, как и актер, сочетает в
себе измерение действия, центральное в стоической мысли, с показом
шоу, в стихийном, но не случайном становлении, потому что оно состоит
из применения, правил, обучения. Таким образом, цель искусства не
рассматривается как нечто, что все еще находится «за пределами», а
как самостоятельная практика, однако, в нем нет недостатка в
фундаментальной морали действия. В соответствии с этой моральной
целью искусство не считается продуктом, артефактом, возможно,
зафиксированным в статическом и вневременном измерении, как в
платоновском видении, но как непрерывный процесс, непрерывное
превращение: конкретизация идеи и действия в произведении содержит
предположения о его преодолении, как «работа в процессе».
Переоценка «technè» уже была проведена Аристотелем, который,
однако, видел, что он ограничен специализированной областью, не
подходящей для правящих классов, которые должны были также
совершенствоваться, достигнув зрелости и социально-экономического
утверждения, размера "отиума", рассматривается как достижение
состояния счастья через освобождение от материальных ограничений
повседневной жизни и, как следствие, способность наслаждаться
удовольствиями художественной сферы, прежде всего музыки,
благодаря ее структуре, созвучной движениям души. Конечно, концепция
мимесиса исходит от стоиков, и эллинисты в целом приводят к
радикальным последствиям по сравнению с первоначальным подходом.
Забегая вперед во времени, необходимо подчеркнуть, что эстетика
эллинистического периода склонна очерчивать концепцию автономии
искусства, чуждого классическому измерению мифа, которое вписано в
лингвистический и расшифрованный горизонт, интерпретируемый в
соответствии с герменевтической процедурой. Это, несомненно, самые
важные данные для истории критики:
впервые в истории западной культуры вводится понятие цитирования, и
история культуры прерывает свой векторный путь, чтобы повернуть
назад к своим корням, к своему прошлому. Концепция подражания,
краеугольного камня аристотелевской мысли и истинной антитезы по
сравнению с платоническим, подражание, рассматриваемое как
фундаментальная деятельность для обучения, также приводит к
переоценке восприятия как интеллектуальной деятельности, за которой
следует более округлая концепция «подражания». Это вводит важность
интерпретации: перед лицом великого урока прошлого, прошлого,
помещенного в ауральное измерение, в невозможность создать, в
присутствии такого величия, значительный запас инноваций, остается
только придерживаться классики. пытается извлечь из них ценные
уроки. Это триумф, в александрийский век, риторики, способности
удивлять виртуозностью слова, написанного или объявленного,
утверждение художественного замысла, жившего как возвышение
«техни». И все это относится к тому, что будет, спустя много веков, к
сезону маньеризма, который, в свою очередь, станет важной опорой для
теоретизирования и организации постмодернизма, то есть периода,
который дебютирует после 1975, с цитатой и «возвращением к
живописи».
Но даже эллинистическое искусство в своих конкретных выражениях
проявляет себя как явно антиклассический и предшественник
современности: например, скульптурная группа Лауконта с ее
переплетенным и гипотетическим характером не может не вспомнить
великую скульптуру барокко. Например, что Бернини. В то же время
элементы новизны выделяются с точки зрения более сложной и четко
сформулированной формальной сложности и в живописи того времени,
которая развивается прежде всего на уровне отделки стен, в то время
как техника мозаики широко распространена. Растущая секуляризация
позднеэллинистического общества, возвышение индивидуального
измерения за счет общинного измерения, типичного для
древнегреческого полиса, приводят к триумфу наиболее раздраженного
и утонченного формализма и явной распространенности в контексте
того, что категории аристотелевской логистики, риторики на основе
раскрытия, сделанного Орацио с его «Ars poetica», из тех краеугольных
камней древней эстетики, которые были «Поэтика» и «Риторика».
Таким образом, слово «Логос» больше не попадает в исключительную
область широкомасштабных поэтических композиций и, что менее всего,
под вдохновляющей эгидой сверхъестественного измерения, а вместо
этого дает достаточно места для коротких проходов и магической силы.
и заклинатель произнесенного слова, способный вызвать у
пользователей консенсус и восхищение через «пафос», эмоциональную
категорию, способную согреть умы, а затем убедить более мягким и
доброжелательным штрихом моральных ценностей говорящего,
типичного для "эпоса". Но разрушение классического здания,
разрушенного и подорванного на его фундаментах, не должно было
длиться вечно. Внимательно наблюдая феноменологическую эволюцию
истории культуры, где искусство естественно включается как
органический, а не изолированный элемент, мы замечаем циклическое
повторение событий, естественно с измененными способами и
манерами, и на различных высотах пролета, согласно схеме, которая,
как полагают многие, не является векторной, а скорее напоминает
движение спиралевидного графа. В первом столетии после Христа,
согласно достоверным оценкам, трактат «Del sublime», условно
приписываемый псевдолонгину, временно помещен и часто
упоминается в руководствах по эстетике, в частности в тех, в которых
содержание соотносится с темами история искусства. В исторический
период, когда классическая традиция рассеивалась в тысячах
риторических ручьев поздней древней литературной критики, Псевдо
Лонгино, или кто бы то ни было для него, совершал значительный
поворот. Важность «техни» не недооценивается в договоре: времена
платоновского запрета давно прошли. Что подчеркивается, так это то,
что для осуществления эстетического проекта он должен
сопровождаться силой благородной и вдохновенной души, способной
пробудить высокие страсти и способной вновь повернуть взгляд, чтобы
участвовать в созерцании природной вселенной. Даже урок великих
авторов прошлого, чье мифическое и образцовое измерение
переоценивается, не может быть сведен к простому подражанию,
отслеживанию формальных канонов, но может пойти дальше. Для
Псевдо Лонгина необходимо быть в гармонии с классиками, прийти к
духовному общению с ними и, следовательно, к герменевтическому
измерению.
Теория Псевдо Лонгина действует как идеологический шаг для гиганта,
подобного Плотину, с которым мы имеем во втором веке после Христа
полную переоценку греческой мысли классического века с
последующими историческими регрессами, как отметил Джанни Кархия,
в истории Западная мысль: от неоплатонизма ренессансного гуманизма
до Гете, от германского идеализма до Шопенгауэра и Бергсона - все
течения и личности, характеризуемые иррационализмом, которые через
последний французский философ достигнут стадии исторического
авангарда. Несмотря на преобладание платоновской философии как
источника вдохновения, теория Плотина материализуется
идеальный сборник греческого классицизма с четкими ссылками на
Аристотеля в отношении идеи формы, признак того, что даже
эллинистический сезон не прошел даром. Красота, по мнению Плотина,
тесно связана с добром. Именно эрос, любовь, понимаемая как
божественная благодать и вдохновение, делает Красоту живой и
заметной, а не ложной, обманывая чувства, отражение, в котором
очевидно влияние Платона. Плотин осуждает любую жесткую
концепцию красоты, которая является светом и великолепием, согласно
теории божественного «эманации», найденной в восточных религиях:
нельзя забывать, что Плотин - великий мистик, но не христианский
автор. С точки зрения истории, а также предвосхищения концепции
автономии искусства, дихотомия, установленная между материей и
формой, представляется существенной: во-первых, уродство,
характеризуемое отсутствием формы, сущность, которую нельзя
оценить и не увидеть, абсолютная пустота , Материя приходит к жизни
только в присутствии формы, а последняя, эманация божественного,
приобретает тело благодаря внутреннему видению, которое позволяет
восприятие. Из этого предположения вытекает знаменитый отрывок,
также упомянутый Вентури, в котором художник, вдохновленный
общением с божественным, дает жизнь грубому мраморному куску не
столько благодаря ручному первенству, сколько умственному,
вдохновленному сверху в круговой диалектике между внутренним и
внешним, которая будет одной из основных тем интерпретации
искусства,его генезиса и его глубоких мотивов, в логике, которая
предопределяет концепцию автономии. Парадоксальная концепция
автономии, какой бы парадоксальной она ни казалась, обнаруживается в
долгом историческом периоде, в котором Плотин философски дает
протектора более заметное объяснение. Фактически, именно по
средневековому хребту художники освобождают себя от миметического
критерия представления природы в силу преимущественно анионного
выражения. Средние века, по крайней мере те, которые исторически
считались таковыми, находятся между пятым и пятнадцатым веками,
даже если такие остроумные ученые, как Ле Гофф, недаром
утверждают, что в его интерьере должно содержаться все, что
происходило по крайней мере до Французской революции, событие,
которое однозначно санкционирует крах "античного режима".
Вам также может понравиться
- A N Benua Istoriya Zhivopisi Vsekh Vremen I Narodov Fragment PDFДокумент21 страницаA N Benua Istoriya Zhivopisi Vsekh Vremen I Narodov Fragment PDFMankindaОценок пока нет
- Лёля Кантор-Казовская. Блеск и нищета искусства на фоне пандемии (сайт "Артгид" 16.09.2020) "Документ20 страницЛёля Кантор-Казовская. Блеск и нищета искусства на фоне пандемии (сайт "Артгид" 16.09.2020) "Lola KantorОценок пока нет
- Istor IskusstvaДокумент544 страницыIstor IskusstvaValo ChachuaОценок пока нет
- Arkhiv XXI Veka Rozalind Krauss Podlinnost Avangarda I Drugie Modernistskie Mify 2003 PDFДокумент157 страницArkhiv XXI Veka Rozalind Krauss Podlinnost Avangarda I Drugie Modernistskie Mify 2003 PDFMargarita BalakirevaОценок пока нет
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифыДокумент157 страницКраусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифыDariaAtlasОценок пока нет
- Что остается от искусстваДокумент173 страницыЧто остается от искусстваAdriana IОценок пока нет
- (SHacky Ezhi, Perevod S Polskogo K.V.Dushenko, M. (BookFi)Документ200 страниц(SHacky Ezhi, Perevod S Polskogo K.V.Dushenko, M. (BookFi)LenaОценок пока нет
- Aravina DissertationДокумент20 страницAravina DissertationAzatОценок пока нет
- Лосев А. Ф. - Проблема символа и реалистическое искусствоДокумент211 страницЛосев А. Ф. - Проблема символа и реалистическое искусствоbabilonus12Оценок пока нет
- Колин РоуДокумент5 страницКолин Роуivan sharapovОценок пока нет
- Тарковский и ЛевитанДокумент11 страницТарковский и ЛевитанАнна ДедковаОценок пока нет
- Темпоралізація 2016 Осборн PDFДокумент28 страницТемпоралізація 2016 Осборн PDFНаталія БірюкОценок пока нет
- ГадамерДокумент12 страницГадамерViktorОценок пока нет
- Iskusstvo Portreta Pod Red Gabrihevskogo 1927Документ215 страницIskusstvo Portreta Pod Red Gabrihevskogo 1927МарияНиколаевнаОценок пока нет
- Cosmos Si UniversДокумент301 страницаCosmos Si UniversMelissa JacksonОценок пока нет
- Опыт исторической феноменологии (Юрганов, 2001)Документ14 страницОпыт исторической феноменологии (Юрганов, 2001)Андрей ШарыпинОценок пока нет
- # Н.Д. Потапова Лингвистический поворот в историографии учебное пособие. - СПб. Издательство Европейского университета в Санкт - Петербурге, 2015 PDFДокумент381 страница# Н.Д. Потапова Лингвистический поворот в историографии учебное пособие. - СПб. Издательство Европейского университета в Санкт - Петербурге, 2015 PDFVladimir DraguzaОценок пока нет
- Кандинский В. - Точка и линия на плоскости - 2005Документ117 страницКандинский В. - Точка и линия на плоскости - 2005Dzhana DzhanaОценок пока нет
- Gombrih Istorija IskusstvaДокумент635 страницGombrih Istorija IskusstvaAnastasija KudrjavcevaОценок пока нет
- Orlovskaya Ep Fotografiya Kak Jest Razrushenie Mediuma I PeresborkaДокумент173 страницыOrlovskaya Ep Fotografiya Kak Jest Razrushenie Mediuma I PeresborkaЛиза ОрловскаяОценок пока нет
- IzobrazheniyeДокумент971 страницаIzobrazheniyeсьомий деньОценок пока нет
- Vremya Kak Syuzhet 08 Zrelost Kak Syuzhet 2019 IzdДокумент332 страницыVremya Kak Syuzhet 08 Zrelost Kak Syuzhet 2019 Izdabrikosovfedor3Оценок пока нет
- Хофман В. - Основы Современного Искусства. Введение в Его Символические Формы - 2004Документ599 страницХофман В. - Основы Современного Искусства. Введение в Его Символические Формы - 2004Smahni SlezyОценок пока нет
- Esli by Eti Steny Mogli Govorit Strit Art I Gorodskaya Identichnost V Afinah Vremen Krizisa RezyumeДокумент5 страницEsli by Eti Steny Mogli Govorit Strit Art I Gorodskaya Identichnost V Afinah Vremen Krizisa RezyumeОльга СуптелоОценок пока нет
- Бродский Иосиф. Нобелевская лекцияДокумент18 страницБродский Иосиф. Нобелевская лекцияВалерия КимОценок пока нет
- Оккультизм, колдовство и моды в культуреДокумент69 страницОккультизм, колдовство и моды в культуреHerihog1991Оценок пока нет
- Коллектив авторов - Теория литературы. Том 3. Стиль. Произведение. Литературное развитие - 1965 PDFДокумент503 страницыКоллектив авторов - Теория литературы. Том 3. Стиль. Произведение. Литературное развитие - 1965 PDFKaterynaОценок пока нет
- Лихачев ДДокумент22 страницыЛихачев ДЯнаОценок пока нет
- Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. (Язык. Семиотика. Культура) - 2002 PDFДокумент754 страницыЖивов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. (Язык. Семиотика. Культура) - 2002 PDFMaria IonescuОценок пока нет
- Пастуро М. - Символическая история европейского средневековья. - 2012Документ466 страницПастуро М. - Символическая история европейского средневековья. - 2012oklevanaia100% (3)
- Чигарёва Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времениДокумент139 страницЧигарёва Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времениAndrew GoretskyОценок пока нет
- Artur Danto Chto Takoe Iskusstvo Sbornik 2018 A4Документ169 страницArtur Danto Chto Takoe Iskusstvo Sbornik 2018 A4AndrewОценок пока нет
- 24 .1Документ78 страниц24 .1Iskra DejanovicОценок пока нет
- Ямпольский М Б ПространственнаяДокумент352 страницыЯмпольский М Б ПространственнаяIwan MonolatijОценок пока нет
- Gombrich, Personification in RДокумент7 страницGombrich, Personification in RНанаОценок пока нет
- Раздел 2 Типология Членов ПредложенияДокумент5 страницРаздел 2 Типология Членов ПредложенияАлёна ЕвгеньевнаОценок пока нет
- Сэй-Сёнагон. Камо-но Тёмэй. Кэнко-хоси (Библиотека Японской Литературы) - 1988Документ483 страницыСэй-Сёнагон. Камо-но Тёмэй. Кэнко-хоси (Библиотека Японской Литературы) - 1988Дарья Белокрыльцева100% (1)
- Saljina, Minejne Ikone PDFДокумент24 страницыSaljina, Minejne Ikone PDFMarka Tomic DjuricОценок пока нет
- Посмотри На Картинки и Напиши Нужную БуквуДокумент4 страницыПосмотри На Картинки и Напиши Нужную БуквуSuray HudaynazarowaОценок пока нет
- кулинарияДокумент89 страницкулинарияalexОценок пока нет