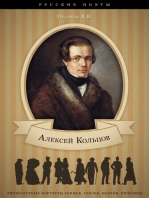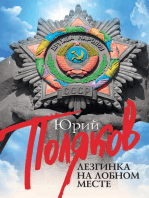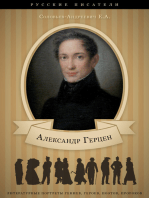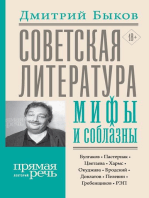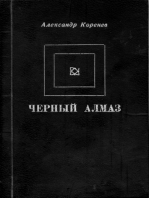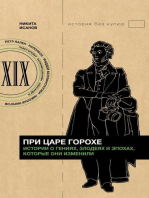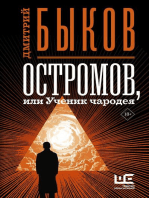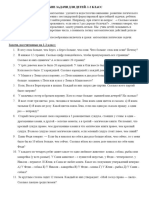Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Михаил Булгаков Быков
Загружено:
Olga Sylvestrova0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
10 просмотров6 страницМихаил Булгаков Быков
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документМихаил Булгаков Быков
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
10 просмотров6 страницМихаил Булгаков Быков
Загружено:
Olga SylvestrovaМихаил Булгаков Быков
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 6
Три соблазна
Михаил Булгаков (1891–1940)
Я не хочу тут вставать в позу оскорбленного пуританина, которого не
устраивает булгаковское заигрывание с нечистой силой. Все мы с ней
заигрываем по десять раз на дню, и с точки зрения самого ортодоксального
богословия роман Булгакова ничуть не более сомнителен, чем, допустим,
гётевский «Пролог на небе», где Господь так и говорит Мефистофелю: «Из
духов отрицанья ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак». По
мысли Лимонова, с которым я тут совершенно согласен, «Мастер»
действительно льстит среднему советскому читателю, сервируя ему в
масскультовом, чрезвычайно упрощенном варианте один из величайших
конфликтов в истории мировой культуры — и это не конфликт художника и
власти, а, поднимай выше, спор Христа с Пилатом. Проделки Воланда в Москве
— именно бендеровские, мелкие, и аналогии тут самые прямые. Свита Бендера
— Бала¬ганов, Паниковский и Козлевич — весьма точно накладывается на
свиту Воланда: Азазелло, Бегемот и Коровьев. И то и другое сочинения успешно
разошлись на цитаты — «Сижу, никого не трогаю, примус починяю», «Знаете ли
вы, что такое гусь?», «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Ключ от
квартиры, где деньги лежат»... Тридцатые годы располагали к этакой легкой
инфернальщинке, к мистике летних ночей. Шла очаровательная двойная жизнь:
в дневной — все героически вкалывали, строили метро, пили газировку; в
ночной — устраивались таинственные приемы после спектаклей, послы
принимали московскую богему, столы сверкали сервировкой: серебром,
хрустальными гранями... «Мастер и Маргарита» — очень точная книга, этого не
отнять; отпечаток того времени — чудовищного и неотразимо обаятельного —
на ней есть.
Пошлость — в некоей генеральной интенции: в допущении самой мысли о
том, что некто великий и могучий, творящий зло, доброжелательно следит за
нами и намеревается сделать нам добро.
Что интересно, в жизни Булгаков этот соблазн преодолел. А в литературе —
нет. Есть в его романе хрестоматийная, но неполная фраза: «Никогда ничего не
просите у тех, кто сильнее вас. Сами придут и все дадут».
Следовало бы только добавить: но и тогда не берите.
В жизни Булгакова — трагической, едва ли не самой горькой в российской
литературе прошлого века — было три соблазна, два из которых он преодолел
героически, а третий, быть может, и непреодолим.
Я отметаю примитивные, мелкие искушения вроде того, чтобы принять
советскую власть: он был интеллигент, умница, он по самому составу крови не
мог принять это царство хамства. Сохранившийся его дневник наглядно
демонстрирует, что уже к двадцать шестому году его окончательно достали
склоки вождей, их провинциализм, самодовольство и весь советский идиотизм
московского разлива. Тут-то и подстерегал его первый соблазн, перед которым,
случалось, не могли устоять и более зрелые люди: соблазн интеллигентского
«подкусывания соввласти под одеялом», как называл это он сам. Единственной
газетой, регулярно его печатавшей, была сменовеховская «Накануне», но из
дневника видно, как он ненавидел этот круг: подхихикивания, пересмешки,
тайная фронда при явной и подчеркнутой лояльности... Тут все дело в масштабе
личности и таланта — а задуман он был первостатейным писателем,
исключительной фигурой, быть может чеховского ранга. Людям этакого
масштаба тесно в любых кружках, особенно в таких, где занимаются мелочной
фрондой. Собственно, по идеологии своей ранний Булгаков был чистым
сменовеховцем, то есть убедился в крахе белого дела и предпочитал
восстановление империи руками большевиков, еще не понимавших собственной
задачи, но уже приступивших к ее решению. Однако, скажем, Алексея Толстого
эта новая империя устраивала, а для Булгакова в ней слишком воняло.
Разочаровавшись в противниках этой власти, а попутно никогда не будучи
очарован ее размахом и безвкусицей, он принимает единственно возможное
решение — уехать, но его не выпускают. И тут начинается второй соблазн:
соблазн не то чтобы сделаться государственным писателем (этого и не
предлагали, зная, с кем имеют дело), а признать, одобрить, способствовать
восстановлению империи на новых началах... Вы же видите: мы уже не те
оголтелые революционеры, что раньше. Мы смотрим «Дни Турбиных» и вполне
готовы выпустить «Бег», если вы один-два сна допишете. Нам даже снятся
хмелевские усики. Серьезно, Сталин так и сказал обалдевшему Хмелеву, еще не
смывшему грим Алексея Турбина: «Мне даже усики ваши снятся». Любовь да и
только.
Самое страшное было, что на глазах Булгакова вдруг одна за другой
полетели головы его злейших врагов. Его топтали когда-то Афиногенов и
Киршон, его животной ненавистью ненавидел Авербах — люди не просто
ограниченные, но откровенно, вызывающе бездарные, от которых вдобавок
разило самой что ни на есть доподлинной местечковой местью, ненавистью не
только к России царской, но к России как таковой. Добро бы это были
благородные разрушители, ангелы мщения, предсказанные Серебряным веком,
нет, это были графоманы; и в том-то и заключается ужасная ирония истории,
что великие отмщения осуществляются руками людей, которые во все времена
считались бы нерукопожатными. Казнь осуществляется не ангелом, но палачом.
Булгаков это прекрасно понимал. И тут вдруг палачи — Авербах, Киршон, чуть
более симпатичный Афиногенов, орды рапповских теоретиков, борцы с
формализмом, буржуазностью, попутчиками и пр. — начинают гибнуть на его
глазах! Восторг, который испытывали попутчики, можно сравнить лишь со
злорадством давних врагов НТВ, на глазах у которых — совершенно, кстати,
заслуженно! — разваливали империю медиашантажа, выстроенную Бусинским.
В быту и Елена Сергеевна, и сам Михаил Афанасьевич не удерживались от
известного злорадства. «Все-таки есть Бог», — записывала в дневник жена
Мастера. Но, слава богу, в хоре улюлюкающих и ликующих булгаковского
голоса не было. Он удержался от крика: «Ату его!» — и даже посочувствовал
Киршону. Больше того: он был твердо убежден, что вопросы литературы не
решаются расстрельными методами.
Однако от третьего соблазна он защищен не был: крупный писатель почти
всегда государственник. По крайней мере он взыскует государственного
признания, рассчитывает на него, полагая себя фигурой, в чем-то равной
правителю. Он может колебать трон этого правителя, как Лев Толстой, или
хочет советовать ему, как тот же Толстой, как Достоевский, почитавший за
честь посещать Зимний дворец и общаться с наследниками, — но так или иначе
почти никогда не мыслит себя вне этой системы координат.
И Булгаков не был исключением. Ему казалось, что они со Сталиным
единомышленники. Что Сталин прислушивается к его голосу,
внимательно читает его письма, снисходит именно к его просьбам. Что
снятие «Мольера» и запрет на выезд за границу — лишь уступка
необходимости, и уж по крайней мере даже такой запрет есть некий знак
повышенного государственного внимания. Булгаков понял, что от него ждут
перековки; он решил подыграть — и заплатил за это жизнью.
Не нам говорить о чьем-либо конформизме. И потому «Батум» — это не
слабость Булгакова: он всей предшествующей жизнью доказал, что в чем в чем,
а в трусости его не упрекнешь. «Батум» — вера художника в то, что он может
быть нужен государству, соблазн, о котором Пастернак, тоже не всегда
умудрявшийся выстоять, сказал точнее всех: «Хотеть, в отличье от хлыща, в его
существованье кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком».
Булгаков — захотел. Да что говорить о Булгакове, если Мандельштам,
«усыхающий довесок прежде вынутых хлебов», человек, осознавший себя
изгоем и обретший новую гордость в этом осознании, в тридцать седьмом после
всех «Воронежских тетрадей» все-таки написал «Оду»! И дело не в тотальной
пропаганде, влиянию которой художник, как самая чуткая мембрана,
особенно подвержен, — дело в твердой убежденности: Россия идет
единственно верным путем, ей так и надо, она так и хочет...
И Булгаков написал «Батум». И поехал собирать материалы для постановки
на родину героя. И с полдороги его вернули телеграммой. Это его подкосило.
Он понял, что с ним играли.
Я, кстати, и до сих пор не уверен — играл ли с ним Сталин или он в
самом деле рассчитывал получить хорошую пьесу о хорошем себе? Но
логика судьбы Мандельштама, из которого выколотили-таки «Оду» и «Сталина
— имя громовое», подсказывает, что тиран — как все тираны — алкал
сопротивления, пробовал его на зуб. Если уж такой умный, тонкий и
сильный человек как Булгаков не устоял, стало быть, можно все.
Так и прервалось то, что Булгакову казалось мистической связью, а Сталину
— окончательной пробой на собственное всемогущество. Оба все поняли и
расстались. Но роман был уже написан.
Вот почему Булгаков до последнего дня правил и переписывал его, был
недоволен им, не считал его законченным. «Ваш роман прочитали и сказали
только, что он не окончен».
В жизни все было окончено, и окончено так, как надо. В жизни Булгаков
понял все.
В романе сохранилось одно из самых опасных заблуждений человечества, и
точнее прочих написал о нем блистательный исследователь Булгакова, недавно
скончавшийся Александр Исаакович Мирер. В его книге «Евангелие Михаила
Булгакова», вышедшей сначала в США (и лишь недавно опубликованной у нас),
содержится догадка, основательно подтвержденная на уровне текстуальном:
что Булгаков всегда симпатизировал тайной власти, тайной силе,
оберегающей художника... иногда, если угодно, и тайной полиции —
посмотрите на Афрания... И главная догадка Мирера — так точно
понять писателя способен только другой писатель: Булгаков разъял
реального Христа на Иешуа и... ну да, на Пилата. Иешуа получил
кротость и смелость, Пилат — силу и власть.
Это, конечно, смелый вывод. Но похоже, так оно и есть. Булгаков самым
искренним образом верил в полезное зло — и боюсь, что некий метафизический
перелом случился с ним именно в конце двадцатых после неудачной попытки
самоубийства. Возможно, ему была предложена определенная сделка —
разумеется, говорю не о политике и вообще не о человеческих делах.
Возможно, условием этой сделки были личное счастье (тут же на него
обрушившееся), умеренное благосостояние и творческая состоятельность.
Возможно, результатом этой сделки был и роман. Возможно — и даже скорее
всего, — что Булгаков эту сделку расторг и это стоило ему жизни.
Вот о чем, если уж писать мистический роман, стоило бы написать большую
прозу; и думаю, что Булгаков уже написал ее и даже — что Мирер уже
прочитал.
1938-три фантаста пишут о прибытии нечистой силы в сталинскую Москву.
Ангел улетел, дьявол улетел, джинн остался. Джинн- существо
дохристианской эры. В мире Сталина пасуют бог и дьявол. Попытка объяснить
эпоху. Сталинские репрессии не объяснимы с точки зрения философии добра
и зла, они иррациональны.Запугать, шок, задавить все протесты в зародыше,
истерически созидать, готовиться к войне. Война как средство невротизации.
Население переводится в иррациональное состояние. Заседают, стучат,
истерически созидают…. Но долго так продолжаться не может. Возникает
вопрос о посещении Москвы иррациональными сущностями. Роман для одного
читателя. Булгаков думал, что интересен Сталину. Сталин читал Булгакова.
Близок ему откровенностью, прямотой. Сталину нравился Булгаков . На таких
можно опереться. Булгаков был одним из тех, кому Сталин позвонил.
Опасаясь еще одного писательского самоубийства. Булгаков был на краю
гибели.
А что, вам совсем работать не дают? Да, я подал заявление во МХАТ,
а они меня совсем не принимают..- А вы им позвоните завтра утром. (
интонация Воланда слышится)Мне кажется, они согласятся. Вообще,
нам надо с вами встретиться и поговорить. Желаю Вам всего
хорошего!
Когда товарищ Сталин желал всего хорошего, все начинало
происходить очень быстро. На следующее утро, не дожидаясь звонка
Булгакова, ему позвонили из МХАТа. Предложили оформиться
вторым режиссером.
Булгаков верил, что между ними существует мистическая связь.
Булгаков даже в бреду не мог вообразить, что МиМ будет напечатана
в сталинскую эпоху. Тогда зачем? Для узко-конкретного воздействия
на одного читателя. Как подсказка ему. Ты , кого ты считаешь
врагами- твоя самая надежная защита. Страшный мессендж. С нами
чуть помягче, повежливей.
Блеск романа затмевает для нас его главную мысль, которая
проникает в нас как сладкий яд. Но проникает в кровь она очень
хорошо. Это укол профессиональный. Другое дело, что этот укол
предназначался Сталину, а его получили мы. Испорченные
квартирным вопросом москвичи, всякого рода мелочь, не
заслуживают ничего другого. Давай! Управляйся с ними так! Все эти
посетители варьете, вечно лгущие своим женам, все эти
администраторы, управдомы не заслуживают ничего другого. Ты
необходим. Береги художника, сын сапожника! Ты зло! Но ты
необходим. Посмотри на этих писателей, травящих таланты!
Расстреляны Киршон и Авербах. Травящая критика
уничтожена….Булгаков не пошел на процесс Киршона. Но жена его
приветствовала процесс. Поступай с ними, как они заслужили, но
береги художника….Ты нужное зло, но береги нас. И тогда мы дадим
тебе санкцию на это зло.
Многоплановый роман. Три слоя.
1. Бытовой, сатирический, политический. Сталин
2. Исторический, евангельский. Пилат и собака Банга (дружба)
3. Мистический Воланд
И тем не менее, я говорю вам, что сегодня убьют Иуду. Говорит Пилат
Афранию, начальнику тайной полиции. Какое сатанински привлекательное
зло.
Мастер- Иешуа- автор.
Предатель- Алоизий – Иуда- Латунский (критик Литовский)
Левий Матвей- Бездомный- на мистическом уровне этот персонаж
отсутствует(эволюционирует в романе).
Положительную роль играют Воланд, Пилат и Сталин.
Булгаков монархист, ничего не поделаешь. Нельзя иначе с этими людьми.
И на художественном уровне обращен к одному читателю. Чтобы понял
читатель массовой литературы. Много дурного вкуса. Стиль отличается от
других романов Булгакова. На сталинском языке. Слово МАСТЕР не из
булгаковского лексикона. Береги МАСТЕРА. Мы вынуждены говорить на твоем
языке. Гениально веселая книга. Мысль страшная. Бывает полезное зло.
Гнусная задача, хоть цель и благородная. Чтобы поберег его коллег. Книга
против мерзавцев. Но нельзя оправдывать зло, иначе мы даем ему санкцию
Всегда начинается с противных, а потом….
Никогда ничего не просите у тех, кто сильнее вас. Сатана великий обманщик .
Никогда не дает того, чего обещают. Не берите никогда. Они великие
обманщики. Нет у них богатств.
Экранизации никогда не получаются. Мистика.
Никогда ни у кого не получается экранизировать эту картину, а потому что
Михаил Афанасьевич не хочет. Булгаков понял, чем заканчиваются
компромиссы со злом, и никому не даст повторять эту историю.
Вам также может понравиться
- М. Булгаков Жизнь и Творчество (Курсовая)Документ56 страницМ. Булгаков Жизнь и Творчество (Курсовая)Виола ПетровскаяОценок пока нет
- Оноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность.От EverandОноре де Бальзак. Его жизнь и литературная деятельность.Оценок пока нет
- Rassadin Sovetskaya Literatura 2006 OcrДокумент363 страницыRassadin Sovetskaya Literatura 2006 Ocrkaterina samaraОценок пока нет
- Толстой Л.Н. - ПСС в 90 томах - Том 16. Несколько слов по поводу книги ''Война и мир''Документ258 страницТолстой Л.Н. - ПСС в 90 томах - Том 16. Несколько слов по поводу книги ''Война и мир''Nick TirdeaОценок пока нет
- Rossijskij Zhilblaz, Ili Pohozhdenija Knjazja Gavrily Simonovicha Chistjakova: Russian LanguageОт EverandRossijskij Zhilblaz, Ili Pohozhdenija Knjazja Gavrily Simonovicha Chistjakova: Russian LanguageОценок пока нет
- Достоевский о науке, капитализме и последних временахОт EverandДостоевский о науке, капитализме и последних временахОценок пока нет
- Разбойник Чуркин. Народное сказание от "Старого Знакомого". Том 1От EverandРазбойник Чуркин. Народное сказание от "Старого Знакомого". Том 1Оценок пока нет
- Пушкин. Бродский. Империя и судьба: Тем, кто на том берегу реки. Том второй.От EverandПушкин. Бродский. Империя и судьба: Тем, кто на том берегу реки. Том второй.Оценок пока нет
- Булгаков Михаил Афанасьевич. Мастер и МаргаритаДокумент214 страницБулгаков Михаил Афанасьевич. Мастер и МаргаритаOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Bulgakov Master I MargaritaДокумент217 страницBulgakov Master I MargaritaAlina-Elida TomaОценок пока нет
- Czudakova Marietta Zhizneopisanie Mihaila BulgakovaДокумент556 страницCzudakova Marietta Zhizneopisanie Mihaila BulgakovaKrzysztof KaczmarekОценок пока нет
- Мастер и МаргаритаДокумент308 страницМастер и МаргаритаAlex CristianОценок пока нет
- Николай Васильевич Гоголь. Ревизор 5Документ10 страницНиколай Васильевич Гоголь. Ревизор 5Olga SylvestrovaОценок пока нет
- КРОССВОРД по ШинелиДокумент1 страницаКРОССВОРД по ШинелиOlga SylvestrovaОценок пока нет
- КРОССВОРД по Шинели мой вариантДокумент3 страницыКРОССВОРД по Шинели мой вариантOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Аверченко АркадийДокумент6 страницАверченко АркадийOlga SylvestrovaОценок пока нет
- ВеснаДокумент191 страницаВеснаOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Аверченко АркадийДокумент6 страницАверченко АркадийOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Звезда пленительного счастья. Полина и АнненковДокумент11 страницЗвезда пленительного счастья. Полина и АнненковOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Шинель текстДокумент22 страницыШинель текстOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Пушкинский лицей для детейДокумент10 страницПушкинский лицей для детейOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Л. Н. Толстой. Кавказский пленник текстДокумент13 страницЛ. Н. Толстой. Кавказский пленник текстOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Л. Н. Толстой. Кавказский пленникДокумент13 страницЛ. Н. Толстой. Кавказский пленникOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Tolstoj. Kavkazskij PlennikДокумент6 страницTolstoj. Kavkazskij PlennikOlga SylvestrovaОценок пока нет
- В чем смысл рассказа Кавказский пленник Толстого 3Документ4 страницыВ чем смысл рассказа Кавказский пленник Толстого 3Olga SylvestrovaОценок пока нет
- Лицейские годы и их отражение в творчестве ПушкинаДокумент10 страницЛицейские годы и их отражение в творчестве ПушкинаOlga SylvestrovaОценок пока нет
- В чем смысл рассказа Кавказский пленник Толстого 1Документ4 страницыВ чем смысл рассказа Кавказский пленник Толстого 1Olga SylvestrovaОценок пока нет
- logicheskie_zadachi_dlya_detey_1_4_klДокумент18 страницlogicheskie_zadachi_dlya_detey_1_4_klOlga SylvestrovaОценок пока нет
- МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ СухихДокумент9 страницМИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ СухихOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Антон ДолинДокумент2 страницыАнтон ДолинOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Тема ТРАНСПОРТДокумент5 страницТема ТРАНСПОРТOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Факты 1Документ1 страницаФакты 1Olga SylvestrovaОценок пока нет
- Антон Павлович Чехов Дама с собачкой Отрывок с ответамиДокумент2 страницыАнтон Павлович Чехов Дама с собачкой Отрывок с ответамиOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Cложносочинённые предложения ПовторениеДокумент6 страницCложносочинённые предложения ПовторениеOlga SylvestrovaОценок пока нет
- ГП ответ на картинку с животными 6-2Документ1 страницаГП ответ на картинку с животными 6-2Olga SylvestrovaОценок пока нет
- Zolotusskiyi I. Literaturasge. Gogol v Dikanke (Автовосстановление)Документ182 страницыZolotusskiyi I. Literaturasge. Gogol v Dikanke (Автовосстановление)Olga SylvestrovaОценок пока нет
- Александр Мелихов о Пушкине вообщеДокумент8 страницАлександр Мелихов о Пушкине вообщеOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Требования Современного Мира Проблемы ГлобализацииДокумент2 страницыТребования Современного Мира Проблемы ГлобализацииOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Das Geschleht der SubstantiveДокумент1 страницаDas Geschleht der SubstantiveOlga SylvestrovaОценок пока нет
- Диктант 1Документ1 страницаДиктант 1Olga SylvestrovaОценок пока нет
- Лея урок 5 мой вариантДокумент3 страницыЛея урок 5 мой вариантOlga SylvestrovaОценок пока нет
- анализ текста НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО ТЕНДРЯКОВДокумент6 страницанализ текста НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО ТЕНДРЯКОВOlga SylvestrovaОценок пока нет
- ТестыДокумент61 страницаТестыk dora0% (1)
- Цитаты от ЖванецкогоДокумент5 страницЦитаты от ЖванецкогоfedorОценок пока нет
- Правила Чтения По АракинуДокумент6 страницПравила Чтения По АракинуЕкатерина ШевцоваОценок пока нет
- Propp FinalДокумент55 страницPropp FinalshidodushОценок пока нет
- Lab3 Ai 2020Документ3 страницыLab3 Ai 2020Никита ГоворовОценок пока нет
- КузьминаЕ Мой Русский Язык 2Документ126 страницКузьминаЕ Мой Русский Язык 2Irina Nekrasova100% (2)
- Хранитель (автовосстановление)Документ3 страницыХранитель (автовосстановление)Kiril NavalihinОценок пока нет
- История Армении - ВикипедияДокумент246 страницИстория Армении - ВикипедияСергей ГнидинОценок пока нет
- ВПР,ОГЭ,ЕГЭ. Школьникам. Студентам.Документ3 страницыВПР,ОГЭ,ЕГЭ. Школьникам. Студентам.Centro de Estudios Lingüísticos LibresОценок пока нет