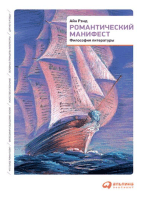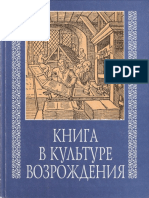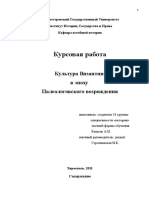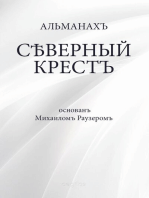Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Урок 5 (1) - Философия Ренессанса. Повторение
Урок 5 (1) - Философия Ренессанса. Повторение
Загружено:
Рнтель Мамедов0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
16 просмотров15 страницОригинальное название
Урок 5(1). Философия Ренессанса. Повторение
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
16 просмотров15 страницУрок 5 (1) - Философия Ренессанса. Повторение
Урок 5 (1) - Философия Ренессанса. Повторение
Загружено:
Рнтель МамедовАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 15
Томан И.Б.
Философия Ренессанса
1.Что такое Ренессанс? (Самосознание интеллектуалов эпохи Ренессанса
Считается, что автором термина Возрождение (Ренессанс) был
итальянский историк искусства, художник и архитектор Джорджо
Вазари(1511-1574). Д. Вазари - автор многотомного фундаментального труда
"Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих", являющегося
важнейшим источником по истории искусства Возрождения. Во введении
Вазари излагает свою концепцию истории искусства. По его мнению, за
расцветом искусства неизбежно следует упадок, за упадком - возрождение и
т.д. Падение искусства, как считал Д.Вазари, началось уже в IV веке, когда
христиане, насаждая новую веру, стали разрушать языческие храмы и
разбивать статуи богов. Начало возрождения Д.Вазари связывает с
творчеством художника Чимабуэ, то есть с XIII веком. Свое время Д.Вазари
воспринимает как апогей возрождения античной культуры. Однако Д.
Вазари считал, что за цветущим состоянием современного искусства
неизбежно последует деградация, и свое произведение он адресовал, в
частности, будущим читателям, которым предстоит жить в период упадка
искусства. Изучая его книгу, они должны находить утешение в сознании
того, что рано или поздно искусство вновь займет достойное место в жизни.
Восприятие современности как возрождения античной культуры
характерно для многих итальянских интеллекуалов XV-XVI вв. Отношение к
античности было в чем-то сродни соревнованию: ее стремились догнать и
перегнать, и, если в XIV веке на нее смотрели как бы снизу вверх, с
восхищением, к которому примешивались неприятие и страх, то в XV веке
пришло сознание возвращения блистательного прошлого. "Времена
возвращаются", - гласила надпись на щите Лоренцо Великолепного, с
которым он выступал на рыцарском турнире во Флоренции в 1468 году.
Впрочем, идея о том, что "времена возвращаются", в то время
буквально витала в воздухе.
Маттео Пальмиери (1406-1475) в диалоге "Гражданская жизнь"
утверждает: "Пусть всякий мыслящий человек будет благодарен Богу за то,
что родился в такое время, когда процветают благороднейшие дарования,
каких не было 1000 лет".
Об этом пишет и знаменитый гуманист, родоначальник историко-
филологической критики (доказавший подложность так называемого
Константинова дара) Лоренцо Валла (1407-1458) («О красотах латинского
языка»): "Я не знаю, почему живопись, скульптура, архитектура, в течение
столь долгого времени столь страшно вырождавшиеся и вместе со
словесностью бывшие уже на пороге гибели, в наше время возвращают себе
силы и возрождаются и откуда такой расцвет и такое богатство
великолепных мастеров и ученых. Чем мрачнее были предшествующие
времена, когда невозможно было найти ни одного образованного человека,
тем сильнее нам следует гордиться нашим временем, когда, если приложить
еще немного усилий, латинский язык, а вместе с ними все науки будет в
самом ближайшем будущем восстановлен во всем своем могуществе".
В XVI веке в рассуждениях о современности появляется новый
оттенок: превосходство над античностью. Герой романа Франсуа Рабле
(1494-1553) "Гаргантюа и Пантагрюэль" пишет своему сыну: "Ныне науки
восстановлены, возрождены языки: греческий, еврейский, халдейский,
латинский. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников,
обширнейшие книгохранилиша, так что даже во времена Платона и
Цицерона было труднее учиться, нежели теперь".
Настоящий панегирик своему времени - в автобиографии известного
математика, врача, инженера, философа и астролога Джироламо Кардано
(1501-1576) "О моей жизни": "Я родился в том веке, когда был открыт весь
земной шар, тогда как в древности было известно не более его трети. Есть ли
что-нибудь удивительнее, чем пиротехника и человеческая молния, которая
гораздо опаснее, чем молния небожителей? Не умолчу я и о тебе, великий
магнит, ведущий нас по безбрежным морям в темноте ночи в далекие
неведомые края. Прибавим к этому еще четвертое открытие - изобретение
книгопечатания. Созданное руками людей, придуманное их гением, оно
соперничает с божественными чудесами, ибо чего еще недостает нам, кроме
обладания небом?"
Итак, интеллектуалы Возрождения видели значение своей эпохи
прежде всего в возрождении античной культуры. В настоящее время данный
термин понимается гораздо шире, и это представление, заметно
отличающееся от самосознания людей того времени, возникло в XIX веке
благодаря работам историков Жюля Мишле ("Возрождение", 1855) и Якоба
Буркхардта ("Культура Ренессанса в Италии", 1860). Отныне за
Возрождением признается заслуга не только в подъеме искусств, но и в
открытии "мира и человека". Начиная с XIX века одной из главных
особенностей культуры Возрождения стали считать антропоцентризм,
противопоставляя его средневековому теоцентризму.
Таким образом, пытаясь понять тот или иной исторический период,
нам следует выяснить и сопоставить самосознание живших тогда людей и
его оценки в культуре последующих эпох. Наши образы прошлого во многом
определяются настоящим, и мы должны корректировать их, чаще обращаясь
к первоисточникам и конкретным историческим фактам.
"В эпоху Возрождения, - отмечает историк культуры М.Н.Андреев, -
мы не найдем высказываний такого рода: мы пришли, чтобы построить
светскую культуру, вернуть материи права, узурпированные духом, и
поставить в центр мироздания свободную и суверенную личность. Мы не
найдем и программы, чьей целью, явной или тайной, являлся бы слом
идеологической диктатуры церкви или борьба за эмансипацию личности.
Между тем программа у этой культуры была (...). Восстановление
классической древности - вот эта программа".
Среди историков нет единого мнения относительно соотношения
Средневековья и Возрождения. Одни склонны считать Возрождение особой
эпохой, противопоставляя ее Средневековью; другие воспринимают его как
комплекс явлений в культуре позднего Средневковья. Нет единого мнения
относительно хронологичеких рамок и периодизации Возрождения, а также
его локализации. Есть расхождения в характеристике основных явлений
Возрождения и, наконец, существуют прямо противоположные точки зрения,
касающиеся значения Возрождения для будущего европейской культуры.
Среди ученых и широких слоев любителей искусства преобладает
восторженное отношение к Возрождению; в нем видят расцвет культуры,
эмансипацию человеческого духа и залог будущих великих свершений
европейской цивилизации. Нетрудно заметить, что такая позиция
предполагает веру в прогресс и оптимистический взгляд на настоящее и
будущее. Однако с начала ХХ века получает распространение совершенно
иная точка зрения. В соответствии с ней, именно Возрождение с его культом
человека и жизненных благ повинно в современных и грядущих бедствиях;
именно в эпоху Возрождения расцвел пышным цветом гибельный
индивидуализм, который уничтожит европейскую цивилизацию.
Приведем одно из определений культуры Возрождения, предложенное
М.Н.Андреевым.
"Культура Возрождения есть локальное по масштабам (только
Западная Европа и только высшие сферы культурной деятельности -
главным образом литература изобразительное искусство), но глобальное по
последствиям явление мировой культуры. Его специфику составляет
совмещение двух противоположных по направлению импульсов:
традиционалистского (что выразилось в отношении к античной культуре
как абсолютной норме) и инновационного (что выразилось в обостренном
внимании к культурном смыслу индивидуальной деятельности)" .
Возрождение появилось в Италии, и дело здесь не только в
особенностях ее экономической и политической жизни. Для итальянцев
античная культура - не только эстетический идеал, не только сокровищница
духовных и нравственных ценностей; это национальная, отечественная
культура. Возрождая античность, они возрождали не абстрактные идеалы;
они возрождали себя. свою культуру.
Например, Джованни Виллани в "Новой хронике, или истории
Флоренции" (после смерти автора его труд был продолжен братом Маттео, а
потом племянником Филиппо) говорит о причинах, побудивших его взяться
за перо. В 1300 году он совершил паломничество в Рим, и там, "постигнув
величие его древних памятников и читая об истории и свершениях римлян",
он осознал, что его сограждане имеют к этому величию непосредственное
отношение, и решил предринять свой труд "ради осведомления наших
потомков: пусть они не забывают примечательных событий нашего времени
и пусть знают о причинах и следствиях происходивших перемен, пусть
учатся поступать добродетельно и презирают порок, и пусть стойко
переносят все невзгоды на благо нашей республики" (Кн.8, гл.36).
Петрарка в письме к своему другу монаху Иоанну Колонне, вспоминая
их совместную прогулку по римским руинам, сетует: "Увы, Рима нигде не
знают меньше, чем в Риме. Кто усомнится, что Рим тотчас воскрес бы, начни
он себя помнить. (...) Все, что бы и откуда мы не узнали, наше, разве что
украдено у нас забвением".
2.Представления о человеке и его месте в мире в эпоху Ренессанса
Франческо Петрарка (1304-1374). О средствах против всякой судьбы
Мало ли вам причин для радости? Образ и подобие Бога-творца,
имеющиеся в человеческой душе: ум, память, предвидение, красноречие;
столь многие изобретения, столь многие искусства <…>. А красота столь
многочисленных и столь разнообразных вещей, удивительным и
непостижимым образом служащих не только вашим нуждам, но и вашему
удовольствию. Что за великая сила корней, травяных соков, какое
разнообразие цветов. Сколько запаха, тепла, вкусовых ощущений, из
различия которых рождается гармония. Как много животных в небе, на земле,
в морях <…>. Прибавь холмы, согретые солнцем долины, тенистые ущелья,
льдистые Альпы, теплые побережья. Прибавь столь многие источники
целебных вод. <…> А сколько морей, омывающих землю или вдающихся в
нее. Прибавь стремительные потоки и незыблемые пределы материков.
Прибавь озера, схожие с морями, и обширные болота, и ручьи, стремительно
низвергающиеся с горных теснин, и цветущие берега. <…> Что добавить о
гулких пещерах и покрытых пеной утесах, о влажных побережьях; об
отливающих золотом нивах и виноградниках в перлах ягод и об удобствах
городов, и о деревенском покое и о свободе уединения.
А что может быть прекраснее и божественнее из всех зрелищ, чем вид
неба с едва заметным вращением звезд?
Джаноццо Манетти (1396-1459). О достоинстве и превосходстве человека
Благодаря исключительной и выдающейся остроте человеческого разума
после первоначального и еще незаконченного творения мира, видимо, нами
все было изобретено, изготовлено и доведено до совершенства. Ведь наше, то
есть человеческое, поскольку сделано людьми, то, что находится вокруг: все
дома, все укрепления, все города, наконец, все сооружения на земле, а их
бесспорно так много и так они замечательны, что благодаря их великолепным
свойствам они по праву должны считаться делом скорее ангелов, чем людей.
Наша живопись, наша скульптура, наши искусства, наши науки, наша
мудрость. Наши все открытия, наши различные языки и разнообразные виды
письменности. <…> Наши, наконец, все орудия; удивительные и почти
невообразимые, они были созданы и изготовлены с исключительным
мастерством благодаря проницательности и остроте человеческого или,
скорее, божественного ума. Все это и прочее, подобное ему, столь
многочисленное и прекрасное, повсюду бросается в глаза, чтобы видно было,
что мир и его красоты, изначально созданные всемогущим Богом и
предназначенные для пользования людей и принятые затем самими людьми с
благодарностью, были сделаны ими значительно более прекрасными и
изящными и с гораздо большим вкусом. <…> Большая часть того, что видят в
мире, была устроена и упорядочена людьми. <…>
Поскольку велики, непоколебимы и восхитительны сила, разум и
могущество человека, ради которого был создан и сам мир и все, что в нем
есть, то равным образом прямой, неизменный и единственный долг человека
состоит, думается нам, в том, чтобы уметь и быть в состоянии руководить и
управлять миром, созданным ради человека. И человек никоим образом не
смог бы осуществить это без действия и познания. Следовательно, мы с
полным правом можем сказать, что действовать и познавать и составляет
собственный долг человека.
Марсилио Фичино (1433-1499)
Платоновское богословие о бессмертии души
Человеческие искусства творят все, что творит сама природа, словно мы
не слуги, но соревнователи природы. <…>
Человек распоряжается стихиями, камнями, металлами, растениями и
одушевленными существами, многообразно изменяет их форму и вид, что не
могут сделать животные. Он попирает землю, бороздит воды, поднимается в
воздух при помощи высочайших башен <…>. Он добывает огонь –
единственный, кто использует его для своих целей. <…> Благодаря небесной
доблести поднимается он в небеса и измеряет их. Благодаря сверхнебесному
разуму проникает он по ту сторону их. <…> Подобно Богу действует тот, кто
пребывает во всех стихиях и возделывает их все. <…>
Бог есть повсюду и всегда. Однако и человек стремится быть повсюду.
<…> Ни небо не кажется ему слишком высоким, ни центр земли – глубоким.
Временные и пространственные расстояния не мешают ему охватывать все.
Никакие заслоны не притупляют и не ослабляют его зрения. Никакие
пределы его не устраивают. Всюду хочет он владычествовать, всюду быть
превозносимым. И таким образом он стремится быть вездесущим, как Бог.
Стремится также существовать всегда, как Бог.
Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494).
Речь о достоинстве человека
Закончив творение, пожелал Мастер, что был кто-то, кто оценил бы смысл
такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом.
Поэтому, завершив все дела, <…> задумал наконец сотворить человека. <…>
И, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего
места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и
лицо, и обязанности ты имел по собственному желанию, согласно своей воле
и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах
установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами,
определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя
предоставляю. Я не сделал тебя ни смертным, ни бессмертным, ни небесным,
ни земным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в
образе, который предпочтешь. Ты можешь переродиться в жизнь неразумного
существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшее,
божественное <…>». О, высшая щедрость Бога-Отца! О, высшее и
восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает и
быть тем, кем хочет <…>. В рождающихся людей Отец вложил семена и
зародыши разнородной жизни, и соответственно тому, как каждый их
возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды.
Леон Баттиста Альберти (1404-1472)
Теодженио
Итак, нам, смертным человечишкам, самым незащищенным из всех живых
существ, не стоит удивляться тому, что в любое время нас может постигнуть
то или иное несчастье <…>.
Нет существа, столь же ненавидимого всем другими, как человек. Добавь
еще, сколь пагубен человек для самого себя со своим честолюбием,
стяжательством и непомерным желанием жить в удовольствиях и безделье
<…>. Присовокупи огромную глупость, постоянно обитающую в умах
людей, ибо, ничем не удовлетворенный и не успокоенный, человек всегда
самого себя тревожит и подстрекает. Другие животные довольствуются
питанием в размерах, требуемых природой, а также для производства
потомства имеют в себе определенные правила и время; человеку же никогда
не надоедает его невоздержанность. Другие животные довольствуются тем,
что им полагается; только человек в вечной погоне за новым сам себе
приносит вред. Не довольствуясь всей ширью земли, он хочет добыть все под
землей, под водой, в горах, силится подняться выше облаков. <…>
О беспокойное и неудовлетворенное никаким своим состоянием и
положением существо! Иной раз, когда природе надоедает неуемная
дерзость, присущая нам, желающим знать все ее тайны, направлять и
подделывать ее, она изыскивает новые бедствия, дабы избавить себя от
наших забав, а заодно научить уважать ее. Что за глупость смертных,
ищущих знать, когда, как и какой смысл и какая цель всякого установления и
предприятия Бога. <…> Природа упрятывает золото, металлы и другие
минералы; мы же извлекаем их наружу. Она рассыпала камни-самоцветы,
сообщив им формы, которые ей, замечательной художнице, показались
наиболее подходящими. Мы же, кромсая, даем им новую отделку и форму.
Она установила различия деревьев и плодов; мы их скрещиваем. <…> Сосны
бежали на высокие горы, расположенные вдали от моря; мы же их
стаскиваем, словно бы только для того, чтобы они мокли в морской воде.
Залежи мрамора находятся в земле; мы же его располагаем на фасадах
храмов. И так нам противна всякая природная свобода, что мы смеем
обращать в рабов даже самих себя. <…>
Свою утробу человек хочет превратить в общую могилу всех вещей, трав,
плодов, птиц, рыб. Ни под землей, ни над землей нет ничего, чтобы он ни
пожирал. Смертельный враг тому, что он видит и чего не видит, он стремится
все поработить. Враг человеческому роду, враг самому себе.
Шарль де Бовель (1478-1556)
Книга о мудреце
Именно человек, особенно мудрец, является естественным зеркалом
вселенной, тот, чей ум открывает, что все вещи, в мире сущие, произведены,
дабы обнаружиться, быть познанными и заблистать. Подобно тому, как
субстанции вещей пребывают в мире, так же и их умопостигаемые отблески,
огоньки, идеи и истинные понятия живут в человеке. Мир, будучи всем, не
знает, однако, и не ведает ничего. В свою очередь, человек, будучи ничтожно
малым и почти ничем, знает, однако же, и ведает все. И оказывается, что
сколь велик тот субстанцией, столь же велик этот знанием. <…> Человек есть
сияние, знание, свет и душа мира; мир же есть как бы само тело человека.
<…>
Если человек, прежде всего мудрец, является душой мира, то человек в
такой же степени необходим миру, в какой душа телу. И человек будет частью
вселенной совсем так же, как душа есть часть человека как целого. И если
человек владеет самим собой и познает себя самого, то следует признать, что
и вселенная способна овладеть собой, саму себя познавать и исследовать.
<…>
Человек есть душа мира; мир же и все, что можно видеть под небом,
является бы словно телом человека. Человек и мир образуют то, что мы
называем вселенной, которая подобна и соразмерна человеку как целому. И
человек как целое является душой вселенной, мир – ее телом. <…>
У человека нет ничего своего и особенного, но ему присуще все то, что
свойственно другим вещам. <…> Если захочешь определить и охватить
природу человека, то устреми взор на все то, что обитает во всем мире. Ведь
целокупность этого всеми определяется по характеру и имени как большой
человек.
Итак, природа произвела и породила двух человек: одного – большого, мы
называем его миром, второго – малого, по отношению к которому
преимущественно и употребляется имя «человек». Тот, большой, всем
является в действительности; малый же – благодаря универсальной
возможности. <…>
Итак, нужно уразуметь, что природа произвела двух человек: одного –
сотворенного в центре, в средоточии мира и пребывающего в
действительности – это и есть наш человек; и другого – его еще должно
сотворить, незаконченного, пребывающего в возможности, в том, что вокруг.
Человек произведен природой вне всего, дабы стать многовидящим, а
также быть отображением и природным зеркалом вещей, отделенным и
удаленным от вселенского миропорядка, и помещенным в отдалении от всего
в качестве центра всего. <…> Ибо природа человека та же, что и зеркала.
Зеркалу свойственно быть расположенным вне всего напротив всего, ничего в
себе не заключая и не обладая никаким природным образом. Поместив
зеркало среди видимых вещей, в их ряду, сразу же лишишь его возможности
обозрения.
Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский(1485-1535).
О сокровенной философии
Всевышний Бог (как говорит Трисмегист) сотворил два подобных себе
образа, то есть мир и человека: дабы в одном заявить о себе дивными делами,
в другом же найти себе отраду. Поскольку сам Он един, Он сотворил мир
един; поскольку бесконечен, мир создал шарообразным; поскольку вечен,
мир создал нетленным и вечным; поскольку безмерен, мир создал
наибольшим из всего; поскольку Сам является всеобщей жизнью,
животворными семенами наделил также мир, рождающий все из себя; и
поскольку всемогущ, то <…> мир сотворил не из наличной материи, но из
ничего. <…> Сотворил также Бог человека по образу Своему, ибо подобно
тому как мир есть образ Бога, так человек есть образ мира. <…>
Мир есть одушевленное существо, разумное, бессмертное; равным
образом человек есть одушевленное существо разумное, но смертное, то есть
разрушимое. Ибо (как говорит Гермес), поскольку мир сам бессмертен, то
невозможно, чтобы какая-то его часть погибла. <…> Человек умирает,
говорим мы, когда душа и тело отделяются друг от друга, а не потому, что
одно или другое из них погибает.
Подлинным же образом Бога является Слово Его, мудрость, жизнь, свет и
истина, в Нем сущая; человеческий дух есть образ этого Образа, отчего мы
говорим, что созданы по образу Божию, не по образу мира или тварных
сущностей. <…> И подобно тому, как Бог бесконечен, и невозможно его чему
бы то ни было подчинить, так и дух человеческий свободен и не может быть
ни подчинен, ни измерен; как Бог в уме своем содержит этот мир целиком,
так и дух человеческий объемлет его мыслью. <…> Итак, человек есть
наивернейшее подобие Бога, поскольку содержит в себе все, что есть в Боге.
<…> Подобно тому, как Бог все знает, так же и человек может познать все,
доступное познанию <…>. И нет в человеке ничего, никакого такого
свойства, в котором бы не засияло нечто божественное; и нет ничего такого в
Боге, что не было бы воспроизведено также и в человеке. Итак, всякий
познавший себя самого, познает прежде всего Бога, по образу Коего он
сотворен; познает мир, подобие коего он представляет; познает все твари,
отличительными свойствами коих он обладает. <…> Чем больше кто-либо
познает себя, тем большую силу воздействия он приобретает, тем более
значительные и дивные дела он творит, достигает такого совершенства, что
становится сыном Бога, превращается в тот же самый образ, которым
является Бог, и соединяется с Ним.
Мишель Монтень (1533-1592)
Опыты
Кто уверил человека, что это удивительное движение небосвода, этот
вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой
светил, этот грозный ропот безбрежного моря, что все это сотворено и
существует столько веков для него, для его удобства и к его услугам? Не
смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже
управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя
властелином и владыкой вселенной, малейшей частицей которой оно даже не
в силах познать, не то что повелевать ею! На чем основано то превосходство,
которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании только
он один может воздавать хвалу его творцу и отдавать себе отчет в
возникновении и распорядке вселенной? <…> Есть ли в этом жалком
существе хоть что-нибудь достойное такого преимущества? Подумайте
только о нетленной жизни небесных тел, их красоте, их величии, их
непрерывном и столько правильном движении. Если даже та доля разума,
которой мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума
равнять себя с ним? Как можно судить о его сущности и его способностях по
нашему знанию! <…>
Самомнение – наша прирожденная и естественная болезнь. Человек самое
злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное.
Человек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира
<…>, и, однако же он мнит себя попирающим небо. По суетности того же
воображения он равняет себя с Богом, приписывает себе божественные
способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий,
преуменьшает возможности животных, своих собратьев и сотоварищей,
наделяя их такой долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится.
Как он может познать усилием своего разума внутренние и скрытые
движения животных? На основании какого сопоставления их с нами он
приписывает им глупость? <…>
Тот недостаток, который препятствует общению животных с нами, –
почему это не в такой же мере и наш недостаток, как их? Трудно сказать, кто
виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга, ибо ведь мы не
понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они так же вправе
считать нас животными, как мы их. <…> Нужно признать равенство между
нами и животными: у нас есть некоторое понимание их движений и чувств, и
примерно в такой же степени животные понимают нас. Они ласкаются к нам,
угрожают нам, требуют от нас; то же самое проделываем и мы с ними. <…>
Те преимущества, которые человек из самомнения произвольно
приписывает себе, просто не существуют; и если он один из всех животных
наделен свободой воображения и той ненормальностью умственных
способностей, в силу которых он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что
он хочет, истинное и ложное вперемешку, то надо признать, что это
преимущество достается ему дорогой ценой и что ему нечего им хвалиться,
ибо отсюда ведет свое происхождение главный источник угнетающих его зол:
пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние. <…> Из нашего
тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности
не щедрости природы, а нашим собственным усилиям и, думая этим
превознести и возвеличить себя, наделяем животных природными дарами,
отказывая им в благоприобретенных. И я считаю это большой глупостью,
ибо, на мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить
ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклянчил у
обучения. Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав,
что он одарен от Бога и природы.
Томмазо Кампанелла (1568-1639)
Метафизика
Нет ничего в мире, что не было бы подчинено деятельности человека.
Разве не сооружает он из камня дома, города и стены; не использует металлы,
подчиняя с их помощью камни, растения и зверей и пользуясь всем этим в
ремеслах? Он сводит животных в стада, растения – в сады, заботится об их
размножении как их бог; <…> собирает урожай, приготовляет пищу,
устраивает пиры. <…> Человек укрощает ветры и побеждает моря, знает счет
времени. <…> Человек подражает всей природе и Богу. Он ведь построил
корабль, уподобив его птичьей груди, создал весла, подобные крыльям,
создал сети, лучше, чем паук, и здания, более восхитительные, чем у пчел.
<…> Кроме того, он создал артиллерию, как Бог создал гром; ни подражать
такому, ни понять этого не способны животные. Кроме того, он с помощью
светильника ночь превращает в день. <…> Кто не восхитится человеком,
когда он с помощью часов подражает небу, дает душу бумаге, как Бог, чтобы
мудрость беседовала с отсутствующими людьми и с людьми будущих времен.
<…> Кроме того, в величайшей мере доказывает божественность человека
астрономия. <…>
Поэтому не стоит спорить о превосходстве человека над животными, ибо
это очевидно. <…>
Человек в желаниях своих не останавливается на вещах этого мира, и,
наслаждаясь обладанием царства, он желает еще большего – возвыситься над
небом и миром и захватить бесчисленные миры. Этого не было бы в душе,
если бы она на деле не была бы порождением бесконечной сущности. <…>
Вам также может понравиться
- 1 Лекция Литература ВозрожденияДокумент30 страниц1 Лекция Литература ВозрожденияBayarmaОценок пока нет
- Хронологические рамки эпохи возрождения. Семинар 2Документ5 страницХронологические рамки эпохи возрождения. Семинар 2Artem JheleznovОценок пока нет
- ЕСТЕТИЧИСКИЕ ИДЕАЛЫ ВОЗРОЖДЕНИЯДокумент10 страницЕСТЕТИЧИСКИЕ ИДЕАЛЫ ВОЗРОЖДЕНИЯOlesia KliepakОценок пока нет
- РенессансДокумент6 страницРенессансViktoria MihailovaОценок пока нет
- история. эпоха возрожденияДокумент6 страницистория. эпоха возрожденияДен КожокарьОценок пока нет
- Презентация по МХКДокумент10 страницПрезентация по МХКВладислава ЧерненкоОценок пока нет
- Западноевропейская музыкальная культураДокумент8 страницЗападноевропейская музыкальная культураKonstantin KruhliakОценок пока нет
- 1ЛЕКЦИЯДокумент58 страниц1ЛЕКЦИЯКарина КаринаОценок пока нет
- 1.5 Культура Европейского Возрождения.Документ9 страниц1.5 Культура Европейского Возрождения.Alisa In WonderlandОценок пока нет
- Влияние Эпохи Возрождения На Современную Художественную КультуруДокумент13 страницВлияние Эпохи Возрождения На Современную Художественную КультуруVadim AlekhinОценок пока нет
- Epoha Vozrozhdeniya 1Документ3 страницыEpoha Vozrozhdeniya 1aakiseleva2009Оценок пока нет
- Гранин РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТ УТОПИЗМА К ТОТАЛИТАРИЗМУДокумент7 страницГранин РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТ УТОПИЗМА К ТОТАЛИТАРИЗМУromaroman83Оценок пока нет
- Ref 25318Документ16 страницRef 25318narynbekova2005Оценок пока нет
- Mokulskii Ss Italianskaia Literatura Vozrozhdenie I Prosvesh PDFДокумент251 страницаMokulskii Ss Italianskaia Literatura Vozrozhdenie I Prosvesh PDFHi,it's me DICKINSONОценок пока нет
- Le Goff ZH Tsivilizatsia Srednevekovogo ZapadaДокумент562 страницыLe Goff ZH Tsivilizatsia Srednevekovogo ZapadaCypress VingОценок пока нет
- 305072Документ20 страниц305072ЕваОценок пока нет
- Merezhkovskii Dmitrii Atlantida Evropa Taina ZapadaДокумент414 страницMerezhkovskii Dmitrii Atlantida Evropa Taina ZapadaJoão VítorОценок пока нет
- Искусство эпохи Возрождения в ИталииДокумент17 страницИскусство эпохи Возрождения в ИталииalissabelucciОценок пока нет
- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВДокумент6 страницОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВKarinaОценок пока нет
- Ливанова - История Западноевропейской Музыки - Эпоха ВозрожденияДокумент105 страницЛиванова - История Западноевропейской Музыки - Эпоха ВозрожденияKaya LastochkaОценок пока нет
- История древнегреческой литературы. Классический период (PDFDrive)Документ277 страницИстория древнегреческой литературы. Классический период (PDFDrive)Eugen ChepteneОценок пока нет
- Эпоха ПросвещенияДокумент12 страницЭпоха ПросвещенияmayaОценок пока нет
- Эпоха ПросвещенияДокумент12 страницЭпоха ПросвещенияmayaОценок пока нет
- Zarubezhnaya Literatura 17Документ58 страницZarubezhnaya Literatura 17Elena ZarevaОценок пока нет
- Kulturologia 11-15Документ4 страницыKulturologia 11-15Дарья АнохинаОценок пока нет
- Италия в Эпоху ВозрожденияДокумент19 страницИталия в Эпоху ВозрожденияArslam AllaberdiyevОценок пока нет
- history - german - literature, СинилаДокумент576 страницhistory - german - literature, СинилаKate GordanОценок пока нет
- Bragina L M Otv Red - Kniga V Kulture Vozrozhdenia - 2002Документ307 страницBragina L M Otv Red - Kniga V Kulture Vozrozhdenia - 2002Dmitry GaltsinОценок пока нет
- Проект Украина Архитекторы, прорабы, работники А—ГОт EverandПроект Украина Архитекторы, прорабы, работники А—ГОценок пока нет
- КурсоваяДокумент33 страницыКурсоваяAnna KoshelОценок пока нет
- Vseobshchaya Istoriya Iskusstv 2Документ470 страницVseobshchaya Istoriya Iskusstv 2ВалерияОценок пока нет
- Perioada RenasteriiДокумент23 страницыPerioada RenasteriiVUATANATOОценок пока нет
- Perevod V Epokhu VozrozhdeniaДокумент14 страницPerevod V Epokhu VozrozhdeniaMoon BroОценок пока нет
- Filosofskiye SochineniyaДокумент753 страницыFilosofskiye SochineniyaJojo DanifОценок пока нет
- Галилеянин. Лучиан КристескуДокумент300 страницГалилеянин. Лучиан КристескуDmitriОценок пока нет
- 708524Документ272 страницы708524jaroslav.mudryjОценок пока нет
- смерть в венецииДокумент2 страницысмерть в венецииКаринаОценок пока нет
- Великие революцииДокумент695 страницВеликие революцииalexandr constantinОценок пока нет
- Такташева-РА-Музыкальная культура Средневековой Европы-ver2Документ106 страницТакташева-РА-Музыкальная культура Средневековой Европы-ver2Vaqif MustafazadeОценок пока нет
- реферат по опвДокумент3 страницыреферат по опвklimenkov411Оценок пока нет
- 28474Документ13 страниц28474Олександр ЗемлянськийОценок пока нет
- розе литератураДокумент145 страницрозе литератураГалеманов АлександрОценок пока нет
- Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусстваДокумент5 страницКлэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусстваAndrewОценок пока нет
- Richard Tarnas - Istoria Zapadnogo MyshleniaДокумент366 страницRichard Tarnas - Istoria Zapadnogo MyshleniaAlexey SademovОценок пока нет
- 016 K ONDAKOWДокумент11 страниц016 K ONDAKOWНадеждаОценок пока нет
- Эстетика немецких романтиков (История эстетики в памятниках и документах) - 1987Документ736 страницЭстетика немецких романтиков (История эстетики в памятниках и документах) - 1987Olga2404Оценок пока нет
- Preview 25653Документ73 страницыPreview 25653FLYSeNОценок пока нет
- Королькова М. Контрольная № 2Документ6 страницКоролькова М. Контрольная № 2Полина ЗибареваОценок пока нет