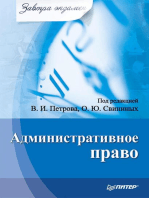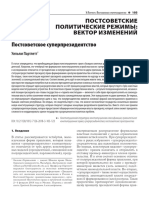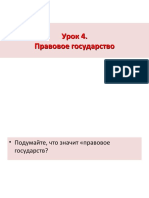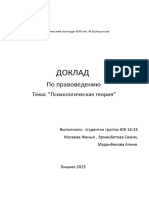Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
А. Негри. Учредительная власть
Загружено:
Иван Иванов0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
24 просмотров49 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
24 просмотров49 страницА. Негри. Учредительная власть
Загружено:
Иван ИвановАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 49
АНТОНИО НЕГРИ
ПОВСТАНЧЕСКИЕ СИЛЫ: УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
1999 г.
Глава 1. Учредительная власть: концепция кризиса
- О юридическом понятии учредительной власти
- Абсолютная процедура, Конституция, Революция
- От структуры к теме
Глава 2. Добродетель и удача: Маккиавелийская парадигма
- Логика времени и нерешительность принца
- Демократия как абсолютное правительство и реформа эпохи
Возрождения
- Критическая онтология учредительного принципа
Глава 1. Учредительная власть: концепция кризиса
О юридической концепции учредительной власти
ГОВОРИТЬ об учредительной власти — значит говорить о демократии.
В современную эпоху эти два понятия часто связывали друг с другом, и как
часть процесса, который усилился в течение двадцатого века, они стали все
более и более накладываться друг на друга. Иными словами, учредительная
власть рассматривалась не только как всесильное и экспансивное начало,
способное производить конституционные нормы любой правовой системы,
но и как субъект этого производства — деятельности столь же всемогущей и
экспансивной. С этой точки зрения учредительная власть имеет тенденцию
отождествляться с самим понятием политики, как оно понимается в
демократическом обществе. Чтобы признать учредительную власть
конституционным и юридическим принципом, мы должны рассматривать ее
не просто как власть, производящую конституционные нормы и
структурирующую учрежденную власть, но прежде всего, как субъект,
регулирующий демократическую политику. Однако здесь не все так просто.
Фактически, учредительная власть сопротивляется конституционализации:
«Изучение учредительной власти с юридической точки зрения представляет
исключительную трудность, учитывая гибридный характер этой власти…
Сила, скрытая в учредительной власти, отказывается полностью
интегрироваться в иерархическую систему норм и компетенций,
учредительная власть всегда остается чуждой закону. Вопрос становится еще
более сложным, поскольку демократия тоже сопротивляется
конституционализации: демократия на самом деле является теорией
абсолютного (неограниченного) правительства, а конституционализм — это
теория ограниченного правительства и, следовательно, практика,
ограничивающая демократию. Наша цель будет заключаться в том, чтобы
найти определение учредительной власти в рамках этого кризиса, который ее
характеризует. Мы постараемся понять радикальный характер основ
концепции учредительной власти и масштабы действия такой власти, от
демократии к суверенитету, от политики к государству, от власти к силе.
Короче говоря, мы попытаемся разобраться с понятием учредительной
власти именно постольку, поскольку оно есть понятие кризиса.
Поэтому давайте сначала рассмотрим различные варианты
юридического определения учредительной власти: они позволят нам сразу
добраться до сути исследуемого вопроса. Затем мы рассмотрим проблему
учредительной власти с позиций конституционализма.
Что такое учредительная власть с точки зрения теории права? Это
источник, порождающий конституционно-правовые нормы, то есть власть
создавать конституцию и, следовательно, предписывать основные нормы,
организующие государственную власть. Другими словами, это власть
устанавливать новый правовой порядок, регулировать правоотношения
внутри нового сообщества. «Учредительная власть есть императивный акт
народа, возникающий из ниоткуда и создающий иерархию властей». Это
крайне парадоксальное определение: власть, возникающая из ниоткуда и
создающая право. В самом деле, никогда так очевидно, как в случае с
учредительной властью, юридическая теория не попадала в игру
утверждений и отрицаний, абсолютизации и ограничения того, что
свойственно ее логике (как постоянно утверждает Маркс).
Несмотря на то, что учредительная власть всемогуща, она тем не менее
должна быть ограничена во времени, определена и использована как
чрезвычайная власть. Учредительная власть как всеохватывающая власть и
есть сама революция. «Революция определяется теми принципами, которые
были заложены в основу самими гражданами. Конституция основана на
священных правах собственности, равенства, свободы. Революция
окончена», — провозгласил Наполеон с неподражаемым ироническим
высокомерием, ибо утверждать, что учредительная власть кончилась, —
чистая логическая бессмыслица. Ясно, однако, что эта революция и эта
учредительная власть могли быть узаконены только в форме термидора.
Проблема французского либерализма на протяжении первой половины
девятнадцатого века заключалась в том, чтобы довести революцию до
завершения. Но учредительная власть не только всесильна; она также
экспансивна (власть всеобъемлющая): ее неограниченное качество не только
временное, но и пространственное. Однако и эту последнюю характеристику
придется уменьшить — сократить в пространстве и отрегулировать.
Учредительная власть сама должна быть сведена к норме произведенного
права; она должна быть включена в установленную (учрежденную) власть.
Ее экспансивность проявляется лишь как форма контроля за
конституционностью государства, как конституционно-ревизионная
деятельность. В конце концов, бледное проявление учредительной власти
можно увидеть в проходящих референдумах, иной регулируемой
деятельности и т. д., периодически действующей власти в четко
установленных пределах и процедурах. Все это с объективной точки зрения:
исключительно сильный набор юридических инструментов перекрывает и
изменяет природу учредительной власти, определяя понятие учредительной
власти как неразрешимую сущность.
Если посмотреть на вопрос с субъективной точки зрения, кризис
становится еще более очевидным. Будучи объективно извращенной,
учредительная власть становится, так сказать, субъективно высушенной.
Прежде всего исчезают исключительные характеристики учредительной
власти, как власти первоначальной и неотчуждаемой, стирается связь
учредительной власти с правом на сопротивление. То, что остается,
подвергается всевозможным искажениям. Конечно, когда-то помещенная в
понятие народа, учредительная власть, по-видимому, сохраняет некоторые из
своих первоначальных аспектов, но хорошо известно, что это софизм и что
понятие учредительной власти более «задушено», чем развито понятием
народа.
Однако даже этого сокращения недостаточно, и зверь, по-видимому,
еще не приручен. Таким образом, к идеологическому софизму добавляется
действие логических ножниц, и юридическая теория прославляет один из
своих шедевров. Парадигма расколота: первоначальной, делегирующей
учредительной власти противостоит собственно учредительная власть в ее
организованной форме; наконец, учрежденная власть противостоит им
обоим. Таким образом, учредительная власть поглощается механизмом
представительства. При этом учредительная власть ограничена: самим своим
происхождением, потому что она формируется в соответствии с нормами
избирательного права; своим функционированием, потому что она
подчиняется организационным правилам; и периодом, в течении которого
она функционирует. Наконец, в целом идея учредительной власти имеет
правовое оформление, тогда как утверждалось, что она порождает право; на
самом деле данная власть поглощена понятием политического
представительства, в то время как учредительная власть должна была
изначально произвести законодательную регламентацию такого
представительства. Таким образом, учредительная власть как элемент,
связанный с представительством (и не способный выразить себя иначе, как
через представительство), становится частью великого замысла
общественного разделения труда. Вот как юридическая теория
учредительной власти разрешает якобы порочный круг реальности
учредительной власти. Но не является ли замыкание учредительной власти
внутри представительства — там, где последнее есть лишь винтик в
социальной машине разделения труда — не чем иным, как отрицанием
реальности учредительной власти?
Это решение слишком простое. Несмотря ни на что, проблему нельзя
отменить, стереть, отбросить. Это остается проблемой. Как же нам избежать
теоретического пути, который вместе с порочным кругом устраняет саму
реальность противоречия между учредительной властью и юридическим
устройством? между всемогущей и всеобъемлющей действенностью
источника и системой позитивного права, конституированной
нормативностью? Как мы можем держать открытым источник
жизнеспособности системы, одновременно контролируя его? Учредительная
власть должна каким-то образом поддерживаться, чтобы избежать
возможности того, что ее устранение может свести на нет само значение
правовой системы и демократических отношений, которые должны
характеризовать ее горизонт. Учредительная власть существует: как и где она
должна действовать? Как можно понимать учредительную власть в
юридическом аспекте? В этом вся проблема: сохранить несводимость
конституирующего факта, его следствий и ценностей, которые он выражает.
Было предложено три решения. По мнению некоторых, учредительная власть
трансцендентна по отношению к системе учрежденной власти: ее динамика
навязывается системе извне. По мнению другой группы юристов, эта сила
имманентна, ее присутствие имплицитно и действует как основа. Третья
группа юристов, наконец, рассматривает источник — учредительную власть
— не как трансцендентную и не имманентную, а как интегрированную,
синхронизированную с позитивной конституционной системой. Давайте
рассмотрим эти позиции одну за другой. Кажется, что в каждом случае
трансцендентность, имманентность или интеграция и сосуществование могут
присутствовать в большей или меньшей степени, определяя таким образом
исключительные и разнообразные юридические и конституционные
последствия.
Так обстоит дело с первой группой авторов, рассматривающих
учредительную власть как трансцендентный источник. Учредительная власть
здесь предполагается как факт, сначала предшествующий конституционному
порядку, но затем противостоящий ему, в том смысле, что он остается
исторически внешним и может быть определен только конституированной
властью. На самом деле это традиционная позиция, но она пересматривается
постольку, поскольку противоречие избегается за счет смещения плоскостей.
В то время как порядок установленной власти — это порядок Sollen (что
должно быть), порядок учредительной власти — это порядок Sein (то, что
есть). Первое относится к юридической теории, второе — к истории или
социологии. Нет пересечения между нормой и фактом, действительностью и
действенностью, должностью и онтологическим горизонтом. Второе
является основанием первого, но через причинную связь, которая
немедленно разрывается, так что образующаяся правовая система становится
абсолютно автономной.
Великая школа немецкого публичного права во второй половине
девятнадцатого века и в начале двадцатого века в общем и целом
отождествляла себя с этой позицией. Согласно Георгу Еллинеку,
учредительная власть является внешней по отношению к конституции и
проистекает из эмпирически-фактической сферы как нормативное
производство. Это нормативное производство ограничено или, лучше
сказать, содержит в себе свою ограниченность, потому что эмпирически-
фактическое есть та историческая и этическая реальность, которая а-ля Кант
— если это позволяет закон — ограничивает распространение принципа вне
права. Учредительная власть, если это позволяют закон и конституция, не
нуждается ни в чем, кроме регулирования и, следовательно, в
самоограничении своей собственной силы. В этом смысле трансцендентность
фактического по отношению к закону можно рассматривать как различие
минимальной степени. Интересно отметить, как школа Еллинека (особенно
столкнувшись с последствиями движения революционных советов в
Германии после Первой мировой войны) не колеблясь сокращает разрыв,
отделяющий источник от юридической системы, тем самым признавая
необходимость включения внутри этого пространства революционные
производства и вытекающие из них непредвиденные институциональные
последствия, которые, безусловно, выходят за рамки фундаментальной
нормы конституции Рейха.
Именно от этого Ганс Кельзен отказывается. Для него
трансцендентность является наивысшей и неограниченной. Характерной
чертой закона является регулирование собственного производства. Только
норма может определить и определяет процедуру, посредством которой
производится другая правовая норма. Норма, регулирующая производство
другой правовой нормы, и правовая норма, производимая по этому
предписанию, не имеют ничего общего с учредительной властью. Нормы
следуют правилам юридической формы, и учредительная власть не имеет
ничего общего с формальным процессом производства норм. Учредительная
власть сама по себе в пределе определяется системой в целом. Ее
фактическая реальность, всемогущество и экспансивность подразумеваются
в той точке системы, где формальная сила закона сама по себе всесильна и
экспансивна: основная норма. И тот факт, что в последних работах Кельзена
вся фактическая, юридическая и институциональная жизнь права
оказывается поглощенной нормативным процессом, не сильно меняет
ситуацию. Новая динамика никогда не диалектична; в лучшем случае это
калька реального, и в этом случае система никогда не теряет своей
абсолютной автономии. Что касается учредительной власти, то мы видим
парадокс, когда ее можно рассматривать как активную на протяжении всей ее
конституционной жизни власть, но никогда не способную быть
определяющим источником или движущим принципом для любого аспекта
системы. Как мы можем прокомментировать этот сценарий? От
учредительной власти почти или совсем ничего не осталось до и после этой
операции формального обоснования закона и, следовательно, этической (как
у Еллинека) или социологической (как у Кельзена) редукции его понятия.
Опять же, точка зрения суверенитета противопоставляется точке зрения
демократии; трансцендентность учредительной власти есть ее отрицание.
Результат не сильно отличается, если рассматривать учредительную
власть как имманентную конституционно-правовой системе. Здесь мы
сталкиваемся не с артикуляцией набора позиций, принадлежащих какой-либо
одной школе, а с целым рядом позиций, типичных для различных
теоретических течений. В этом случае историческая плотность
учредительной власти априори не исключается из теоретического
исследования; но то, как к ней относится юридическая теория, не менее
проблематично. В самом деле, хотя учредительная власть и становится
реальным двигателем конституционного динамизма (а юридическая теория
признает ее наличие), в то же самое время приводится в действие несколько
нейтрализующих операций. Это операции трансцендентальной абстракции
или временной концентрации, так что в первом случае принадлежность факта
к закону может быть растворена, можно сказать, в провиденциальном
горизонте; или, во втором случае, она может закрепиться во внезапном и
изолированном новаторском действии. Минимальная и максимальная
степени имманентности измеряются здесь по отношению к уменьшению
охвата следствий или к иррациональной и непосредственной силе причины.
Если дана действенность учредительного принципа, то с целью его
сдерживания и регулирования. Положение о минимальной
распространенности учредительного принципа как имманентного принципа
правовой системы может быть традиционно изучено в работе Джона Ролза.
Он рассматривает учредительную власть как вторую часть
последовательности, следующую за начальной стадией, на которой было
заключено договорное соглашение о принципах справедливости, и
предшествующей третьей и четвертой стадиям, которые сосредоточены,
соответственно, на законотворческих механизмах и иерархиях, и исполнении
законов. Учредительная власть вновь поглощается учрежденным правом
посредством многоступенчатого механизма, который, делая учредительную
власть имманентной системе, лишает ее творческой оригинальности. Более
того, политическая справедливость или, в действительности,
конституционная справедливость (которая производится учредительной
властью) всегда представляет собой случай несовершенной процессуальной
справедливости. Другими словами, в исчислении вероятностей организация
политического консенсуса всегда относительно неопределенна. К тому
пределу, с которым учредительная власть сталкивается в договорном
механизме, следует добавить сверхопределенный этико-политический
предел, который является (кантианским) условием конституирования
трансцендентального. Имманентность слаба, хотя и эффективна.
Теперь рассмотрим некоторые теоретические положения, в которых
степень имманентности больше. После этого краткого экскурса в англо-
саксонский мир нам еще раз нужно переключить свое внимание на
юридическую теорию, а также на политическую теорию германского рейха.
Фердинанд Лассаль утверждает, что нормативная действительность
формально-юридической конституции зависит от материальной и
формальной (то есть социологической и юридической) степени адаптации
порядков действительности, установленных учредительной властью. Это
настоящая формирующая сила. Ее экстраординарность является
предварительной, а интенсивность излучается как имплицитный проект на
систему в целом. Имея в виду сопротивление реальных условий и размах,
проявленный учредительной властью, конституционный процесс можно
представить и изучить как промежуточную детерминацию между двумя
порядками реальности. Герман Геллер, другой критик, тяготеющий к орбите
тех юридических течений, близких к рабочему движению, доводит до конца
видение Лассаля. Здесь процесс учредительной власти становится
внутренним по отношению к конституционному строительству.
Первоначально учредительная власть придает динамизм конституционной
системе, а затем сама реформируется конституцией. Мы недалеки от того
момента, когда Рудольф Сменд сможет назвать конституцию «динамическим
принципом становления государства». Каким образом истоки учредительной
власти могут быть в конце аналитического процесса полностью поглощены
государством? Как возможно, что опосредование различных порядков
реальности завершается динамизмом, центрированным или, лучше сказать,
присваиваемым государством в качестве его внутренней сущности? Опять
же, здесь происходит нейтрализация учредительной власти. И хотя эти
авторы отрицают это, утверждая скорее, что эволюция государства также
предполагает прогрессивную реализацию ряда конституирующих норм,
определение, которое эти нормы принимают в реальном движении,
становится совершенно неопределенным. Государство показывает
имманентность учредительной власти как форму естественной эволюции.
Может ли конституционная история быть естественной историей? На
этот вопрос отвечают два крупных ученых двадцатого века: Макс Вебер и
Карл Шмитт. С проницательностью Вебер понял, что натуралистический
критерий недостаточен для того, чтобы сделать учредительную власть
имманентной конституированной (учрежденной) власти. Вместо этого Вебер
настойчиво подталкивает учредительную власть к противостоянию с
историко-социальной реальностью. По всему ядру его политической
социологии, где он определяет теорию типов легитимности, ясно, что для
Вебера учредительная власть находится между харизматической и
рациональной властью. Учредительная власть проистекает из первого —
новаторского насилия, а из второго — его учредительного инструментария.
Учредительная власть внезапно формирует позитивное право в соответствии
с новаторским проектом, обосновывающим парадигму рациональности.
Вебер развивает эту немецкую казуистику в своих исследованиях
русских революций 1905 и 1917 годов, которые были современными его
работам. Он прекрасно понимает сложность отношений между
иррациональностью и рациональностью, а также между коллективным и
индивидуальным, проходящими через учредительную фазу. При этом его
социологический формализм, по-видимому, не приводит к более
достоверным результатам, чем юридический формализм. Связывания
харизматической легитимации с рациональной легитимацией недостаточно,
чтобы позволить Веберу сформулировать оригинальную феноменологию
учредительной власти. Данная попытка терпит неудачу, потому что
методология Вебера остается основанной на фиксированной типологии,
типологии не столько формы производства, сколько фигур
непротиворечивости права и государства. Это уникальный случай
близорукости, как если бы для определения учредительной власти нужно
было обсудить проекции установленной власти или, что еще хуже,
последствия, извращенные эффекты учредительной власти. Учредительная
власть, так же как и харизматическая власть, должна рассматриваться как
отдельная категория. Они не обладают такой исторической
последовательностью, как другие типы легитимности. Они определяются
меняющимися практиками (хотя и чрезвычайно важными), а не конкретными
определениями. Это идеальные типы, пронизывающие все юридическое
устройство, имманентные, но, в конечном счете, эзотерические, странные и
экстраординарные. Отсюда позиция Карла Шмитта, претендующего на
понимание конкретности этого предела: конкретизация формальных средств
превращения его в абсолютный принцип конституции. Эта имманентность
настолько глубока, что на первый взгляд различие между учредительной
властью и учрежденной властью стирается, так что учредительная власть
предстает по своей природе как изначальная сила или контр-сила, как
исторически определенная сила, как совокупность потребностей, желаний и
единичных определений. На самом деле, однако, экзистенциальная матрица,
посредством которой определяется учредительная власть, с самого начала
отрывается, возвращается к абстрактным определениям насилия, чистого
события как добровольного возникновения власти. Абсолютная тенденция
основания учредительной власти становится циничным требованием;
подойдя очень близко к материальному определению учредительной власти,
Шмитт попадает в ловушку иррациональной сверхдетерминированности
концепции суверенитета, уже не чистой концепции силы, а власти.
Теперь мы подходим к последней позиции, которую мы собираемся
исследовать: к той, которая рассматривает учредительную власть как
интегрированную, учрежденную и сосуществующую с образованным
правом. Это, очевидно, точка зрения, поддерживаемая великими школами
институционализма двадцатого века. Позднее юридическая догматика
восприняла это положение в обобщенном виде. Каков же тогда
теоретический тезис, который, хотя и с многочисленными вариациями,
отстаивали эти авторы? Все они считают исторический институциональный
элемент жизненным принципом; Однако этот элемент далек от того, чтобы
быть чисто фактическим, он предвосхищается и признается исходным,
имплицитно конституируемым законностью (то есть законностью
позитивного права). Нормативный факт отрывается от своей
несущественности и привычных и органических характеристик, которые ему
приписывала традиция, и вместо этого понимается в терминах, которые — в
разной степени — изображают его как деятельность, из развития которой
исходит сама система.
Вместо этого во французских институционалистских работах мы
находим чрезвычайно высокую степень взаимопроникновения различных
элементов институционального производства. Это взаимопроникновение,
однако, кажется, с одной стороны, слишком ограниченным позитивностью
публичного права, а с другой — часто нарушаемым проникновением
импровизированных идеологий. У Мортати юридическая конституция
привита к социальной конституции, которая формируется набором групп и
сил: «Каждое общество, из которого возникает то или иное государственное
образование и с которым оно связано, обладает собственной внутренней
нормативностью, которая действительно создается его собственной
организацией вокруг политических сил или политических целей. Таким
образом, формальная конституция будет интерпретироваться,
пересматриваться и, возможно, изменяться на основе «материальной
конституции». Предел гибкости формальной конституции простирается
между силами, которые политически образуют общество и формируют
материальную конституцию посредством постоянных институциональных
компромиссов. То, что лежит в основе конституции и определяет ее
динамический аппарат, есть не основная норма, а непрерывное движение.
Как только мы сталкиваемся с этой весомой фигурой игры -
политических сил - как с материальной основой конституции, куда исчезло
изначальное и освободительное качество учредительной власти? Не могла ли
эта игра сил породить, как она действительно произвела, зловещие фигуры
тоталитарной власти? Куда делся этот намек учредительной власти на
демократию и на политику, формирующуюся по сценарию силы толпы? Где
ее творческий и неопровержимый характер? Конечно, юристы хотели
приручить этого дикого зверя, но здесь мы имеем перед собой уже
одомашненное животное, еще хуже, сведенное к механическому поведению
и к инертному повторению предустановленной социальной базы. Независимо
от того, является ли оно трансцендентным, имманентным или
сосуществующим, отношение, которое юридическая теория хочет навязать
учредительной власти, работает в направлении нейтрализации,
мистификации или, в действительности, приписывания бессмысленности.
Что, если бы не было другого пути? Что, если бы само условие
сохранения и развития правовой системы состояло в устранении
учредительной власти? Учитывая невозможность решения проблемы
учредительной власти с точки зрения публичного права, мы должны
рассмотреть эту проблему с позиции конституционализма. Здесь все проще.
С точки зрения конституционалистской и либеральной идеологии,
учредительная власть фактически подвергается огню критики и
институциональным ограничениям посредством анализа, который работает,
чтобы разоблачить (или так утверждается) любое суверенное требование
сообщества. Конституционализм позиционирует себя как теорию и практику
ограниченного правления: ограниченного юрисдикционным контролем
административных актов и, прежде всего, ограниченного посредством
организации учредительной власти законом.
Даже революции должны склоняться перед верховенством закона...
Учредительная власть, как высшая власть, должна узаконить себя, найдя
свое выражение через юридическую процедуру; этот первоначальный
исторический факт (учредительная власть) оправдывается не простым
послушанием, а тем юридическим способом, через который она
выражается, способом, который своей формализацией гарантирует
учредительную власть народа. Таким образом, весь учредительный процесс
регламентирован законом; и не существует ни нормативных фактов, ни
учредительной власти, которые на основе формы сумели бы заставить
подчиняться; нет и материальной конституции, реализуемой через
практику политического класса. Это потому, что Конституция - не акт
правительства, а акт народа.
Этот софизм устраняет в сфере конституционалистской мысли
возможность поступательного действия в определении учредительной
власти. Таким образом, с таким же успехом можно использовать данную
позицию, чтобы признать в учредительной власти (поскольку эта власть
противоположна конституционалистской идее сдержек и противовесов)
признак радикального выражения демократической воли. Фактически
практика учредительной власти была дверью, через которую
демократическая воля масс (и, следовательно, социальный вопрос) проникала
в политическую систему, разрушая конституционализм или, во всяком
случае, значительно ослабляя его. Конституционализм определяет
социально-политический порядок как взаимосвязанную совокупность либо
различных социальных порядков, либо различных юридических и
политических сил. Конституционалистская парадигма всегда относится к
«смешанной конституции», опосредованию неравенства, и поэтому она
является недемократической парадигмой. Напротив, парадигма
учредительной власти — это парадигма силы, которая разрушает, ломает,
прерывает, расшатывает любое ранее существовавшее равновесие и любую
возможную непрерывность. Учредительная власть связана с понятием
демократии как абсолютной власти. Таким образом, как насильственная и
всеобъемлющая сила, учредительная власть представляет собой концепцию,
связанную с социальной предконституцией демократической тотальности.
Это первоначальное и воображаемое измерение резко, сильно и надолго
сталкивается с конституционализмом. В этом случае история не обходится
без противоречий современности; на самом деле эта смертельная борьба
между демократией и конституционализмом, между учредительной властью
и теорией и практикой пределов демократии становится все более и более
заметной по мере дальнейшего развития истории. Таким образом, в
концепции учредительной власти имплицитно заложена идея о том, что
прошлое больше не объясняет настоящее и что это сможет сделать только
будущее. Как пишет Алексис де Токвиль: «Прошлое перестало освещать
будущее, и разум человека блуждает во мраке. Парадоксально, но эта
негативная идея, а не тысяча других мотивов, объясняет рождение
«демократии в Америке». Вот почему учредительная власть производит и
воспроизводит себя везде и постоянно. Требование конституционализма о
правовом регулировании учредительной власти является нонсенсом не
только потому, что он хочет разделить эту власть, но и потому, что он
стремится заблокировать ее временную конститутивность.
Конституционализм есть правовая доктрина, знающая только прошлое: она
постоянно обращается к прошедшему времени, к сплоченным силам и их
инертности, к укрощенному духу. Напротив, учредительная власть всегда
относится к будущему.
Учредительная власть всегда имеет особое отношение ко времени. В
самом деле, учредительная власть есть, с одной стороны, абсолютная воля,
определяющая свою временность. Другими словами, это важный момент в
секуляризации власти и политики. Власть становится имманентным
измерением истории, реальным временным горизонтом. Но этого
недостаточно: с другой стороны, учредительная власть также представляет
собой экстраординарное ускорение времени. История концентрируется в
бурно развивающемся настоящем, а ее возможности сгущаются в мощнейшее
ядро непосредственного производства. С этой точки зрения учредительная
власть тесно связана с понятием революции. А так как она уже связана с
понятием демократии, то теперь она позиционирует себя как двигатель или
кардинальное выражение демократической революции. И мы видим, как
такая власть принимает участие во всех механизмах — порой чрезвычайно
бурных, — которые пульсируют в демократической революции, колеблясь
между одним и многими, между властью и множеством, в очень быстром,
часто скачкообразном ритме. Что общего может быть в этом ритме
учредительной власти с пассивным, неактивным и традиционным временем
конституционализма?
Таким образом, не конституционалистский подход может помочь нам
решить проблему кризиса понятия учредительной власти. Здесь, однако, мы
должны спросить себя: учитывая глубокую двусмысленность, которую эта
теория (как юридическая, так и политико-конституционная) придает понятию
учредительной власти, не будучи в состоянии разрешить ее, не будет ли это
понятие фактически понятием кризиса? Не будет ли больше соответствовать
истине попытка лучше выявить значимые характеристики учредительной
власти, ее отрицательное содержание и ее неразрешимую сущность? Здесь
мы, вероятно, подошли к подлинной цели нашего исследования: прежде
всего, рассмотреть, какова действительная природа учредительной власти.
Если эта природа находится в кризисе (как показал наш анализ попыток
юридической или конституционалистской редукции), то мы должны, во-
вторых, рассмотреть место или границу, на которых такой кризис принимает
форму. В-третьих, мы должны исследовать, можно ли как-то преодолеть
предел (то есть нынешние условия кризиса, непревзойденные и в данный
момент непреодолимые). Короче говоря, если в истории демократии и
демократических конституций дуализм между учредительной властью и
конституированной властью никогда не приводил к синтезу, мы должны
сосредоточиться именно на этой негативности, на этом отсутствии синтеза,
чтобы попытаться понять учредительную власть. Прежде чем
сосредоточиться на этом вопросе, позвольте мне сделать одно
заключительное замечание о понятии представительства, которое мы с
самого начала рассматривали как один из основных конституционно-
правовых инструментов для контроля и разделения учрежденной власти.
Теперь, даже в конце этого экскурса, таинственная фигура представительства
вновь появляется в контексте развития учредительной власти. Возможно,
концепция демократического представительства неразрывно связана с
конституционализмом таким образом, что фундаментальные функции
последнего сохраняются в первом. С этой точки зрения кризис концепции
учредительной власти будет заключаться не только в ее отношении к
учрежденной (государственной) власти, конституционализму или любому
юридическому уточнению понятия суверенитета. Этот кризис коснется и
понятия представительства, поскольку, по крайней мере, с теоретической
точки зрения, на этой теоретико-практической точке происходит первичное и
существенное лишение силы и прав учредительной власти.
Абсолютная процедура, Конституция, Революция
Столкнувшись с кризисом понятия учредительной власти как
юридической категории, мы должны спросить себя, не следует ли — вместо
того, чтобы пытаться преодолеть кризис, как это безуспешно делает
юридическая мысль, — принять его, чтобы лучше уяснить суть данного
понятия. Принять этот кризис значит, прежде всего, отказаться от мысли, что
понятие учредительной власти может быть каким-то образом основано на
чем-то другом, взятом, т. е. взятом из своей собственной природы,
выступающей в качестве основы. Такой подход проявляется, как мы видели,
всякий раз, когда учредительная власть подчиняется представительству или
принципу суверенитета. Однако такой подход начинает проявляться уже
тогда, когда всемогущество учредительной власти ограничивается или
подчиняется целям конституционализма. Учредительная власть, говорят они,
может быть определена только как чрезвычайная (во времени) и только
может быть зафиксирована (в пространстве) единичным определением: она
рассматривается либо как нормативный факт, который считается
предсуществующим, либо как материальная конституция, которая
развивается вместе с ним! Но все это абсурдно: как может нормативный
факт, подтвержденный обычаем, отдать должное нововведению? Как может
заранее образованный «политический класс» быть гарантом новой
конституции? Попытка заключить учредительную власть в клетку
пространственно-временных ограничений уже была нежизнеспособна, но
любая попытка заблокировать данную власть, придав ей завершенность,
становится совершенно немыслимой. Можно попытаться минимизировать
влияние события, но точно нельзя заранее определить его инновационную
особенность. Эти логические перепалки, доведенные до абсурда, на самом
деле представляют собой мистификацию, которую юридическая теория и
практика стараются собрать и переформулировать в теории суверенитета и
представительства. Учредительная власть, ограниченная и завершенная,
удерживается, таким образом, внутри иерархической рутины
последовательного производства и концептуально реконструируется не как
причина системы, а как ее результат. Фундамент переворачивается, и
суверенитет как suprema potestas (верховная власть) сам становится
фундаментом. Но на самом деле суверенитет является вершиной, тогда как
учредительная власть является основой. Суверенитет является завершенным,
тогда как учредительная власть не завершена; суверенитет предполагает
ограниченность времени и пространства, тогда как учредительная власть
подразумевает разнонаправленную множественность времен и пространств.
Суверенитет - застывшая формальная конституция, тогда как учредительная
власть представляет собой ничем не ограниченный процесс. Все, в общем,
противопоставляет учредительную власть и суверенитет, даже абсолютный
характер, на который претендуют обе категории: абсолютность суверенитета
есть тоталитарная концепция, тогда как учредительная власть есть
абсолютность (неограниченность) демократического правления. Таким
образом, настаивая на понятии учредительной власти как абсолютного
процесса — всемогущего и всеобъемлющего, неограниченного и
незавершенного, — мы можем начать оценивать своеобразие структуры
учредительной власти. Но мы сразу же должны столкнуться с возражением:
чем может быть еще абсолютность, данная в этой форме, как не
абсолютностью отсутствия, бесконечной пустотой возможностей или, в
самом деле, наличием отрицательных возможностей? Мне кажется, что в
этом возражении неправильное понимание «отсутствия» усугубляется
непониманием понятия «возможности». Это возражение можно
опровергнуть. Если понятие учредительной власти есть понятие отсутствия,
почему это отсутствие должно приводить к отсутствию возможностей или к
наличию отрицательных возможностей? На самом деле, здесь мы касаемся
ключевого момента в метафизическом споре, споре, сосредоточенном на
вопросе о силе и ее отношении к власти. Метафизическая альтернатива в
определении силы, идущая от Аристотеля к Ренессансу и от Шеллинга к
Ницше, есть как раз альтернатива между отсутствием и властью, между
желанием и обладанием, между отказом и господством. Иногда эта
альтернатива закрыта, как это происходит, когда власть рассматривается с
самого начала как предсуществующий физический факт, как завершенный
порядок или как диалектический результат. В остальных случаях
альтернатива открыта. Большое течение современной политической мысли,
от Макиавелли до Спинозы и Маркса, развивалось вокруг этой открытой
альтернативы, которая является основой демократической мысли.
Конституция социального есть сила, основанная на отсутствии, то есть на
желании, а желание непрестанно питает движение силы. Человеческая сила
производит постоянное смещение желания и подчеркивает отсутствие, на
котором производится новаторское событие. Экспансия силы и ее
производительность основывается на пустоте ограничений, на отсутствии
положительных установлений, на этой полноте отсутствия. Учредительная
власть определяется как возникающая из водоворота пустоты, из бездны
отсутствия решимости, как совершенно открытая потребность. Вот почему
учредительная сила никогда не превращается во власть, и множество не
стремится стать тотальностью, а, скорее, набором особенностей, открытой
множественностью. Учредительная власть есть та сила, которая при
отсутствии завершенности демонстрируется как всемогущая и всегда более
экспансивная тенденция. Отсутствие предустановленных допущений и
полнота силы: это истинно позитивное понятие свободы. Всемогущество и
экспансивность также характеризуют демократию, поскольку они
определяют учредительную власть. Демократия – это одновременно
абсолютный процесс и абсолютное правительство, они не имеют границ.
Таким образом, попытка сохранить открытым то, что юридическая мысль
хочет закрыть, глубже познать кризис ее научного лексикона, не просто
делает доступным для нас понятие учредительной власти, но делает ее
доступным для нас как матрицу демократической мысли и практики.
Отсутствие, пустота и желание являются двигателями политико-
демократической динамики как таковой.
Ханна Арендт хорошо понимала эту истину об учредительной власти.
Она приходит к этому окольными путями, противопоставляя американскую
революцию Французской революции, но этот путь не менее эффективен, а
скорее тем сильнее, чем парадоксальнее. Тезис о двух революциях имеет
долгую историю. Он был разработан Фридрихом фон Генцем в его
предисловии к немецкому переводу книги Эдмунда Бёрка «Размышления о
Французской революции», но прежде всего он был популяризирован
сторонниками Джона Адамса против Джефферсона во время президентской
кампании 1800 года. Американская революция и Конституция, основанные
на уважении и развитии свободы, противостоят ужасным якобинцам,
революции как абстрактной и идеологической силе. Арендт принимает то же
самое понятие, но смещая, однако, его центральную ось, которая
представляет собой уже не противопоставление конкретного и абстрактного,
а противопоставление политической и социальной революции. Политическая
революция выходит за пределы социальной, не уничтожая ее, а, скорее,
создавая более высокий уровень понимания, равновесия и сотрудничества,
общественное пространство свободы. Социальная революция, и особенно
Французская революция, сводит на нет политическое, подчиняя его
социальному. Социальное, в свою очередь, предоставленное самому себе,
пусто вращается в поисках свободы, которая становится все более слепой и
безумной. Всякий раз, когда политическое не позволяет обществу понять
себя, артикулировать себя в понимании, глупость и ужас восторжествуют.
Оставим пока в стороне историческое суждение и вместо этого рассмотрим,
как принцип свободы оформляется в теории Арендт, ибо именно через это
понятие, отказываясь от традиции, она глубоко обновляет политическую
теорию. Конечно, революция — это начало, но современная история
начинается лишь тогда, когда из насилия и войны удаляется учредительное
начало. Только тогда учредительным принципом является свобода: «Таким
образом, для любого понимания революций в современную эпоху крайне
важно, чтобы идея свободы и опыт нового начала совпадали. Что же касается
нас, то, следуя нашим рассуждениям, мы хотим подчеркнуть, что это новое
определение конституирующего принципа основывается не на чем ином, как
на своем собственном начале и осуществляется только через свое
собственное выражение. Радикальное качество учредительного принципа
абсолютно. Оно исходит из пустоты и составляет все. Не случайно в этот
момент Арендт подводит итоги и с помощью очень богатого и жесткого
феноменологического упражнения начинает разрушать любое гетерономное
(и в особенности социальное) содержание публичного пространства, как его
конституирующий процесс, так и составляющих его акторов. Проблема
заключается в том, чтобы представить социальное как априорное, как
предшествующее конститутивному событию, и в том, чтобы
охарактеризовать социальное как предустановленный политический вопрос
(53 ff). Это происходит не только по историческим причинам: «Ничто... не
может быть более устаревшим, чем попытка освободить человечество от
нищеты политическими средствами; ничего не может быть бесполезнее и
опаснее» (110). Понятие учредительной власти есть учредительное событие,
коренной вопрос. Именно в этом пункте, в радикальной фундаментальности
политического бытия, Арендт сильнее всего. Учредительная власть,
поскольку она конституирует политическое из небытия, есть всеобъемлющий
принцип: она не оставляет места ни возмущению, ни сопротивлению; это не
эгоистично, а в высшей степени щедро; это не потребность, а желание.
Почему эти резко сформулированные положения, столь мощно
развернутые Арендт в обсуждении и определении учредительной власти,
оставляют нас в конце концов неудовлетворенными и даже неловкими? В тот
самый момент, когда она освещает природу учредительной власти, Арендт
делает ее безразличной в своей идеальности или двусмысленной в ее
исторической иллюстрации. Так, например, конститутивная феноменология
принципа оказывается совершенно консервативной. Постоянное воспевание
того факта, что свобода предшествует освобождению и что революция
реализуется в формировании политического пространства, становится
ключом к историцистской герменевтике, которая систематически сглаживает
или деформирует новизну события и ограничивает его американским
примером.
Аргумент Арендт становится еще более неадекватным, если мы
сосредоточимся на ее анализе динамики учредительной власти. Выбор
американской революции в качестве образцовой модели не только блокирует
онтологический процесс, но и удешевляет анализ политического аппарата.
Для Арендт Constitutio libertatis просто-напросто отождествляется с
историческими событиями американской конституции.
Хабермас разработал теорию, которую можно назвать
«переворачиванием тезиса о двух революциях». Другими словами, он
утверждает, что и Французская, и Американская революции вытекают из
специфических интерпретаций естественного права. Французская революция
рассматривает естественное право как идеал, который нужно реализовать,
тогда как американская революция рассматривает его как реальное
состояние, которое политическое вмешательство может только изуродовать.
Таким образом, конститутивная продуктивность политического всецело на
стороне Французской революции: это единственная современная революция.
Американская революция — это консервативная революция, идеология
которой домодернистская и корпоративная, а значит, антимодернистская и
антиполитическая.
На самом деле революции в Америке и Франции были совершенно
разными. Толкование революции было разным, поскольку в одном случае
необходимо было ex novo навязать концепцию естественного права
деспотической власти, в другом случае важно было высвободить спонтанные
силы саморегуляции, чтобы они согласовывались с естественным правом.
Отношение к государству тоже было другим: в Америке революционерам
приходилось сопротивляться колониальной власти, тогда как во Франции им
приходилось строить новый порядок. Наконец, политическая идеология была
иной, либеральной в первом случае и демократической во втором: в Америке
революция должна была привести в движение эгоизм естественных
интересов, тогда как во Франции она должна была мобилизовать
нравственные интересы. Следовательно, неверно, что во Французской
революции социальное подчиняло политическое, — наоборот, социальное
конституировалось политическим, и в этом превосходство Французской
революции. Учредительность противоположна консервативности. Таким
образом, отношения между обществом и государством, как они изложены в
двух естественно-правовых конституциях, радикально различны, даже
расходятся. Во Франции, и только во Франции, утвердился и полностью
определился учредительный принцип: в Декларации прав человека он тотчас
же стал актом конституционного основания нового общества. Должны ли мы
тогда сказать, что есть две конституции? Несомненно, но французская
конституция была конституцией будущего, прошедшей через всю историю
девятнадцатого века, связанная с историей рабочего класса и до сих пор
составляющая основу судебного устройства государства всеобщего
благосостояния.
Заявления Кэлхуна о том, что правительство (как учреждающий агент и
выражение сообщества) онтологически предшествует конституции и что
учредительный акт определяется как способность предписывать выбор
между войной и миром, навязывать возможные компромиссы, и, таким
образом, организовать конфедеративное публичное право в качестве
перемирия настолько интенсивны, что их можно связать, как поясняет
Арендт, чисто и просто с правом на сопротивление и организовать в рамках
конституционной процедуры. Право на сопротивление дает нам основную и
увлекательную точку отсчета. Это негативная власть par excellence, чью
прообразную силу едва ли можно исключить из истории современного
конституционализма. Право на сопротивление вместе с негативом выступает
в качестве радикального основополагающего выражения сообщества.
Процедура хорошо известна: человек добровольно становится
пленником софизма суверенитета, подчиняется традиционной рутине его
определения и таким образом создает ситуацию, в которой только
конституированная власть может оправдать конституционную власть.
Но неужели нет другого направления мысли, способного оценить
радикальность учредительной власти, не потопив ее в мещанстве
традиционной юридической теории?
Пытаясь ответить на этот вопрос, мы исходим из определенного
убеждения (которое мы попытаемся подтвердить исторически и
теоретически на протяжении всей этой работы), что истинность
учредительной власти — это не то, что может быть приписано ей каким бы
то ни было образом через понятие суверенитета. Этого не может быть,
потому что учредительная власть, очевидно, не является результатом
учрежденной власти, а также не является институтом учрежденной власти.
Это скорее акт выбора, точная детерминация, открывающая горизонт,
радикальный аппарат чего-то еще не существующего, условия
существования которого предполагают, что творческий акт в процессе своей
творческой деятельности не теряет своих характеристик. Когда
учредительная власть приводит в движение учредительный процесс, всякое
определение свободно и остается свободным. Наоборот, суверенитет
выступает как фиксация учредительной власти и, следовательно, как ее
прекращение, как исчерпание той свободы, которую несет учредительная
власть: oboedientia facit auctoritatem. Словосочетание «выражение силы»
никогда не может означать «институт власти». Но в тот самый момент, когда
устанавливается сила, она перестает быть силой и, таким образом, заявляет о
себе, что никогда таковой не была.
Есть только одно правильное (и парадоксальное) условие для
определения суверенитета, связанного с учредительной властью: суверенитет
существует как практика учредительного акта, обновленного в свободе,
организованного в непрерывности свободной практики. Но это противоречит
всей традиции понятия суверенитета и всех его возможных смыслов.
Следовательно, понятие суверенитета и понятие учредительной власти
находятся в абсолютной противоположности. Таким образом, мы можем
заключить, что если существует независимый способ развития концепции
учредительной власти, то он исключает любые ссылки на концепцию
суверенитета. Он опирается, скорее, на основу самой учредительной власти и
пытается вывести из нее и только из нее все конституционные последствия.
Попробуем еще раз измерить плотность понятия, сравнив его с
другими теоретическими положениями. Мы можем начать с важного и
непреложного утверждения: когда сила институционализируется, она
неизбежно отрицается. Этим утверждением мы вступаем в полемику с
институционализмом, и в особенности с самыми изощренными формами,
которые он принял в последнее время. Вместо этого мы должны разъяснить,
что учредительная власть, с точки зрения ее изначальной радикальности, не
может быть удовлетворительно понята как формальный процесс
конституирования (учреждения) свободы. Это не жизненный порыв, который
реализуется в институциональности; это также не слияние воль, которое,
подобно перегретому металлу, застывает в конституционной фигуре.
Активными элементами являются скорее сопротивление и желание,
этический порыв и созидательная страсть, артикуляция чувства
недостаточности существования и глубоко энергичная реакция на
невыносимое отсутствие бытия. В этих элементах сила принимает форму
учредительной власти: не искать институциональности, а конструировать
большее бытие — бытие этическое, социальное бытие, сообщество. Еще раз
мы обнаруживаем чрезвычайно тесную и глубокую связь между
учредительной властью и демократией. Стремление к сообществу
(объединению) есть дух и душа учредительной власти — стремление к
сообществу, столь же совершенно реальному, сколь и отсутствующему,
траектория и двигатель движения, сущностью которого является требование
бытия, повторяющееся, давящее на отсутствие. Здесь мы заново открыли
связь между учредительной властью и абсолютной (неограниченной)
процедурой. Открытие заново этой связи позволяет нам по-новому взглянуть
на первоначальную радикальность данной концепции. Что означает
учредительная власть, если ее сущность не может быть сведена к
учрежденной власти, а должна быть понята в ее первоначальной
продуктивности? Это означает, прежде всего, установление непрерывной
связи между учредительной властью и революцией, тесной и круговой связи,
так что там, где есть учредительная власть, есть и революция. Ни
учредительная власть, ни революция никогда не прекращались, если они
были внутренне связаны. Это представление возвращает нас к историческим
истокам концепции учредительной власти. Данный термин, вероятно,
впервые был введен во время Американской революции, но относится он к
развитию политической мысли эпохи Возрождения с пятнадцатого по
восемнадцатый век как онтологическое понятие формирующей способности
исторического движения. Даже когда идея революции кажется подчиненной
силе звезд или необходимости Полибийского цикла политических режимов
— «Я видел в революции круговое движение» — и тогда оно составляет «le
fon mobile de la science humaine», основу новой науки, конституирующей
историю.
После 1789 года революция и учредительная власть выходят на
великую сцену истории и современной мысли как неотъемлемые
характеристики преобразующей человеческой деятельности. Говоря о
революции, мы говорим об учредительной власти. Фигуры восстания,
сопротивления, преобразования, созидания, конструирования времени
(ускоренного, запрограммированного, расширенного времени) и изобретения
закона связаны в этом синтезе. Революция необходима, так же необходима,
как человеческая потребность быть нравственным, этически конституировать
себя, освобождать тело и разум от рабства, и учредительная власть является
средством для достижения этой цели. С этой точки зрения отношение между
революцией и правом, между революцией и конституцией становится
неразрывным, в котором то, что выходит за пределы рационального,
представлено революцией. Закон и конституция следуют за учредительной
властью: учредительная власть придает закону рациональность и
содержание. Учредительная власть выступает, как революционное
расширение человеческой способности конструировать историю, как
фундаментальный акт новаторства (нововведения) и, следовательно, как
абсолютная процедура. Процесс, начатый учредительной властью, никогда
не останавливается. Вопрос не в ограничении учредительной власти, а в том,
чтобы сделать ее неограниченной. Единственно возможная концепция
конституции — это концепция революции: именно учредительная власть, как
процедура, является абсолютной и неограниченной.
Кондорсе приближается к этому понятию, когда в 1793 году определяет
«loi Revolutionnaire» как «закон, который запускает, ускоряет и управляет
ходом революции, тем самым понимая, что закон придает форму временному
течению революции и активно конструирует себя на своей модальности.
Декларация прав человека 1793 года повторяет эту концепцию, когда
рассматривает права граждан как действующие в конституционной схеме и
признает в этой деятельности двигатель социал-демократии. Маркиз де Сад
согласен, когда с дальновидной жестокостью подстрекает своих читателей к
тому «необходимому восстанию, в котором республиканец постоянно
держит правительство, членом которого он является. В этом контексте
неудивительно, что в 1789 году, в разгар контрреволюционной кампании,
Иммануил Кант предложил рассматривать революцию как воспитательный
процесс и как культурное действие, имеющее широкое и глубокое
воздействие на всю человеческую среду, процесс, который образует
«общность целей». Паутина из тысячи нитей определяет исходную
радикальность учредительной власти. Однако связность переплетения всегда
находится в опасности. Извращенные институциональные или формальные
определения накладываются на понятие и, как в случае Арендт, лишают его
той радикальной онтологической открытости, которая придает ему форму.
Как можно представить себе эту радикальность? Как узнать ее в истории и
праве, избегая ложного пути? Карл Шмитт, который, несмотря на нелепость
результатов, поставил этот вопрос с необычайной остротой, отсылает нас к
Спинозе. Я тоже убежден, что философия Спинозы позволит построить
первую схему понятия учредительной власти и оградить ее от недоразумений
и мистификации. Попытка теоретизировать «причинность, объясняющую
воздействие всего на его части и воздействие частей на все» делает Спинозу
«единственным или почти единственным свидетелем» теория тотальности
без замыкания, учредительной власти без ограничений.
От структуры к субъекту
К этому моменту у нас накопился ряд проблем. Перед нами
продуктивный (производящий) источник прав и правовых устройств,
который отказывается закрыться и упорно повторяет свои претензии перед
лицом попыток юридической теории и политической философии
зафиксировать его в окончательной форме.
Кажется, что проблемы, стоящие за столом переговоров, не могут быть
решены, кроме как через вмешательство силы, способной посредничать в
радикальности учредительной власти. Эта сила должна быть способна
интерпретировать структуру, когда эта структура представлена как
абсолютная процедура, как постоянно актуализирующаяся сила, но, тем не
менее, положительно укорененная в реальности. Адекватный ответ на
вопрос, который мотивирует мое исследование, будет найден путем
определения силы, соответствующей структуре, и субъекта, адекватного
абсолютной процедуре. Таким образом, проблема учредительной власти
становится вопросом о построении конституционной модели, способной
поддерживать в движении формирующую способность самой учредительной
власти: это вопрос определения субъективной силы, адекватной этой задаче.
Если этот субъект есть субъект абсолютной процедуры, то
недостаточно поставить вопрос о субъекте, поставленный учредительной
властью. В юридической теории этот вопрос возникает всякий раз, когда
утверждается добровольный характер права и должен быть раскрыт субъект
этой воли. Поставленный в этих терминах поиск носит слишком общий
характер, поскольку он не настаивает на логически адекватных отношениях
между субъектом и структурой. Однако история юридической мысли дает
ряд примеров, близких к этой цели. Мы должны изучить их более
внимательно.
Первая гипотеза: рассматриваемым субъектом является нация. Это
понятие, на первый взгляд, кажется особенно подходящим для понятия
абсолютной процедуры, за исключением того, что, с одной стороны, это
родовое понятие, реальное только посредством воображения (и,
следовательно, неопределенно поддающееся манипулированию); с другой
стороны — это понятие, часто имеющее функцию разрыва и ограничения
конститутивного (учредительного) процесса. Родовая концепция нации
(результат сложной игры этнического детерминизма, исторических
суждений, политической необходимости, юридических требований, но
прежде всего сильной натуралистической сверхдетерминированности)
производит полисемию, которая допускает софистические интерпретации
понятия и его инструментальное использование на практике. Последняя
концепция, относящаяся к историческим детерминациям, приводит в
движение конституционную динамику, которая не только не открывает
процессуально отношения между субъектом и конституционной структурой,
но гипостазирует и блокирует их.
Вторая гипотеза, направленная на установление адекватного
отношения между субъектом и структурой (в динамическом смысле),
рассматривает субъект как народ. Однако понятие «народ» не менее общее,
чем понятие «нация». Это определение также вскоре становится жертвой
механизма юридической характеристики. Родовая сущность понятия
перечитывается в конституционном ключе: если «народ» является субъектом
учредительной власти, то он может быть таковым только постольку,
поскольку он сначала претерпевает организационный процесс, способный
выразить его сущность. В самом деле, представить себе и, прежде всего,
принять в качестве научного предмета «упорядочивающую силу, которая
может быть упорядочена множеством без порядка», было бы противоречием
в терминах. Эта концепция действительно выходит за рамки ограничений и
натуралистических и органических мистификаций идеи учредительной
власти как атрибута нации. Теоретическое желание устранить
двусмысленность нации вполне понятно. Не менее очевидно, однако, и
желание сломить экспансивную силу концепции учредительной власти. Тот
факт, что любое определение конституирующего субъекта в терминах народа
сводится к нормативистскому пониманию и воспеванию установленного
закона, является не случайностью, а необходимостью. Эта нормативная
концепция смешивает учредительную власть с одним из внутренних
источников права и динамикой его пересмотра, его конституционного
самообновления. Короче говоря, учредительная власть - это народ только в
контексте представительства.
Третья гипотеза: учредительная власть как субъект уже материально
определена юридическими механизмами, присущими ее структуре, и сама
учредительная власть есть множество юридических властей, находящихся в
исключительном отношении — так что элементы юридического
посредничества всегда обязательно предполагаются. С этой точки зрения,
эклектичной, но все же действенной, возможность того, что учредительная
власть представлена как абсолютная процедура, с самого начала устраняется
или трансформируется. Дело здесь не в том, чтобы настаивать на
исключительности исторического определения всякого возникновения
учредительной власти, а в том, чтобы представить это определение как
непреодолимый предел, как материально обусловленное самоограничение.
Юридическая теория стала умнее. Она не отрицает учреждающей силы, но
утверждает о ее исключительности (уникальности). Однако она
рассматривает учредительную власть не как процесс и ненадежную
онтологическую настойчивость, а, скорее, как ограничение. Ограничение
ставится а-ля Гегель как определение. Посредничество и компромисс
предполагаются внутри учредительной власти как субъекта, лежащего в
основе материальной конституции, — не вне ее, а внутри нее: в этом
заключается действенность мистификации. На самом деле это вопрос
мистификации, потому что проблему учредительной власти нельзя решить,
сделав сингулярность пределом ее абсолютного характера — временным,
пространственным и процедурным пределом. Тот факт, что абсолютный
характер учредительной власти заключается в ее единственности,
совершенно очевиден, но проблема именно в этом, а не в чем-то другом.
Здесь мы могли бы рассмотреть другие теории, пытающиеся связать
учредительную власть с абсолютной процедурой, чтобы приручить первую,
но в действительности они не сообщат нам ничего нового. Более интересно
отметить, что отрицание в абсолютных терминах адекватного отношения
между субъектом и процедурой является фигурой метафизического
отрицания, то есть отрицанием того факта, что множественность может быть
представлена как коллективная единичность, что множество может стать
единой и упорядочивающей силой, что это отношение (открытое и
невозможное довести до конца) между субъектом и процедурой может быть
реальным и эффективно конституировать реальную темпоральность.
Наоборот, любое формирование власти должно быть конституировано вне
этого человеческого контекста — божественностью или каким-либо иным
идеальным сверхдетерминированием, в трансцендентности или
трансцендентальности. Отрицание адекватного отношения между субъектом
и структурой, таким образом, всегда заложено во внешней и ипостасной
фигуре для оправдания власти. Радикальность учредительной власти в
действительности нельзя отрицать, а здесь она просто отрицается в
принципе. Однако недостаточно разоблачить и осудить метафизическую
пристрастность позиций, рассматривающих учредительную власть
трансцендентальным образом, чтобы решить нашу проблему, проблему
абсолютного характера учредительной власти. Осуждение и разоблачение не
может заменить конструктивный аргумент. Таким образом, мы должны еще
раз обозначить проблему адекватного отношения (связи) между субъектом и
абсолютной процедурой.
Мишель Фуко, несомненно, был тем, кто добился наиболее
существенного прогресса в определении концепции власти, которая в своем
отношении к субъекту допускает конструктивные измерения и абсолютные
открытия. У Фуко человечество предстает как совокупность сопротивлений,
высвобождающих (вне всякой завершенности, не являющейся выражением
самой жизни и ее воспроизводства) абсолютную способность к
освобождению. Жизнь освобождена в человечестве и противостоит всему,
что ее окружает и сковывает. Здесь нужно подчеркнуть, что отношения
между субъектом и процедурой свободны. Другими словами, после
демонстрации того, как власть может поработить человечество до такой
степени, что оно будет функционировать как винтик тоталитарной машины
(мы могли бы согласиться с использованием этого специфического термина
«тоталитаризм»), вместо этого Фуко показывает, как учредительный процесс,
протекающий через жизнь, биополитику и биовласть, имеет абсолютное (а не
тоталитарное) движение. Это движение абсолютно, потому что оно
полностью свободно от определений, не являющихся внутренними для
действия освобождения.
Исходя из этой точки зрения, которая позволяет нам обосновать вопрос
об учреждающем субъекте, Фуко позволяет нам пойти еще дальше.
Действительно, он показывает нам, что субъектом является, во-первых, сила,
производство. Конечно, субъекта можно свести к чистому фантому, остатку
тотальности системы вытеснения. Но какой продуктивной данная сила
остается даже в этой ограничительной плоскости и в заточении внутри этих
механизмов! Она продуктивна, потому что на этом пределе субъект
возвращается в себя и заново открывает там жизненное начало. Во-вторых,
помимо силы, субъект есть также действие, время действия и свободы,
собрание — открытое, потому что никакая телеология не обусловливает и не
предвосхищает его. Фуко критически осуществляет процесс расчленения
реального, а затем конструктивно вновь открывает процесс, предполагающий
расчленение как положительное условие. То, что было путем через
необходимость, открывает путь процессу свободы. По сути, это тот же самый
процесс, который мы находим у Спинозы. В-третьих, Фуко развивает
парадигму субъективности как место перекомпоновки сопротивления и
публичного пространства. Здесь перед нами фигура субъекта, формально и
методологически обладающая характеристиками, адекватными абсолютной
процедуре. По сути, этот субъект — есть сила, время и конституция: это сила
создания конститутивных траекторий; это время, которое ничем не
предопределено; таким образом, это особая конституция. Когда эта критика
разрушила границы учрежденной власти, она идентифицирует себя как
онтологическую силу, учредительную власть, способную производить
абсолютные результаты. Политическое здесь есть производство,
производство по преимуществу, коллективное и не телеологическое.
Нововведение составляет политическое; конституция не может не быть
постоянным нововведением. Абсолютность ни в коем случае не является
тоталитаризмом. Последнее не является необходимым следствием первого,
но это обвинение возникает всякий раз, когда священные принципы
либерализма не прославляются (не возвеличиваются), и поэтому требует
нашего внимания. Если наш «адекватный субъект» никак не связан с
либеральными принципами или, вернее, если он в чем-то им противоречит,
то он не обязательно должен быть по этой причине тоталитарным. Уравнение
«отказ от либеральных принципов равнозначно тоталитаризму» является
уничижительным и мистифицирующим. Оно основано на традиции
современной мысли, которая предполагает, что права человека основываются
на договорном подходе (контрактуализм). Контрактуализм же не может быть
основанием прав человека, не может дать им той материальной и
имманентной основы, той мирской абсолютности, которая является
единственной гарантией самих прав.
Перспектива учредительной власти подвергает нападкам
контрактуалистскую позицию и признает в ней неизбежное отступление от
трансцендентности, к установленной власти и ее апологии. С другой
стороны, другая традиция современной метафизики, от Макиавелли и
Спинозы до Маркса, рассматривает развитие динамики учредительной
власти как абсолютное, но здесь эта абсолютность никогда не становится
тоталитарной. У Макиавелли и Спинозы сила выражается и питается
раздором и борьбой; у обоих авторов процесс простирается между
единичностью и множественностью, а построение политического есть
продукт постоянной инновации. То, что у Макиавелли связано с анализом
народных движений и конфликтности республик, у Спинозы развивается в
высокую метафизику. И именно когда мы силу сравниваем с метафизическим
абсолютом Спинозы, утверждение о подталкивании учредительной власти, ее
процедуры и ее субъекта к тоталитаризму (даже в качестве гипотезы)
становится нелепым. Действительно, существует тоталитаризм, в котором не
раскрыта загадка учредительной власти, где ее мощная эффективность
(продуктивность) отрицается или мистифицируется в учрежденной власти и
где отвергается радикальность ее метафизической силы и коллективного
желания. При отсутствии желания политическое становится дисциплинарной
тотальностью, тоталитаризмом. Однако ни у Макиавелли, ни у Спинозы
революционный процесс, воплощающий и устанавливающий конституцию,
не представляет себя завершением; скорее, он всегда открыт как во времени,
так и в пространстве. Он течет так же мощно, как свобода. Это в то же время
сопротивление угнетению и построение сообщества; это политическая
дискуссия и терпимость; это народное вооружение и утверждение принципов
посредством демократического изобретения. Учредительный абсолют и
демократический абсолют не имеют ничего общего с тоталитарным
пониманием жизни и политики. Этот абсолют, который строит социальное и
политическое вместе, не имеет ничего общего с тоталитаризмом. Таким
образом, политическая философия снова находит свое достоинство и свои
основные отличия в метафизике — с одной стороны, в идеалистической
метафизике, которая от Гоббса до Гегеля порождает трансцендентальное
понятие суверенитета; с другой стороны, в историческом материализме,
который развивает радикальную концепцию демократии от Макиавелли до
Спинозы и Маркса. В этих рамках становится очевидным, что
противоположностью демократии является не тоталитаризм, а сама
концепция суверенитета, и теперь ясно, что концепция демократии — это не
подвид либерализма или подкатегория конституционализма, а «форма
управляемости», которая стремится уничтожить учрежденную власть,
процесс перехода, который освобождает учредительную власть, процесс
рационализации, который обеспечивает «решение загадки каждой
конституции».
Таким образом, мы достигаем поворотного момента, когда мы можем
проверить то, о чем мы до сих пор спорили, то есть, где мы можем
подтвердить наше утверждение о том, что мы идентифицировали, по крайней
мере формально, образ субъекта, который позволяет нам адекватно
поддерживать концепцию конституции, как абсолютной процедуры. Мне
кажется, что эта формальная фигура должна теперь столкнуться с
действительностью, с историей субъектов и конституций, с жизнью и
политикой.
Для начала давайте снова рассмотрим характеристику между
формальным и материальным, уже приписываемую нашему субъекту, а
именно временность. Наш субъект есть и не может не быть темпоральным
субъектом, временной учредительной силой. Тем не менее, перед нами снова
открываются два пути. С одной стороны, темпоральность возвращается и
смешивается в бытии, освобождается от элементов, из которых она состоит,
и потому сводится к мистицизму, короче говоря, необходимо коренится в
твердом принципе, который есть отношение бытия к самому себе. С другой
стороны, темпоральность может быть укоренена в производительной
способности человека, в онтологии его становления — открытой, абсолютно
конститутивной темпоральности, которая не раскрывает Бытие, а производит
сущее.
Перечитывание мысли Маркса в этом контексте может позволить нам
продвинуться вперед в определении материально адекватного отношения
между конституирующим субъектом и абсолютной процедурой. Марксова
метафизика времени гораздо более радикальна, чем Хайдеггеровская. Время
для обоих — вопрос существа. Социальное время — это аппарат, с помощью
которого мир квалифицируется.
Давайте сосредоточимся, таким образом, на Марксе, на решающем
пункте, где пересекаются критика власти и критика труда, потому что это то,
о чем мы говорим, и именно в этом ключе развиваются противоречия
истории учредительной власти. На этой проблеме решается определение
учредительной власти, когда мы переходим от понятия к действительности.
Конечно, путь Маркса долог. От критики идеологии до критики власти и
критики труда рассыпается огромное количество теоретических инициатив.
Начнем со «Святого семейства» и «К еврейскому вопросу» 1844 года.
Демистификация Марксом понятия равенства ведет здесь к критике труда,
или, лучше сказать, провозглашение прав человека ведет к открытию
всеобщности эксплуатации и частного присвоения, к разоблачению
индивидуализма и возвеличиванию общности рабочих. Политическая
эмансипация есть не что иное, как попытка вытеснить смысл бунтующего
импульса, юридическую ипостась социального статус-кво.
В «Немецкой идеологии 1845–1846 годов» учредительная власть
определяется дважды. В своей буржуазной формулировке оно есть
непосредственно классовое сознание, универсалия, которая своим
утверждением приспосабливает государственное устройство к требованиям
буржуазного господства и производительным потребностям разделения
труда. Учредительная власть также выражается как коммунизм: «Коммунизм
для нас не есть положение вещей, которое должно быть установлено, идеал, к
которому [должна] приспосабливаться реальность. Мы называем
коммунизмом реальное движение, уничтожающее нынешнее положение
вещей. Условия этого движения вытекают из уже существующих
предпосылок. Этот определяющий процесс приводит к дальнейшему
развитию: «Таким образом, теперь дело дошло до того, что индивидуумы
должны присвоить существующую совокупность производительных сил не
только для достижения самодеятельности, но и просто для обеспечения
самого своего существования. Это присвоение определяется, прежде всего,
присваиваемым объектом, производительными силами, развитыми до
тотальности и существующими только во всеобщем общении»; и
«присвоение этих сил само по себе есть не что иное, как развитие отдельных
мощности, соответствующие материальным орудиям производства.
Присвоение всей совокупности орудий производства именно по этой
причине есть развитие совокупности способностей индивидов. Далее:
«Только современные пролетарии, совершенно отрешившиеся от всякой
самодеятельности, в состоянии добиться полной и уже не ограниченной
самодеятельности, состоящей в присвоении всей совокупности
производительных сил и в постулируемом таким образом развитии
совокупности способностей».
Наш аргумент проследит концептуальное формирование
учредительной власти с исторической точки зрения, но не будет следовать
непрерывному процессу: скорее, он будет перемещаться между различными
гипотезами. В каждой из следующих пяти глав мы будем анализировать
конкретную фигуру формулировки понятия учредительной власти и ее
особой судьбы. У Макиавелли учредительная власть открывается сильной
диалектикой между добродетелью и удачей — диалектикой, которая
приводит в действие революционную авантюру Ренессанса.
ЭТО СТИХОТВОРЕНИЕ Макиавелли хотя и ничем не примечательно,
но знаменует начало, начало новой исторической эпохи, и вскрывает
проблему, проблему «мутации». Это исходное измерение мысли
Макиавелли.
«Первая декада» датируется «Ноябрьскими идами 1504 года», и
поэтому она была составлена через десять лет после спуска Карла VIII в
Италию. Он восходит к этой роковой дате и драматизирует ее в свете
событий всего десятилетия и, в частности, событий предыдущего, 1503 года,
которые стали свидетелями преемственности Юлия II и начала опалы
Валентино. Ирония ничего не отнимает у «мутации». На самом деле ирония
позволяет Макиавелли выражать ругательство и проклятия, которые в
противном случае были бы неуместны в публичных выступлениях
дипломата.
В своих личных сочинениях того же периода Макиавелли выражается
более откровенно. Джованни Ридольфи интенсивно пишет о «мутации»,
проявившейся в те годы; то, что он наблюдает, есть непрекращающееся
движение, абсолютное ускорение истории. Спустя пару лет, вновь обращаясь
к Ридольфи, Макиавелли вновь настаивает на радикальности происходящей
«мутации», на абсолютной случайности и шаткости ее смыслов и значений.
Существует мутация, «и этого хочет разум. Теория должна двигаться среди
событий, пишет Макиавелли Содерини (зима 1503–1504 гг.) фамильярным
тоном. Мы можем и должны смотреть вещам в лицо, воспринимать все их
артикуляции и держаться за «истину». «Истина», которую схватывает разум,
есть «мутация». Таким образом, первая структура истины — это «мутация».
Логика исторического времени целиком структурирована мутациями, но
является ли «истина» просто признанием этой логики? Является ли мутация
чем-то непреодолимым и неудержимым? Или, скорее, есть ли второе
определение истины, раскрывающее ее как возможность модификации этой
логики? Это второе определение существует, и оно заключается в силе или,
лучше сказать, в синтезе благоразумия и оружия.
Слова, которые следует сказать о лайве для присвоения денег, после
небольшого вступления и оправдания, выражают новое определение: «Все
города... управляемые абсолютным государем, аристократией или народом...
имели для своей защиты силу, соединенную с благоразумием, потому что
одного последнего недостаточно, а первое или не производит вещей, или,
когда они произведены, не поддерживает их». Таким образом, оружие и
правосудие составляют вместе средство существования власти и
эффективности системы, авторитет Синьории. «Изменения царств, разорение
провинций и городов» зависят от этого отношения.
Таким образом, флорентийская Синьория должна удовлетворять эти
потребности, и, поскольку судейство изобилует, она должна уделить
неотложное внимание вопросу об оружии. Синьория должна извлечь уроки
из того, что произошло в предыдущие годы в Ареццо и Вальдикьяне.
Республика не должна полагаться на чужие армии, армии Валентино или
короля Франции, а, скорее, непосредственно обеспечивать свою собственную
армию. И граждане должны сами внести свой вклад, если они хотят свободы.
Уже в начале мутации 1494 года мы увидели, что можем
сопротивляться и обратить цикл вспять. Когда итальянцы временно
отложили в сторону свои разногласия и вооружились, «была известна
правда / что французов можно победить». А для Синьории, крикнувшей
между страхом и надеждой, терпящей всю неуверенность в плавании по
коварному морю итальянской «мутации», «путь был бы легок и краток / если
бы еще раз открыть храм Марса. Итак, истина и оружие: с одной стороны,
истина как размышление о мутации, а с другой стороны, истина как действие
на мутацию. Другие сказали бы: «оружие критики и критика оружия». Но
даже этого недостаточно. Концепция мутации более сложна. Он
устанавливает логику времени на онтологическом горизонте плотной,
разнонаправленной и изменчивой материальности. Если понятие мутации,
которой мы подвергаемся, вписано в натуралистическую логику, то мутация,
на которую мы воздействуем, также будет таковой. Наоборот: если мы
изменим точку зрения и придадим мутации, на которую воздействуем,
гуманистический оттенок, то и мутация, которая над нами господствует,
должна иметь тот же смысл. В этом ракурсе логика времени проявляет свою
поливалентность, многогранность и свободу. Мы движемся внутри этой
целостности и живем в динамике этой тотальности. Это третье определение
«истинного».
Есть множество потрясающих примеров теоретико-практической
перспективы Макиавелли, обращенной как внутрь, так и вовне его
собственной современной истории. Давайте рассмотрим его анализ того, как
происходит мутация в «Послании к императору Максимилиану».
Макиавелли следует за двором Максимилиана через австрийские,
швейцарские и итальянские Альпы. Он наблюдает и описывает швейцарскую
форму демократической организации и, прежде всего, их военную технику.
Затем он рассказывает о Максимилиане и о том, как формируется его проект.
Таков генезис мутации, но как он сложен! Полуфеодальные имперские
традиции и весьма современные формы вооружения сочетаются самым
различным образом. Демократические швейцарские конституции отводят
себе место в Империи и, тем не менее, представляют собой ядро
императорской армии. Мутация и новое пересекают, восстанавливают и
преображают природу и историю. Когда мутация глубока, она проявляется
как оригинальная практика, которая обновляет и изменяет традицию.
Другой пример на менее экзотической и более знакомой территории
можно найти в «Рассуждении о перестройке правительства Флоренции по
просьбе папы Льва X», написанном в 1520 году на зрелой стадии мысли
Макиавелли. Здесь размышления о мутации занимают центральное место.
Неустойчивость флорентийских институтов на протяжении всего
пятнадцатого века объяснялась тем, что выбор между княжеством и
республикой так и не был сделан. То, что эта нерешительность не привела к
разорению и катастрофе, объясняется внешними опасностями, которые
периодически усиливали институты. Но в то время политическая ситуация
отличалась от нынешней ситуации. Флоренция была prima inter pares в
независимом национальном контексте, и уникальная конституция Медичи-
Синьории могла выжить только в этой чрезвычайно своеобразной ситуации.
После 1494 года ничто уже не может повториться. Мутация знаменует собой
невозможность вновь обратиться к старым формулам Медичи и в то же
время возможность, наконец, выбрать самую современную из фигур
правительства, Республику. Это, безусловно, была бы республика под
защитой Папы и конституция, в которой Медичи гарантировал ряд
полномочий, но это также была бы республика, которая принимает во
внимание универсальность граждан и побуждает их к широкому участию в
управлении государством. Следовательно, великая мутация, которая
произошла, может быть осуществлена. Новая конституция может обновить
практику и превратить Республику в тело гражданского опыта — институт,
соответствующий произошедшей мутации. Истина есть жизнь общего тела,
жизнь Республики.
Но это последнее определение еще нуждается в развитии, и путь этого
развития долог. В 1510-х годах Макиавелли ставит вопросы о мутации и о
том, как в нее вмешаться. Что такое мутация? Является ли это чистым и
простым историческим состоянием, сколь угодно плотным и многомерным,
но в сущности чем-то данным нам и пережитым нами? Если бы это было так,
сила мутации и ее новаторское измерение приветствовались бы с
безразличием. «Tamquam in profundum gurgitem ex improvise delapsus», — мог
предположить Макиавелли. Натурализм, который, казалось, был
видоизменен энергичным вмешательством практики, теперь кажется
перестроенным, и объективные факторы кажутся безразличными. Но это не
направление опыта и теоретических размышлений Макиавелли. Линия,
которую он проводит, движется от натуралистического горизонта к
исторической структуре. Мутация воздействует на структуру истории и
предлагает политическую реальность как вторую натуру. Возврат к
равновесию элементов, потрясенных кризисом и теперь перестроенных по
новой схеме, происходит по механизмам, столь же заряженным
естественностью и историчностью, по детерминациям, отмеченным
народными конфликтами, народными союзами и разъединениями,
накоплением опыта народов и князей. Следовательно, время есть материя, из
которой конституируются социальные отношения. Время – это субстанция
силы. Время — это ритм, в котором выбираются и организуются все
учредительные действия власти. Таким образом, главная теоретическая
операция Макиавелли состоит в том, чтобы рассматривать мутацию как
глобальную структуру, через которую проходит человеческая деятельность.
Но это действие само по себе является структурным. Оно простирается до
глобальности исторического горизонта, схватывает изменения времени и
доминирует над ними, придавая им смысл и значение. Другими словами,
Макиавелли конструирует научную функцию, которая вырывает мутацию из
судьбы и превращает ее в элемент истории; он отрывает историю от
прошлого и рассматривает ее как временной континуум; он вырывает время
из непрерывности и конструирует возможность сверхопределения судьбы.
Поскольку мысль Макиавелли окончательно преодолевает натурализм, она
модифицирует и гуманизм. Эта модификация состоит в отношении между
структурой и временем, которое определяет мутацию: отношение
чрезвычайно глубокое, глобальное и неразрывное, но всегда единичное,
активное и прерывистое. В этой вставке времени гуманизм становится
трагичным, а реальность предстает высшим импульсом к новаторству и
жизни. Истина измеряется этими размерами: истина имеет учредительный
характер.
У Макиавелли эта истина есть продукт Erlebnis. Действительно, годы
между 1502 и 1504 годами подарили Макиавелли, молодому флорентийскому
секретарю, необыкновенный опыт. Направленный ко двору Валентино, он
наблюдает за передвижениями герцога от имени Синьории. Его первые
отчеты носят осторожный тон и в основном касаются позиции Валентино.
Валентино утверждает, что получил безоговорочную поддержку короля
Франции и папы (солдаты от первого и деньги от второго), и поэтому он
просит у флорентийцев их дружбы и поддержки, то есть их союза.
Макиавелли наблюдает и сообщает обо всем этом. Он также замечает
созревание мести Валентино Вителлоццо Вителли и Оливеротто да Фермо и
ее кульминацию в их казни в канун Нового 1502 года. Наряду с местью
Макиавелли становится свидетелем побед Валентино в Урбино, Синигалье, а
затем в Перудже, возможно, в Сиене, в дополнение к Романье. По мере
развития действия Валентино участие Макиавелли становится все более
явным. Он предупреждает Синьорию, что уступает страсти Валентино, но
уступает, чтобы быть более полезным для самой Синьории. Действительно,
Макиавелли впервые обнаруживает практику княжеской власти в ее
непосредственности и беспокойстве: аппарат начинает проясняться. Уже в
своей предыдущей дипломатической миссии во Франции Макиавелли
продемонстрировал свои экстраординарные аналитические способности, и
все же разница в стиле между двумя миссиями поразительна. В то время как
первый сосредотачивается на объективном и готическом аспекте власти,
второй выдвигает на первый план ее субъективное и современное качество. И
с таким азартом! В чем же тогда секрет успеха Валентино? Как раскрыть
загадку создания власти? «Я выжидаю, устремляя взгляд на каждую вещь, и
жду своего момента» (Опер, 2:932). Это первая реакция: секрет заключается в
том, как Валентино ценит свое бытие во времени, свое политическое бытие.
Однако этого недостаточно для определения политического: политическое
предполагает рост напряжения, приостановку, ведущую к взрыву,
растяжение к существованию мощной сверхдетерминации, к разрушению
существовавших ранее порядков и симметрий. Когда месть Валентино
претворяется в жизнь, происходит инновация времени (Opere, 2:932-38):
заканчивается старое время, открываются новые планы завоевания,
определяются новые совпадения интересов и, следовательно, новые схемы
союза, новые горизонты враждебности. В целом новое выступает как
синхроническое утверждение, предвосхищающее новое диахроническое
движение (Opere, 2:956). Остановимся еще немного на размышлениях
Макиавелли. Оценивая приключение Валентино, он говорит нам, что
«правительство этого лорда с тех пор, как я здесь, покоилось только на его
удаче, причиной которой было твердое мнение, распространенное, что
король Франции поможет ему солдатами, а папа деньгами, то есть еще одна
вещь, которая работала на него не меньше, чем эта, а именно медлительность
его врагов в нажиме на него. Теперь враги больше не смогут причинить ему
никакого вреда! Время является главным героем в двух отношениях: с одной
стороны, у нас есть «задержка» врагов Валентино, то есть отсутствие
«добродетели»; с другой стороны, в отличие от промедления врагов, мы
имеем «безотлагательность» и «пунктуальность» действий Валентино.
Между этими двумя полюсами складывается определение «добродетели» и
«фортуны» как различных аппаратов схватывания времени, как
производителей субъективности в определенном временном ритме.
Политическое сконфигурировано как грамматика времени.
Описание метода, использованного герцогом Валентино в убийстве
Вителлоццо Вителли и Оливеротто да Фермо, сэра Паголо и герцога Гравина
Орсини, представляет собой построение грамматики власти. Как устроена
сила? Через темпоральную игру, которая проходит через реальность и
реорганизует ее в направлении нормативной конечности. Временная игра, на
первый взгляд, состоит из образцового обмана, обмана и насилия, но на
самом деле состоит из замедления или ускорения времени или долгого
молчания, зловещего ожидания, диких нападений, яростных неожиданностей
и безумия действия. Вот Валентино, преданный, изолированный,
собирающий и скрывающий свою силу, однако готовый и способный
взорваться во внезапной мести. Это поведение кошки, хотя и поддерживается
логикой временных траекторий, по которым он умеет вести переговоры. Вот
и снова герцог, одинокий и скрытый. Однако чтобы облегчить свое
сопротивление, а затем обратить вспять свою неудачу, герцог помогает
Франции в усилиях по отнятию Романьи от Венеции и попытке Папы
реконструировать территорию церкви и восстановить свою власть.
Валентино движется на этом фоне, работая над ним, решая его проблемы и
осваивая его возможности. Именно его воля к власти собирает эту
разреженную темпоральность, чтобы сделать из нее на самом деле — позднее
дистиллированную в политической лаборатории Макиавелли — непобедимое
оружие. Макиавелли показывает Валентино как единственного героя этой
истории. Он организатор государства, тот, кто переопределяет историческое
время и реорганизует его. Здесь начинает формироваться идея суверенитета,
которая больше ничем не обязана ни средневековому обычному праву, ни
контрактуализму. Что же касается воли Валентино, то она абстрагируется от
объектов, к которым она приложена, и, хотя и пересекая их, отрывается от
какой-либо цели, кроме собственной реализации как силы. Валентино может
хотеть чего угодно, настолько формален его взгляд и настолько тотально
погружен в реальность. Он полностью един с течением времени,
определяемым его действиями.
Весь сценарий, на котором очерчена фигура Валентино, становится
формальным, как бы поглощенным этим самым ясным светом. В то время
как в других странах, как говорит нам Макиавелли, сохраняются прочные
старые структуры, здесь архаические и средневековые элементы
политических конституций опрокидываются динамикой новой власти,
подобно подчинению старого новому. Эта диспропорция, эта диссимметрия
и даже простое различие эпох ведут к новой логике, новой пластике
изображения и научной трактовки. Подобно тому, как у Ариосто мифы и
легенды рыцарской эпохи перекомпоновываются в новую фантастическую
фигуру, знаменующую абсолютную новизну, так и у Макиавелли время
нововведений собирает и перекраивает всю политическую традицию.
Вам также может понравиться
- курсовая работа легитимностьДокумент27 страницкурсовая работа легитимностьroman komrovОценок пока нет
- курсовая работа легитимностьДокумент27 страницкурсовая работа легитимностьroman komrovОценок пока нет
- Vliyanie Konstitutsionno Pravovogo Regulirovaniya Na Legitimnost Gosudarstvennoy Vlasti V Sovremennoy RossiiДокумент11 страницVliyanie Konstitutsionno Pravovogo Regulirovaniya Na Legitimnost Gosudarstvennoy Vlasti V Sovremennoy Rossiij95swchxc4Оценок пока нет
- Мифы Государственно-бюрократического СознанияДокумент24 страницыМифы Государственно-бюрократического СознанияАлина ЦигикалоОценок пока нет
- Правовое Государство и Гражданское ОбществоДокумент34 страницыПравовое Государство и Гражданское ОбществоMadi SabyrtayevОценок пока нет
- дипломДокумент65 страницдипломMister JhonОценок пока нет
- TEORIAДокумент65 страницTEORIAMister JhonОценок пока нет
- дипломДокумент65 страницдипломMister JhonОценок пока нет
- Секция №2. Поладов Р.Документ4 страницыСекция №2. Поладов Р.poladovresul777Оценок пока нет
- лекция 11Документ7 страницлекция 11Cimnaz HuseynovaОценок пока нет
- Тема 3. Понятие и Сущность ГосударстваДокумент18 страницТема 3. Понятие и Сущность ГосударстваGabriel JackОценок пока нет
- ПолитологияДокумент10 страницПолитологияKasper JensenОценок пока нет
- 233862Документ28 страниц233862dsemikhatkavapsiОценок пока нет
- Лекции ОПМ СШАДокумент43 страницыЛекции ОПМ США3eddОценок пока нет
- политологияДокумент8 страницполитологияmaria7sukhorukovaОценок пока нет
- Реферат по историиДокумент9 страницРеферат по историиkeroan643Оценок пока нет
- PolitologiyaДокумент12 страницPolitologiyaАльфия ГазизоваОценок пока нет
- Вебер Политика Как ПризваниеДокумент51 страницаВебер Политика Как ПризваниеkeeniaОценок пока нет
- 6 Catalog R 101426Документ45 страниц6 Catalog R 101426Karina MaryОценок пока нет
- Тема 8. Государственный аппаратДокумент9 страницТема 8. Государственный аппаратGabriel JackОценок пока нет
- Сборник статей по бразильскому законодательствуОт EverandСборник статей по бразильскому законодательствуОценок пока нет
- Виды власти.Особенности политической и государственной власти.Документ2 страницыВиды власти.Особенности политической и государственной власти.usenbaeva elzadaОценок пока нет
- 240 0818Документ25 страниц240 0818salamОценок пока нет
- Психологія влади КонфісвхорДокумент67 страницПсихологія влади КонфісвхорДар'я МирзаОценок пока нет
- Konspekt Tema 1Документ20 страницKonspekt Tema 1Ilgar KarimovОценок пока нет
- теория права коллоквиумДокумент4 страницытеория права коллоквиумUser1222Оценок пока нет
- Г. Моска - Правлячий КласДокумент11 страницГ. Моска - Правлячий Клас85170880mОценок пока нет
- Bsd- Вводные Понятия ПраваДокумент14 страницBsd- Вводные Понятия ПраваAlexandru SpatariОценок пока нет
- SKO 3 124 2018 103-123 PartlettДокумент21 страницаSKO 3 124 2018 103-123 PartlettbagaturiaОценок пока нет
- Сущность права - общесоциальный и классовый аспектыДокумент13 страницСущность права - общесоциальный и классовый аспектыТиффаниОценок пока нет
- Сущность права - общесоциальный и классовый аспектыДокумент13 страницСущность права - общесоциальный и классовый аспектыТиффаниОценок пока нет
- Реферат по историиДокумент9 страницРеферат по историиkeroan643Оценок пока нет
- Pravovoe Gosudarstvo I Grazhdanskoe Obschestvo Problemy Vzaimodeystviya I FunktsionirovaniyaДокумент4 страницыPravovoe Gosudarstvo I Grazhdanskoe Obschestvo Problemy Vzaimodeystviya I Funktsionirovaniyashemyakin.aleksey9Оценок пока нет
- Concepte Fundamentale Tema 6Документ27 страницConcepte Fundamentale Tema 6Елена Бадарау-КорлатОценок пока нет
- Vasileva StatqqObrДокумент17 страницVasileva StatqqObrabdulloevmd7Оценок пока нет
- Правовое Государство - (9 Класс)Документ29 страницПравовое Государство - (9 Класс)Александра ПальговаОценок пока нет
- Trud Kak Osnova Razvitiya Obshchestva K Monitoringu 2017Документ8 страницTrud Kak Osnova Razvitiya Obshchestva K Monitoringu 2017TamerlanОценок пока нет
- Т. ПАРСОНС О ПОНЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬДокумент5 страницТ. ПАРСОНС О ПОНЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬАня ПавленкоОценок пока нет
- лекция 8Документ9 страницлекция 8Cimnaz HuseynovaОценок пока нет
- 184314Документ4 страницы184314adrian armanuОценок пока нет
- Урок - Политическая властьДокумент2 страницыУрок - Политическая властьvas.arissshОценок пока нет
- Сущность и Типы ГосударствДокумент12 страницСущность и Типы ГосударствJasonОценок пока нет
- Плотников Тема № 7 Политические режимыДокумент8 страницПлотников Тема № 7 Политические режимыКирик ЕвченкоОценок пока нет
- лекция 27Документ9 страницлекция 27Cimnaz HuseynovaОценок пока нет
- Юридический Колледж КНУ ИмДокумент5 страницЮридический Колледж КНУ Имzhayloobekov.06Оценок пока нет
- Александрова.Типология власти у Платона и Аристотеля. 75%Документ20 страницАлександрова.Типология власти у Платона и Аристотеля. 75%Алина РомановаОценок пока нет
- админостративное правоДокумент2 страницыадминостративное правоKasper JensenОценок пока нет
- конституционное право рефератДокумент31 страницаконституционное право рефератanaОценок пока нет
- реферат ЧиОДокумент19 страницреферат ЧиОКамила Канали кызыОценок пока нет
- Реферат на тему - Конституционный строй Российской Федерации -Документ19 страницРеферат на тему - Конституционный строй Российской Федерации -denis160498Оценок пока нет
- Курсовая работа по теме Понятие правоотношения как особого вида общественных отношенийДокумент27 страницКурсовая работа по теме Понятие правоотношения как особого вида общественных отношенийEdОценок пока нет
- Учебное пособие ТГПДокумент79 страницУчебное пособие ТГПsonicgovorОценок пока нет
- Concepte Fundamentale Tema 7Документ19 страницConcepte Fundamentale Tema 7Елена Бадарау-КорлатОценок пока нет
- "Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы они были одинаково подчинены законам" (Ж.Д.Аламбер)Документ1 страница"Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы они были одинаково подчинены законам" (Ж.Д.Аламбер)Мария ГлинскаяОценок пока нет
- Praktika PravovedenieДокумент8 страницPraktika PravovedenieKing LemurОценок пока нет
- ГОСУДАРСТВО КАК ОСОБАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯДокумент67 страницГОСУДАРСТВО КАК ОСОБАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯjimОценок пока нет
- Изначально понятиеДокумент7 страницИзначально понятиеdfbqq5rcbtОценок пока нет
- Диалектическая философия ГегеляДокумент2 страницыДиалектическая философия ГегеляAnn ZurОценок пока нет
- Философия все лекцииДокумент190 страницФилософия все лекцииmaksОценок пока нет
- Болевая функция соционикиДокумент5 страницБолевая функция соционикиsveta GacherОценок пока нет
- ПОРЯДОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИДокумент2 страницыПОРЯДОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИАлина ГербалиОценок пока нет
- Семистрочная мантра гуру ПодмасамбхавыДокумент4 страницыСемистрочная мантра гуру ПодмасамбхавыVladimirОценок пока нет
- Альбина Матрикс Матрица судьбы От А до Я Часть 1Документ93 страницыАльбина Матрикс Матрица судьбы От А до Я Часть 1Ева Изки93% (14)
- 2 Античная философияДокумент41 страница2 Античная философияТимур БидахметОценок пока нет