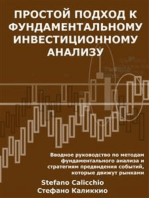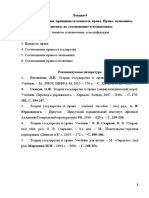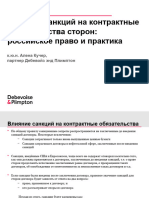Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Степанов Д И, Авдашева С Б Критерий эффективности в правовом регулировании
Степанов Д И, Авдашева С Б Критерий эффективности в правовом регулировании
Загружено:
pluxury baeОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Степанов Д И, Авдашева С Б Критерий эффективности в правовом регулировании
Степанов Д И, Авдашева С Б Критерий эффективности в правовом регулировании
Загружено:
pluxury baeАвторское право:
Доступные форматы
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
Дмитрий Иванович Степанов
доцент факультета права
НИУ «Высшая школа экономики»,
кандидат юридических наук, LLM, MPA
Cветлана Борисовна Авдашева
ординарный профессор факультета
экономических наук НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор экономических наук
Критерий эффективности в правовом
регулировании экономической деятельности
Настоящая работа посвящена центральной проблеме экономического
анализа права, а шире — любого политико-правового исследования:
что понимать под эффективностью правового регулирования. Речь в
статье идет о регулировании экономической деятельности, когда госу-
дарство, преследуя легитимные цели, навязывает участникам оборота
определенные нормативные модели поведения. Как оценить, эффек-
тивно ли конкретное политико-правовое решение с позиций экономи-
ческой логики? В статье детально рассматриваются понятие Парето-
улучшения, критерии эффективности по Парето и Калдору — Хиксу,
даются иллюстрации этих критериев на примере недавних реформ
гражданского законодательства. Кроме того, анализируются теорети-
ческие проблемы, связанные с применением каждого из обозначенных
критериев в рамках совершаемого политико-правового выбора. За-
вершает исследование обзор проблемных вопросов экономического
анализа права, связанных с рассмотренными критериями эффективно-
сти, а также обозначается исследовательская повестка для российской
юридической науки и экономического анализа права на будущее.
Ключевые слова: эффективность регулирования, Парето-эффективность,
эффективность по Калдору — Хиксу, политика права,
ценность в праве
88
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Dmitry Stepanov
Associate Professor at the Law Faculty of Higher School of Economics,
PhD in Law, LLM, MPA
Svetlana Avdasheva
Ordinary Professor at the Faculty of Economic Sciences of Higher School of Economics,
Doctor of Economics
The Criterion of Efficiency in Legal Regulation of Economic
Activities
This paper deals with a fundamental problem of any legal policy analysis research: how to assess
an efficiency of given legal rules or legal policy choice. Once the sovereign has introduced (or just
planning to introduce) legally binding rule the issue of efficiency for proposed solution becomes
a cornerstone one, then lawyers start speculating whether proposed rule is efficient or not from
economic standpoint. The paper explores concepts of Pareto-improvement, Pareto-optimality and
Kaldor-Hicks efficiency. These concepts are illustrated by some examples from recent Russian civil
legislation reforms. The paper concludes with an outline of several theoretical issues relevant to both
Pareto principle and Kaldor-Hicks efficiency which may affect applicability of those concepts within
policy choice.
Keywords: efficiency of regulation, Pareto efficiency, Kaldor-Hicks efficiency, legal policy, legal policy value(s)
Введение
Любой политико-правовой спор юристов всегда сводится к поиску оптимальной,
самой правильной, верной, наиболее эффективной правовой конструкции. При
этом каждая спорящая сторона приводит свой набор аргументов, почему имен-
но отстаиваемое ею юридическое решение является верным, а то и единственно
правильным и возможным. Рано или поздно такого рода споры приводят к об-
суждению вопроса эффективности правового регулирования или эффективности
права вообще: почему конкретное юридическое решение правильно? При этом от-
вет на данный вопрос лежит не только в области права как такового, но и в иных
сферах — этике, политическом процессе или экономике. В результате критерием
правильности юридического построения оказываются показатели, к праву, в об-
щем, не имеющие буквального отношения; правильность юридического начинает
оцениваться с позиций чего-то, что является неюридическим по сути. Наиболее
типичный пример — оценка юридической конструкции с позиций ее эффективно-
сти, обычно понимаемой как эффективность воздействия того или иного правила
поведения на участников имущественного оборота.
Учитывая, что эффективность правового построения — это ключевая тема любых
рассуждений, имеющих отношение к регулированию экономической деятельно-
сти, а споры о том, эффективно конкретное правило поведения или нет, занимают
основную часть всех политико-правовых дискуссий, необходимо, что называется,
89
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
договориться о понятиях. Цель настоящей публикации сугубо методическая: пока-
зать, что многие споры, которые ведут юристы, уже давно нашли вполне формали-
зованное объяснение в экономической науке, предложившей структурированное
знание, что такое эффективность в регулировании и как ее стоит измерять либо
оценивать. Более того, как будет показано ниже, многие юристы, даже не знако-
мые с экономической теорией, интуитивно применяют примерно ту же логику,
что коллеги-экономисты. Именно прояснению понятия эффективности — как
оно понимается применительно к политике права и правовому регулированию —
посвящена эта работа.
Общий подход к определению эффективности конкретной правовой конструк-
ции и правового регулирования вообще чаще всего основывается на интуитивно
понятном любому юристу показателе соотношения выгод и издержек. Если вы-
годы от введения или изменения правовой нормы превосходят соответствующие
издержки, предлагаемое изменение можно считать эффективным. Количествен-
ное сопоставление издержек и выгод от введения и изменения норм права — это
центральная идея анализа оценки регулирующего воздействия (ОРВ). При этом
ОРВ как процедура не только является признаком «лучшей практики» нормотвор-
чества, но и прямо предусмотрена действующим российским законодательством.
Применение ОРВ должно гарантировать, что введение новых правовых требова-
ний или ограничений не будет сопровождаться издержками для затронутых групп,
превышающими их выигрыши.
Типичная проблема при этом — измерение издержек и выигрышей, возникающих
в неденежной форме. Общим подходом в таком случае является поиск показате-
ля, который отражал бы альтернативную ценность искомой величины. Наиболее
типичным способом выступает отождествление выигрышей, которые получат
участники оборота, или затрат их времени с денежным показателем на основании
данных о том, какая стоимость может быть создана (или проще — какой доход мо-
жет быть получен) в течение часа времени: если от введения новой нормы права
субъекту придется потратить, к примеру, 3 часа на соблюдение таких требований,
то неполученный заработок такого лица за указанное время может быть отождест-
влен с издержками от введения нормы права. Денежная шкала в данном случае
может использоваться для оценки каких угодно благ, в том числе нематериальных,
даже ценности жизни и здоровья.
Определение адресата оцениваемого выигрыша немаловажно и в правовых, и в
экономических дискуссиях. Насколько то, что рассматривается как выигрыш для
отдельного лица или социальной группы от вновь вводимого правового регулиро-
вания, является выигрышем, т.е. улучшением, с точки зрения экономики в целом?
Как отделить чистое улучшение положения отдельной группы субъектов, которое
не сопровождается ухудшением положения других групп, от улучшения положе-
ния целевой группы за счет ухудшения положения других групп? И почему такое
разграничение важно? Как сопоставить улучшения, даваемые правом одним субъ-
ектам, и ухудшения, которые в связи с таким регулированием придется терпеть
другим? Именно в связи с подобными вопросами становится важным обращение
к сугубо экономическим подходам к измерению эффективности — таким, как кри-
терий эффективности по Парето и Калдору — Хиксу. Они отражают принципиаль-
но различные подходы к сопоставлению альтернативных вариантов распределе-
90
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
ния благ или прав собственности. Оба подхода для экономистов являются частью
нормативной теории, т.е. теории должного (нормативного анализа, в том числе
нормативного экономического анализа права), в противоположность теории по-
зитивной, объясняющей фактически происходящее (позитивный экономический
анализ права).
Последующее изложение разбивается на несколько частей: в первой дается общее
описание понятия Парето-улучшения и эффективности по Парето, во второй рас-
сматривается эффективность по Калдору — Хиксу; в третьей, завершающей, ча-
сти намечается исследовательская повестка для российской юридической науки и
экономического анализа права на будущее.
1. Критерии эффективности в экономической теории
и их приложение к праву
Вопрос эффективности того или иного юридического построения возникает лишь
тогда, когда конкретное построение сравнивается с чем-то, одно противопостав-
ляется другому. Эффективность в праве важна, когда обсуждается вопрос ста-
новления права, а не нечто, уже свершившееся: там, где обсуждается застывшая
правовая конструкция, например раскрывается логика правового регулирования
или идеи, заложенные в конкретную норму права, причем обсуждается некри-
тически, а описательно, позитивно, там нет места какой-либо серьезной оценке
эффективности. Напротив, если норма права, юридическая конструкция или це-
лый правовой институт оцениваются с позиций «как оно должно быть», то наи-
более распространенным вариантом обоснования «правильности» конкретного
политико-правового выбора, нашедшего отражение в такой норме права или ин-
ституте, являются ссылки на эффективность регулирования, т.е. апеллирование
к логике того, что конкретное юридическое решение оптимально с позиций регу-
лятивных целей и средств их достижения.
Ссылки на эффективность юридической конструкции, заложенной в норме пра-
ва, сопутствуют большинству политико-правовых дискуссий, а равно любых рас-
суждений, где присутствует элемент противопоставления наличного и должного
в праве, или ставшего и становящегося. Оценка эффективности предполагает рас-
смотрение права в динамике, а потому всякое юридическое построение с пози-
ций эффективности регулирования есть не более, чем моментальный снимок, от-
ражающий определенную правовую конструкцию. Однако ни одно юридическое
построение в таком случае не является чем-то, что может притязать на статус не-
преложной истины, ведь если есть потенциал для дальнейшего движения в праве с
целью улучшения правовой конструкции, то такое движение должно быть поддер-
жано как стремление от наличного к лучшему, от унылого сегодня к новому завтра.
Элемент движения, становления предполагает, что всякий критерий эффектив-
ности должен всегда рассматриваться как критерий улучшения, а потому понятие
эффективности идет рука об руку с понятием улучшения. Связь эффективности с
улучшением прекрасно иллюстрируется на примере наиболее известного концеп-
та эффективности, так называемой Парето-эффективности.
91
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
1.1. Эффективность по Парето
В последнее время в новейшей российской юридической литературе, главным
образом посвященной рассмотрению отдельных политико-правовых проблем
либо общих вопросов экономического анализа права, стало довольно часто ис-
пользоваться понятие «Парето-эффективность» и производные от него термины1.
Однако для более широкой юридической аудитории, к сожалению, данный кон-
цепт остается малопонятным, хотя многие юристы, когда рассуждают о более про-
грессивном, эффективном регулировании, зачастую имеют в виду нечто схожее с
ключевой идеей если не эффективности по Парето, то так называемого Парето-
улучшения. Хотелось бы в максимальной доступной форме разъяснить смысл этих
идей, чтобы у юристов появилось системное знание и научный аппарат, основан-
ный на многолетней научной традиции, пусть и созданной в сопредельной науке,
экономике.
Идея Парето-улучшения, ассоциируемая с именем ее создателя, экономиста
В. Парето2, сводится к тому, что улучшением следует признать такое перераспре-
деление благ, которое увеличивает полезность для некоторых целевых групп, не
снижая полезности для остальных участников распределения. Важнейшей частью
концепции улучшения по Парето является презумпция неухудшения положения ни
одной из сторон распределения.
Проиллюстрируем концепцию Парето-улучшения и связанного с ним равновесия
по Парето с помощью инструментов микроэкономики3. На рис. 1 отражена по-
лезность двух участников распределения (А и В) в отношении двух благ (X и Y)4.
Каждая точка отражает комбинацию распределения двух благ между участниками,
и каждой комбинации может быть присвоен уровень полезности. В соответствии
1
См., напр.: Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое
исследование. М., 2012. С. 46–58; Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 1.
М., 2012. С. 254–264; Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 122–126; Гаджиев Г.А.
Право и экономика (методология): учеб. для магистрантов. М., 2016. С. 163–165; Шмаков А.В. Экономи-
ческий анализ права. М., 2011. С. 105–108; Одинцова М.И. Экономика права. М., 2007. С. 32–34.
2
Luigi Amoroso, Vilfredo Pareto, 6 Econometrica, 1, 3–8 (1938).
3
Незнакомый с микроэкономическими моделями читатель может или пропустить дальнейшее изло-
жение до рис. 2, или обратиться к более подробному объяснению, напр.: Вариан Х. Микроэкономи-
ка. Промежуточный уровень: современный подход. М., 1997 (глава 28 «Обмен»). Можно обратиться
и к любому учебнику по микроэкономике. Тем не менее напомним основные используемые понятия.
Кривые безразличия объединяют все комбинации благ, обозначаемые Х и Y, приносящие потребителю
одинаковую полезность. Обмен Х на Y, не меняющий положения покупателя, графически отражается
перемещением вдоль одной и той же кривой безразличия. Более высокому уровню полезности соот-
ветствует кривая безразличия, лежащая дальше от начала координат (отражая тот факт, что увеличение
объема хотя бы одного блага при сохранении неизменного количества другого повышает уровень по-
лезности). Выпуклая форма кривых безразличия соответствует наиболее общему типу предпочтений
потребителя: для сохранения уровня полезности при небольшом количестве X его снижение следует
компенсировать значительным количеством дополнительных единиц блага Y, а с ростом X необходи-
мая величина компенсации, выраженная в единицах Y, снижается. Каждой точке в «коробке Эджвор-
та», представленной на рис. 1, соответствует отдельно взятая комбинация распределения благ X и Y
между участниками А и В. Началом координат для участника А стандартно является точка в левом ниж-
нем углу, а начало координат для участника В — точка в правом верхнем углу.
4
Два участника и два блага — это предпосылки, используемые только для простоты иллюстрации.
92
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
с уровнем полезности через каждую точку могут быть проведены кривые безраз-
личия — комбинации благ Х и Y, приносящие одинаковую полезность (U) участ-
никам распределения5.
XB
0B
UA1 UB1
YA
E2
Y
E1
YB
UB2
0A X
XA
Рис. 1. Коробка (ящик) Эджворта и Парето-улучшение
Примечание. Переход от распределения благ E1 к распределению благ E2 (участник А отда-
ет часть первоначально принадлежащего ему количества блага X в обмен на дополнитель-
ное количество блага Y) представляет собой Парето-улучшение. Другие варианты Парето-
улучшения представлены ядром — заштрихованной областью, ограниченной кривыми
безразличия участников, включающими первоначальное распределение E1.
Предположим, что карты кривых безразличия участников распределения А и В за-
даны и известны правотворцу, задумывающемуся о введении новой нормы пра-
ва. Сравним представленные на рис. 1 распределения E1 и E2. Распределение E1
предоставляет возможность Парето-улучшения — такого перераспределения X и Y
между А и В, что полезность одного из участников распределения повышается, в то
время как полезность другого по крайней мере не понижается. Участник А, согласив-
шись на снижение количества Х в обмен на дополнительное количество блага Y,
сохраняет прежний уровень полезности UA1, в то время как полезность участника В
при этом повышается с UB1 до UB2, что видно на рис. 1 (комбинация, принадлежащая
участнику В, сдвигается по направлению на юго-запад, дальше от начала его коор-
динат, что указывает на бóльшую полезность для него, чем прежде).
5
В соответствии с ординалистским подходом в теории полезности конкретное значение функции полез-
ности содержательного смысла не несет. Важно, что каждая дополнительная единица блага приносит
потребителю дополнительную полезность. Вот почему кривая безразличия, лежащая дальше от начала
координат, отражает более высокий уровень полезности для потребителя.
93
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
Важно заметить, что первоначальное распределение E1 допускает бесчисленное
множество вариантов Парето-улучшения. На рис. 1 все эти варианты находятся
в рамках заштрихованной области, называемой ядром, которая ограничена кри-
выми безразличия для участников распределения, соответствующими уровням
полезности UA1 и UB1. Читатель может самостоятельно убедиться, что существуют
такие варианты Парето-улучшения, которые увеличивают полезность А, но не В,
и наоборот (как изображено на рис. 1), а также что существуют варианты Парето-
улучшения, повышающие полезность обоих участников распределения одновре-
менно.
Распределение E2 называется Парето-эффективным (или Парето-оптимальным) —
оно не позволяет увеличить полезность ни одного из участников, не понизив по-
лезности другого участника. Парето-эффективных вариантов распределения бес-
конечно много. Иногда это множество называют границей, или фронтиром (от
англ. frontier) эффективных распределений (рис. 2).
UB
E2
E3
E1
UA
Рис. 2. Парето-фронтир
Примечание. Совокупность Парето-эффективных распределений называется границей эф-
фективных распределений, или фронтиром, отражая тот факт, что при заданной ограничен-
ности благ на фронтире нельзя увеличить полезность любого участника распределения, не
снижая полезности другого. Парето-улучшение по отношению к первоначальному набору
(сравним E1 и E3) необязательно достигает Парето-эффективности.
Каждой точке на границе эффективных распределений, или фронтире, соответствует
комбинация полезностей участников распределения А и В. Согласно определению
Парето-эффективности, находясь на границе, невозможно повысить полезность
одного участника распределения, не понизив полезность другого. Граница эффек-
тивных распределений позволяет проиллюстрировать идею о том, что не всякое
Парето-улучшение приводит к достижению Парето-эффективности.
94
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Движение в сторону границы эффективных распределений тоже может представ-
лять собой Парето-улучшение (например, на рис. 2 движение от распределения
E1 к распределению E3, хотя, как будет показано ниже, Парето-улучшение не яв-
ляется необходимым условием движения к границе эффективных распределений.
Если конкретное Парето-улучшение не достигает названной границы — фронти-
ра, то предлагаемое изменение, отраженное в норме права, будет является Парето-
улучшением, но не будет Парето-эффективным решением, поскольку не будет
достигнут предел в возможных улучшениях. Улучшений может быть великое мно-
жество, а вот число Парето-эффективных правовых решений на порядок меньше,
чем Парето-улучшений. Соответственно, любое политико-правовое обсуждение
в праве, если оно руководствуется критерием эффективности по Парето, должно
стремиться как минимум к поиску тех правовых конструкций, которые отвечают
названному критерию Парето-улучшения (получение неких выгод от новой нор-
мы права для одной группы или субъекта не должно порождать ухудшение для дру-
гих), а как максимум — к нахождению Парето-эффективного правового решения
(точки, из которой нельзя в принципе достигнуть новых Парето-улучшений), т.е.
оптимального с точки зрения эффективности по Парето юридического решения.
Концепцию Парето-эффективности и Парето-улучшения можно считать идео-
логическим обоснованием принципа свободы договора в праве. Экономическое
представление хозяйственного оборота — это совокупность многочисленных до-
говоров между рациональными участниками, каждый из которых в результате
свободного волеизъявления заключает сделки, ведущие к Парето-улучшениям.
Парадоксально, но достижение Парето-эффективности одновременно означает
исчезновение стимулов к дальнейшим переговорам и прекращение хозяйственного
оборота как совокупности добровольных сделок. Гипотетически подобное равно-
весие, сопровождаемое прекращением оборота, возможно, но только при стабиль-
ности состава участников переговоров, находящихся в их распоряжении наборов
и их предпочтений. Очевидно, что такая предпосылка выходит слишком далеко
за пределы действительности, коль скоро в реальной жизни людям свойственно
меняться, а их предпочтениям трансформироваться сообразно обстоятельствам.
Значит, и оборот не стоит на месте: с изменением предпочтений субъектов одно,
прежде казавшееся Парето-оптимальным, решение оказывается уже недостаточно
эффективным, а потому открываются возможности для нового движения. Другой
очевидный источник возникновения новых вариантов Парето-улучшения — по-
явление новых доступных участникам распределения благ или, напротив, сокра-
щение доступных опций. В реальной жизни и форма кривых безразличия, и сами
границы «коробки Эджворта» находятся в процессе непрерывного изменения.
Важная особенность Парето-улучшения — множественность его вариантов и зави-
симость от индивидуальных предпочтений участников распределения. В контексте
Парето-улучшения и ядра (см. рис. 1) легко объяснить недостатки государствен-
ного патернализма как способа ограничения свободы договора. Для того чтобы
предписывать директивным образом те или иные обмены благами (или, напро-
тив, запрещать определенной группе проводить свободный обмен благами), стре-
мящийся к максимальному благу (беневолентный) правитель или судья должен
владеть точной информацией о составе наборов, которыми располагают участ-
ники распределения, а также об их индивидуальных предпочтениях. Наконец,
95
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
при наличии всех этих сведений правитель или судья должен был бы предпочесть
определенный вариант Парето-улучшения альтернативным, а значит, произволь-
но определить, кто выиграет больше, а кто меньше. Получить и обработать такой
объем информации (имея в виду, что предпочтения индивидуальны и скрыты от
внешнего наблюдателя) невозможно. Вот почему замена свободных сделок реше-
ниями правителя или судьи, стремящегося к всеобщему благу, неэффективна6.
При всей простоте и концептуальной привлекательности концепция Парето-
эффективности на первый взгляд не объясняет, почему такое большое количе-
ство сделок, даже заключенных вполне добровольно, приносит по крайней мере
одной из сторон (а иногда и обеим) неудовлетворительные результаты. Точно так
же нуждается в объяснении тот факт, что значительная часть индивидуальных сде-
лок, которые могли бы улучшить благосостояние хотя бы одной стороны, на осно-
ве принципа свободы договора фактически не осуществляется.
Вот почему в отношении работоспособности концепции Парето необходимо сде-
лать несколько оговорок.
Первая связана с ролью распределения прав собственности при положительных
трансакционных издержках. В экономических исследованиях она связана с вкла-
дом в экономическую теорию трудов Р. Коуза, предложившего очень привлека-
тельное объяснение того, каким образом проблемы, традиционно считающиеся
предметом государственного регулирования, могут быть решены на основе сво-
бодных сделок, ведущих к Парето-улучшениям.
Во многих случаях государственная политика ставит задачу защитить определен-
ные группы от нежелательного воздействия, снижающего благосостояние членов
этой группы. Однако альтернативой политике предотвращения ущерба методом
запрета или позитивного обязывания является предоставление целевым группам
прав собственности, понимаемых в экономическом анализе права более широко,
чем в юриспруденции, — как любая гарантированная государством возможность
абсолютной защиты принадлежащих конкретному лицу прав на имущество7.
Права собственности, если они максимально защищены, дают их обладателю воз-
можность свободно обменивать права на адекватную компенсацию, ведь в таком
случае обладатель права через учет необходимости считаться с его произволом по-
лучает право вето: либо нужно соглашаться с ним, либо он блокирует навязанное
решение. Соответственно, свободный обмен правами, в свою очередь, предостав-
ляет возможность Парето-улучшения (с собственником необходимо считаться,
6
Еще раз необходимо подчеркнуть, что самые последовательные критики идеи более или менее систе-
матической замены свободных сделок государственным регулированием критикуют государство не за
отклонение его целей от общего блага, а буквально — за ложную уверенность в способности оценить
направление Парето-улучшения. Манифест либерализма — книга Ф.А. Хайека — так и называется
«Пагубная самонадеянность» (см.: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / пер. с
англ. Р.И. Капелюшникова. M., 1991).
7
Подробнее об идее разграничения механизмов защиты через права собственности или правила об от-
ветственности см.: Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules and Inalienability:
One View of the Cathedral, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972); Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав:
экономический взгляд // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 11. С. 24–80, № 12. С. 24–73.
96
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
поскольку в отсутствие его согласия ни одна сделка не будет заключена; а сделка
предполагает свободный торг, значит, для побуждения контрагента к заключению
сделки необходимо предложить ему адекватную компенсацию).
Ставший хрестоматийным иллюстративный пример подхода Коуза (восходящий
к Дж. Стиглеру) — ущерб рыболовецкому хозяйству, наносимый находящимся
выше по течению реки промышленным предприятием. Традиционный подход к
решению проблемы — нормативно установленный запрет на загрязнение. Подход
Коуза (в предположении, что загрязнение реки никому, кроме рыболовецкого хо-
зяйства, ущерба не приносит) состоит в том, чтобы предоставить права собствен-
ности на реку (включая право на загрязнение) любому из двух участников. В этом
случае возможность выбора между отказом от загрязнения и загрязнением может
предоставить возможность для Парето-улучшения.
Представим, что промышленное предприятие может использовать реку с боль-
шей прибылью, чем рыболовецкое хозяйство (предположим для простоты прибы-
ли 100 и 50 соответственно), но права собственности на реку принадлежат рыбо-
ловам. Для рыболовецкого хозяйства выгодно продать свое право собственности
за сумму, превышающую 50, а для промышленного предприятия выгодно предло-
жить за это право сумму меньше 100. При цене в интервале от 50 до 100 соглаше-
ние достигается, и при этом обеспечивается Парето-улучшение8. В свою очередь,
если права собственности на реку принадлежат промышленному предприятию,
рыболовы точно так же обладают потенциальной возможностью выкупить у него
данное право, однако соотношение прибыли от использования этого ресурса
делает подобную сделку невыгодной. Результат обмена, при котором право соб-
ственности на реку (в этом конкретном примере включающее право на загрязне-
ние) переходит к промышленному предприятию, является Парето-улучшением
по сравнению с ситуацией, когда оно принадлежит рыболовецкому хозяйству,
блокирующему возможность использования реки промышленным предприяти-
ем. Прибыль рыболовецкого хозяйства осталась по крайней мере не ниже, чем
была бы при использовании реки в хозяйственных целях. Если цена права на реку
составляет х, 100 ≥ х ≥ 50, то дополнительная прибыль рыболовецкого хозяйства
равна х – 50. Однако и промышленное предприятие получило как минимум не
меньше, чем могло бы получить без возможности выкупа права использования
реки: дополнительный выигрыш составляет 100 – х.
Важный вывод, известный как теорема Коуза, состоит в том, что первоначаль-
ное распределение прав собственности не влияет на конечное распределение
ресурсов. Однако теорема Коуза верна только при выполнении важного набора
предпосылок, а именно нулевых трансакционных издержек и полного определе-
ния прав собственности. Трансакционные издержки — все затраты, связанные
с поиском контрагента, заключением и принуждением к исполнению договора.
Нулевые трансакционные издержки означают прозрачность сторон сделки друг
8
Множество других примеров со ссылками на судебные решения и с описанием ограничений предло-
женного подхода см.: Коуз Р. Проблема социальных издержек // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 2007.
С. 92–149. См. также сопутствующую статью: Он же. Заметки к «Проблеме социальных издержек» //
Там же. С. 150–176. Во второй статье прямо подчеркивается связь подхода Коуза с понятиями Парето-
улучшения и Парето-эффективности — с перераспределением внутри ядра и движением к контрактной
кривой.
97
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
для друга, делающую невозможным любого рода жульничество, шантаж и вы-
могательство. В приведенном выше стилизованном примере Парето-улучшение
может и не быть достигнуто, если прибыль рыболовецкого хозяйства неизвест-
на промышленному предприятию, так что последнее может требовать большей
компенсации за право собственности. Аналогично Парето-улучшение может и
не быть достигнуто, если права собственности до конца не определены — в том
смысле, что заранее неизвестно, имеет ли рыболовецкое хозяйство право «на
продажу реки», т.е. отсутствует ли возможность последующего оспаривания этой
сделки судом.
В то же время именно теорема Коуза подчеркивает, что трансакционные издерж-
ки и неполнота и неопределенность прав собственности выступают важным пре-
пятствием к достижению Парето-улучшения на основе двусторонних сделок,
базирующихся на соблюдении свободы договора. Соответственно, в реальной
жизни именно невыполнение указанных предпосылок теоремы Коуза дает ответ
на вопрос, почему свободные договоренности сторон могут не приводить на деле
к Парето-улучшениям.
Вторая оговорка относительно достижимости Парето-улучшения связана с про-
блемой неполноты информации. Концепция Парето-улучшения, как мы ее пред-
ставили, основана на предпосылке о том, что стороны обладают полной инфор-
мацией о предмете сделки, равно как и о своих предпочтениях. Предпосылка
информированности о собственных предпочтениях в некоторой степени эквива-
лентна правовому понятию дееспособности, т.е. способности своими осознанны-
ми действиями приобретать права и нести ответственность за принятые решения.
Для большой группы участников сделок мы можем быть уверены в выполнении
этой предпосылки. Вместе с тем предпосылка одинаковой информированности о
предмете сделки не выполняется в хозяйственном обороте систематически. В том
случае, когда одна из сторон информирована о характеристиках объекта сделки
(в самом широком смысле, который экономисты часто обозначают понятием «ка-
чество»), а другая не информирована, обеспечивающие Парето-улучшение сделки
могут и не совершаться.
Одна из подобных ситуаций описана Дж. Акерлофом на примере сделок на рын-
ке подержанных автомобилей. Существует асимметрия информации о качестве
подержанного автомобиля между продавцом и покупателем. Представим ситуа-
цию, когда продавец подержанного автомобиля высокого качества был бы готов
продать его за цену не менее 300 тыс. руб., а продавец подержанного автомобиля
низкого качества — за цену не менее 100 тыс. руб. В свою очередь, покупатель
готов заплатить за автомобиль высокого качества не более 350 тыс. руб., а за ав-
томобиль низкого качества — не более 150 тыс. руб. Если бы покупатель досто-
верно знал качество конкретного автомобиля, заключаемые сделки вели бы к
Парето-улучшению. Однако представим себе, что покупатель не знает качество
выбранного наугад автомобиля и при этом оценивает низкое и высокое качество
как равновероятные. В этом случае максимальная цена покупателя, которую он
готов уплатить за автомобиль, соответствует ожидаемому качеству и составляет
350 × 0,5 + 150 × 0,5 = 250 тыс. руб. По этой цене продавцу товара высокого
качества невыгодно заключать сделку, и Парето-улучшение не достигается. По-
купатель также остается обманутым в своих ожиданиях, поскольку если он готов
98
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
уплатить не более 250 тыс. руб., то на рынке остаются только продавцы автомо-
билей низкого качества — происходит неблагоприятный отбор.
Асимметрия информации — не единственная причина, по которой сделки, обе-
спечивающие Парето-улучшение, могут быть не совершены. Однако уже этот
пример достаточен для того, чтобы показать, что наличие возможностей Парето-
улучшения не гарантирует совершение взаимовыгодной сделки. Существуют и
другие препятствия для достижения Парето-улучшения сторонами. Большинство
из них возникают благодаря тому, что экономисты обобщенно называют трансак-
ционными издержками, — дополнительным затратам на поиск и отбор контраген-
та, заключение и обеспечение исполнения контракта.
Однако фундаментальные препятствия для осуществления сделок, обеспечиваю-
щих Парето-улучшение, следует отличать от изменения фактических условий сде-
лок из-за фактора неопределенности. Приведенный выше пример обменов между
А и В предполагает стабильность предпочтений по отношению к наборам благ,
а следовательно, и представлений о пропорциях обмена, обеспечивающих Парето-
улучшение. Если между заключением сделки и фактической реализацией прохо-
дит время, то за этот период полезность обмениваемых объектов прав для сторон
может измениться. И чем продолжительнее срок между заключением договора и
его выполнением, тем существеннее могут быть эти изменения.
Третье замечание в отношении Парето-эффективности связано с полным игно-
рированием общественных предпочтений. Концепция Парето-эффективности
нейтральна по отношению к любому нормативному пониманию справедливости
в распределении. Представим себе, например, что распределение благ между А и В
в примере, отраженном на рис. 1, таково, что оба блага полностью принадлежат А.
Такое распределение будет эффективным, не допускающим Парето-улучшения.
С точки зрения Парето-эффективности оно ничуть не хуже и не лучше всех осталь-
ных комбинаций распределения на контрактной кривой (см. рис. 2)9. Исследова-
тели экономического анализа права неоднократно подчеркивали противоречие
между Парето-улучшением как критерием экономической эффективности и спра-
ведливостью как принципом права10.
Четвертое замечание в отношении Парето-эффективности состоит в том, что,
хотя суть этой концепции заключается в преимуществах, которые дает свобод-
ный обмен, при определенных обстоятельствах Парето-оптимум противоречит
базовым правовым принципам, в том числу принципу свободы. В этом состоит
9
В экономической литературе существует традиция при анализе проблем благосостояния переходить
от индивидуальных предпочтений к предпочтениям общественным. Однако на этом пути теорию ждут
серьезные проблемы, поскольку общественные предпочтения не являются суммой индивидуальных.
Основным камнем преткновения на пути сопоставления альтернативных вариантов распределения
благ с помощью общественной функции полезности является сложность теоретического обоснования
функции полезности как способа однозначного упорядочивания вариантов распределения благ между
участниками по предпочтительности с точки зрения общества.
10
См.: Louis Kaplow and Steven Shavell, The Conflict Between Notions of Fairness and the Pareto Principle, 1 Am.
L. & Econ. Rev. 63 (1999); Louis Kaplow and Steven Shavell, Any Non-welfarist Method of Policy Assessment
Violates the Pareto Principle, 109 J. Pol. Econ. 281 (2001); Louis Kaplow and Steven Shavell, Fairness versus
Welfare, 114 Harv. L. Rev. 961 (2001).
99
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
так называемый парадокс А. Сена11: выбор в пользу Парето-оптимума может ис-
ключать базовые свободы индивида, а базовые свободы — исключать Парето-
оптимум.
Стилизованное изложение этого парадокса12 выглядит следующим образом. Рас-
смотрим проблему: носить ли девочкам хиджаб в школе, и если да, то кому именно.
Пусть в нашем обществе только два участника, чьи предпочтения следует прини-
мать во внимание. Назовем их условно «агностик» и «фундаменталист». Пред-
почтения ранжируют три альтернативы: 1) хиджаб носят все девочки; 2) хиджаб
носит дочь фундаменталиста, но не агностика; 3) хиджаб носит дочь агностика,
но не фундаменталиста. Для агностика варианты ранжированы по предпочтению
следующим образом: первый — наихудший, второй лучше первого, а третий лучше
второго. Для фундаменталиста ранжирование таково, что первый вариант предпо-
чтителен по отношению к третьему, но третий, в свою очередь, предпочтительнее
второго. Какие решения будут Парето-оптимальными? Первый и третий вариан-
ты. Ни один из них нельзя поменять на второй вариант, не понизив полезности
хотя бы одного из участников распределения прав. Либеральная альтернатива
(второй вариант) не является Парето-оптимальной, поскольку отказ от нее в поль-
зу третьего увеличивает полезность обоих участников13.
С учетом указанных замечаний концепция Парето-эффективности оказывается
не таким уж и простым критерием: в действительности она задает слишком не-
реалистичный стандарт эффективности, которого сложно (если не сказать не-
возможно) достигнуть, если речь идет о правовом регулировании. Рассмотрим
это на конкретных примерах из области гражданского законодательства, сопо-
ставляя задачи и результаты правовых изменений с критериями эффективности
по Парето.
Пример 1. Договорное право: реформа правил п. 3 ст. 428 ГК РФ о договоре при-
соединения. Правовая конструкция договора присоединения предполагает, что
его условия описываются одной из сторон договора, как правило, коммерсантом,
в формулярах или иных стандартных формах, а другой стороной — чтобы договор
признавался заключенным — эти условия могут быть приняты только в целом,
т.е. при заключении договора действует принцип «все или ничего», а сторона, ко-
11
См.: Amartya Sen, The Impossibility of a Paretian Liberal, 78 J. Pol. Econ. 152 (1970).
12
Этот пример принадлежит А. Сену, с заменой повода ранжирования предпочтений на более совре-
менный и актуальный для современных российских дискуссий. Точно так же, как в оригинальном
примере А. Сена, предпочтения отражают разное восприятие предмета ранжирования предпочтений.
Для агностика хиджаб — это предмет одежды, не способный повлиять на убеждения членов его семьи,
но укрепляющий нетерпимость фундаменталиста. Напротив, для фундаменталиста хиджаб — символ
моральной чистоты, в которой агностик и его семья нуждаются гораздо больше, чем семья фундамен-
талиста.
13
Парадокс А. Сена — лишь один из примеров отражения в экономической теории тех сложностей, с ко-
торыми сталкивается ранжирование предпочтений на уровне общества. К тому же типу парадоксов
принадлежат парадокс голосования Кондорсе и венчающая этот раздел литературы «теорема невоз-
можности» К. Эрроу. Для знакомства с этим разделом теории общественного выбора мы рекомендуем
обратиться к курсу лекций Р.М. Нуреева, см.: Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М., 2005.
Подробнее см.: Kennneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values 38–45 (2nd еd., Yale University
Press, 1963).
100
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
торая присоединяется к такому договору, не обладает правом переформулировать
его условия. Соответственно, договор заключается со всеми присоединяющимися
лицами на одинаковых условиях, ранее сформулированных в проформе. Подоб-
ную модель может использовать как экономически более сильная сторона (на-
пример, монополист на рынке, навязывающий через стандартизированные усло-
вия свои правила поведения всем прочим контрагентам), так и в принципе любой
коммерсант, реализующий товары, работы и услуги, являющиеся не уникальным
продуктом, а чем-то однотипным, либо стремящийся в своей договорной прак-
тике, даже если она связана с реализацией уникального продукта, использовать
стандартизированные процедуры (в части оплаты, исполнения договора, а также
процедуры заключения самого договора). Такая стандартизированная процедура
крайне удобна, а то и выгодна — с экономической точки зрения — лицу, который
предлагает формуляр. Понятно, что для другой стороны она может быть невы-
годной, особенно если под видом стандартных условий навязываются какие-то
наносящие ущерб и не соответствующие нормальным стандартам делового обо-
рота обязательства (длительная отсрочка оплаты поставленного товара, высокие
штрафные санкции за малейшие нарушения, иные непропорциональные дого-
ворные условия, когда одной стороне предоставляются некоторые права и пре-
ференции, а другой по тем же позициям — нет).
Для того чтобы уравновесить разные переговорные возможности субъектов обо-
рота, изначально находящихся в разном положении, но при этом не ограничи-
вать перспективу заключения договоров на основании стандартных проформ, по-
зитивное право предлагает механизм корректировки несправедливых рыночных
условий. Так, согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся к договору сторона
вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присое-
динения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны усло-
вия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла
бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
Тем самым законом предусмотрена довольно гибкая конструкция, которая хоть
и post factum, но позволяет скорректировать неравенство переговорных возмож-
ностей, причем сделать это с обратным эффектом, т.е. как если бы спорный дого-
вор изначально не был заключен (при расторжении) или был заключен на иных,
более приемлемых для слабой стороны договора условиях (при его последующем
изменении). Вместе с тем применение данных последствий было урегулировано
одним образом до 2015 г. и другим — после проведения реформы положений ГК
РФ в этой части (Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ; вступил в силу с
01.06.2015). Для создания полной картины проще привести дословно текст до и
после соответствующих изменений (табл. 1).
101
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
Таблица 1
Сравнение положений ГК РФ о расторжении или изменении договора
Пункт 3 ст. 428 ГК РФ до 2015 г. Абзац 2 п. 2, п. 3 ст. 428 ГК РФ с 01.06.2015
3. При наличии обстоятельств, 2. <…>
предусмотренных в пункте 2 Если иное не установлено законом или не вытекает из суще-
настоящей статьи, требование ства обязательства, в случае изменения или расторжения
о расторжении или об измене- договора судом по требованию присоединившейся к догово-
нии договора, предъявленное ру стороны договор считается действовавшим в измененной
стороной, присоединившейся редакции либо соответственно не действовавшим с момента
к договору в связи с осущест- его заключения.
влением своей предпринима- 3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи,
тельской деятельности, не под- подлежат применению также в случаях, если при заключении
лежит удовлетворению, если договора, не являющегося договором присоединения, усло-
присоединившаяся сторона вия договора определены одной из сторон, а другая сторона
знала или должна была знать, в силу явного неравенства переговорных возможностей по-
на каких условиях заключает ставлена в положение, существенно затрудняющее согласо-
договор вание иного содержания отдельных условий договора
Если оставить в стороне техническое, в общем, уточнение, касающееся того, с ка-
кого момента договор будет изменен или признан недействовавшим, то новая ре-
дакция анализируемой статьи в сравнении с дореформенной версией отличается
двумя моментами. Во-первых, стандарт защиты, допускающий пересмотр неспра-
ведливых договорных условий, навязанных стороне посредством договора при-
соединения, прежде по общему правилу недоступный присоединившейся стороне,
если она заключала договор в связи с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, отныне стал доступен для всех, в том числе для коммерсантов. Так что
даже коммерсант, который присоединился к договору по проформе, разработанной
другой стороной, отныне вправе поставить вопрос о пересмотре (изменении или
прекращении) ранее заключенного договора. Во-вторых, тот же стандарт защиты
слабой стороны в договоре был распространен на любые иные договоры, необя-
зательно заключаемые по модели договора присоединения, но при условии, что
«другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена
в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдель-
ных условий договора». Соответственно, если более сильная с точки зрения рыноч-
ной власти сторона навязывает договорные условия другой, рыночно более слабой
стороне, она должна отныне учитывать риск того, что ранее согласованные условия
контракта в будущем могут быть пересмотрены по требованию слабой стороны,
даже если такая сторона изначально согласилась на конкретные условия договора.
Что означает изменение регулирования в данной ситуации в терминах эффек-
тивности, описанных выше? Для этого нужно ответить на несколько вопросов.
Каково соотношение новой нормы с концепцией эффективности по Парето?
В частности, представляет ли новый вариант нормы Парето-улучшение? Может
ли норма быть приближением к Парето-эффективному состоянию, не являясь
Парето-улучшением? Представим, что экономически сильная сторона, которая
предлагает заключить договор с использованием разработанных ей стандартных
форм, это лицо А в описанных выше графиках (см. рис. 1, 2). Соответственно, сла-
бая сторона в договоре — это лицо В.
102
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
В юридическом сообществе сформировалось мнение, что эту норму можно улуч-
шить. Если проведенная реформа улучшила норму права, то, вероятно, правовая
конструкция стала более эффективной. Если она достигла Парето-фронтира, то,
видимо, больше уже нет возможностей для дальнейшего ее совершенствования без
ухудшения положения А или В; тогда утвержденная с 2015 г. норма является эффек-
тивной по Парето. Напротив, если норма стала лучше, но есть еще пространство
для улучшений, то даже если в ходе реформы было предложено решение, улучша-
ющее норму (проведено Парето-улучшение), также возможны Парето-улучшения,
а потому поиск оптимальной правовой конструкции может продолжаться.
Теперь стоит рассмотреть более подробно анализируемую правовую конструкцию
на предмет того, являются ли проведенные в ходе реформы изменения Парето-
улучшением. Очевидно, что с введением нового (с 01.06.2015) регулирования
положение слабой стороны улучшилось, а сильной — ухудшилось. Для первой
появилось больше возможностей для защиты своих прав, для второй же набор
возможных опций сократился (отныне тот же повышенный стандарт защиты рас-
пространен на иные договоры, а не ограничен договором присоединения, более
того, коммерсанты, принимающие навязанные условия, могут использовать ту же
защиту против сильной стороны). Иными словами, для В набор возможных полез-
ностей от регулирования повысился, для А — сократился. Графически это можно
представить как переход из точки, в которой обеспечивалось некое распределение
полезностей и в которой участники находились до реформы, в точку, отвечающую
новому распределению полезностей, когда одна сторона улучшила свое положе-
ние, а вторая, наоборот, ухудшила (на рис. 3 это переход из E1 в E2):
UB
E2 E3
E4
E1 UA
Рис. 3. Возможные варианты изменения регулирования
Примечание. При заданной границе Парето-эффективных распределений (Парето-фронтира)
набор возможных юридических решений, доступных для правопорядка, находится в области
между осями координат и дугой, описывающей фронтир. Любое движение внутри этой обла-
сти из одной точки в другую отражает изменение регулирования, что приводит к изменению в
соотношении полезностей для участников, подвергающихся такому регулированию. Улучше-
ние положения В с одновременным ухудшением для А (переход из E1 в E2) приводит к прибли-
103
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
жению к Парето-фронтиру, но такое движение не будет признаваться Парето-улучшением.
Критерию Парето-улучшения отвечало бы такое изменение, при котором один что-то получа-
ет, а другой как минимум не теряет (переход из E1 в E3). Наконец, Парето-улучшением будет
также юридическое решение, при котором оба субъекта улучшат свое положение от вводимо-
го регулирования (переход из E1 в E4). Все три решения — как отвечающие критерию Парето-
улучшения, так и не отвечающие — не достигают Парето-фронтира, а значит, не являются
Парето-эффективными.
Если верно утверждение, что в результате реформы положение слабой стороны
было улучшено, но это привело к одновременному ухудшению положения эко-
номически более сильного субъекта, то проведенное в ходе реформы изменение
нельзя признать Парето-улучшением. Это лишь улучшение полезности одного
лица или даже множества участников оборота, каждый из которых может оказать-
ся в положении слабой стороны договора, но не улучшение, а ухудшение для дру-
гого (других) участника оборота. Соответственно, реформа есть лишь перераспре-
деление благ от одной группы участников оборота в пользу других.
Перераспределение может объясняться иными политико-правовыми соображе-
ниями, но не мотивами эффективности. Необходимость редистрибуции, как пра-
вило, обосновывается функцией социального государства, а значит, подкрепляет-
ся идеями патернализма, социальной справедливости, морали и нравственности,
но от этого редистрибутивные действия не приобретают характеристик Парето-
улучшения.
Далее, если достигнутая в результате реформы точка не лежит на Парето-фронтире,
то реформу нельзя также признать и Парето-эффективной. То есть проведенное
в ходе реформы изменение не является не только Парето-улучшением, но также
и Парето-эффективным. Понять, лежит ли достигнутая в ходе реформы точка
на Парето-фронтире, довольно просто. Нужно ответить на вопрос, возможны ли
дальнейшие движения в политике права, при которых положение одного субъекта
бы улучшалось, а другого как минимум не ухудшалось. Очевидно, что да: достиг-
нутое в ходе реформы 2015 г. положение по рассматриваемому вопросу допускает
еще великое множество юридических решений, при которых может выиграть одна
сторона, при этом вторая сторона не будет ничего терять. Так, более эффективная
правовая конструкция могла бы предусматривать среди прочего учет при последу-
ющей оценке справедливости договорных условий, включенных в договор присо-
единения, степень осведомленности слабой стороны о последствиях заключения
договора на конкретных условиях и оценки предвидимости последствий, усилия,
предпринимаемые сильной стороной для устранения негативных последствий и
добровольного исполнения требований слабой стороны. Эти, а также многие дру-
гие правовые построения могли бы улучшить ту правовую конструкцию, которая
в итоге нашла отражение в п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ в ред. от 01.06.2015, однако раз-
витие политики права пока остановилось. Соответственно, в будущем возможны
дальнейшие движения, которые приблизят правовую конструкцию к Парето-
фронтиру.
Рассмотренный выше пример с корректировкой всего лишь одной нормы из об-
ласти договорного права показал сложность буквального применения критерия
эффективности по Парето к эволюции норм права, а также позволил проявить
104
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
очень интересный процесс, наблюдаемый в рамках любого политико-правового
движения. Хотя рассмотренная норма права не является примером ни Парето-
улучшения, ни Парето-эффективного правового построения, проведенная рефор-
ма все же может признаваться желательной и полезной, т.е. эффективной. Другой
вопрос: что это за эффективность, почему такое движение в праве все-таки жела-
тельно и полезно?
Вернемся к графическому отражению эффектов реформы на рис. 3. В силу того
что точка, в которой находилось регулирование рассматриваемого вопроса до
реформы, была еще более отдалена от Парето-фронтира, чем после проведения
реформы, даже если фронтир не достигнут, новое регулирование лучше суще-
ствовавшего прежде. Таким образом, реформа в праве, даже если она не являет-
ся Парето-улучшением или Парето-эффективной, но приближает норму права
к Парето-фронтиру в сравнении с ранее существовавшим регулированием, все
равно будет желательной для правопорядка. При этом любое движение по направ-
лению к Парето-фронтиру может оказаться желательным для права. Так, на рис.
3 показано три варианта подобных желательных движений: два из них будут при-
знаваться Парето-улучшением (переходы из E1 в E3 и из E1 в E4), а одно нет (переход
из E1 в E2). Каждое из трех указанных решений, соответствующих тому или иному
политико-правовому выбору, даже не являясь Парето-эффективным, с позиций
законодателя или регулятора может считаться желательным, поскольку все они в
итоге приближают правопорядок к Парето-фронтиру, а не удаляют от него.
Чем дальше от Парето-фронтира находится текущее регулирование по тому или
иному вопросу, тем больше опций для улучшения регулирования доступно, даже
если эти опции не будут ни Парето-улучшением, ни Парето-эффективным пра-
вовым решением. Напротив, чем ближе текущее регулирование к фронтиру, тем
меньше опций Парето-улучшения доступно для правопорядка, тем чаще конкрет-
ное политико-правовое решение будет объясняться соображениями редистрибу-
ции благ, а не обоснованиями, базирующимися на какой-либо экономической
логике. Продвижение такого рода политико-правовых решений будет обусловле-
но уже не критериями экономической эффективности, а стремлением к созданию
социального государства, популизма или иными соображениями, далекими от ло-
гики экономического расчета. Экономический анализ права в таком случае может
дать лишь одно: показать, что конкретный политико-правовой выбор является
субоптимальным с экономической точки зрения, а предлагаемая правопорядку
правовая конструкция есть не улучшение, а что-то другое.
Пример 2. Общие положения о сделках: реформа правил п. 3 ст. 182 ГК РФ о запре-
те представителю совершать сделки на себя. Представительство предполагает, что
посредством данного института происходит удвоение волящего субъекта: помимо
субъекта, который в иной ситуации мог бы сам совершить акт волеизъявления,
т.е. представляемого, появляется еще один субъект, представитель, который в силу
выданного ему полномочия наделяется правом совершать акты волеизъявления,
правовые последствия от которых будут наступать для представляемого, как если
бы он сам лично совершал такие сделки.
Важным элементом института представительства является ограничение конфлик-
та интересов: если представителю предоставляется право сделать нечто, что впо-
105
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
следствии будет отождествлено с представляемым, то представитель должен мак-
симальным образом преследовать интересы представляемого, а не использовать
данные ему полномочия в собственных интересах. В этом смысле ограничение
(запрет) на совершение сделок в пользу себя вполне логично: в противном случае,
если такой запрет не вводить, представитель может запросто использовать предо-
ставленные ему в силу представительства полномочия для целей собственного
обогащения, присвоения себе коммерческих возможностей, в иной ситуации до-
ступных лишь представляемому, а также для чего угодно еще, но не для решения
задач, которые перед ним поставил представляемый.
Запрет представителю совершать сделки на себя существовал в ГК РФ и ранее,
однако в 2013 г. он был несколько скорректирован за счет добавления правил о
том, какие последствия наступают при нарушении указанного запрета (Федераль-
ный закон от 07.05.2013; поправки вступили в силу с 01.09.2013). Сравнение ранее
действовавшего текста и формулировок после проведенной реформы приведено
в табл. 2.
Таблица 2
Сопоставление текста п. 3 ст. 182 ГК РФ до и после реформы
Редакция п. 3 ст. 182 ГК РФ до 2013 г. Текст п. 3 ст. 182 ГК РФ после 01.09.2013
3. Представитель не может совершать 3. Представитель не может совершать сделки от име-
сделки от имени представляемого в ни представляемого в отношении себя лично, а также
отношении себя лично. Он не может в отношении другого лица, представителем которого
также совершать такие сделки в отно- он одновременно является, за исключением случаев,
шении другого лица, представителем предусмотренных законом.
которого он одновременно является, Сделка, которая совершена с нарушением правил,
за исключением случаев коммерче- установленных в абзаце первом настоящего пункта, и
ского представительства на которую представляемый не дал согласия, может
быть признана судом недействительной по иску
представляемого, если она нарушает его интересы.
Нарушение интересов представляемого предполага-
ется, если не доказано иное
Как видно из приведенных выдержек, после реформы 2013 г. представляемый
получил специально поименованное средство защиты — право требовать при-
знания сделки недействительной. При этом в закон была введена презумпция
того, что нарушение интересов представляемого предполагается, если есть сдел-
ка, совершенная представителем в отношении себя лично или другого представ-
ляемого, однако такая презумпция может быть опровергнута представителем,
если он докажет, что фактом совершения сделки на себя тем не менее не на-
рушил интересы представляемого. Случаи, когда представитель вправе совер-
шать сделки в отношении других представляемых без согласия конкретного
представляемого, могут быть указаны в законе. Так, в самом ГК РФ называют-
ся разрешенные ситуации одновременного представительства: коммерческое
представительство (ст. 184), ведение дел товарищами в хозяйственном товари-
ществе, когда каждый из товарищей (полных товарищей в коммандитном то-
вариществе) вправе представительствовать вовне от имени прочих товарищей
106
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
и самого товарищества (п. 1 ст. 72, п. 1 ст. 84). Коль скоро сделка, совершенная
представителем с конфликтом интересов, в силу п. 3 ст. 182 ГК РФ называет-
ся сделкой, которую можно признать недействительной, то общегражданским
основанием признания ее недействительной в данном случае будет являться,
судя по всему, норма п. 2 ст. 174 ГК РФ (сделка, совершенная представителем
в ущерб интересам представляемого).
Что изменилось для сторон — представителя и представляемого — после прове-
дения реформы анализируемой правовой конструкции в 2013 г.? Очевидно, что
положение представляемого улучшилось за счет наделения его дополнительными
специально описанными механизмами защиты. Однако изменилось ли что-то для
представителя, совершающего сделки на себя? Подобный запрет существовал и
прежде. В отношении последствий, наступающих при нарушении этого ограниче-
ния, имелись разные точки зрения, в том числе допускавшие заявление требова-
ний о признании сделки недействительной.
Ранее действовавшая редакция ст. 174 ГК РФ буквально не покрывала собой
ситуации совершения представителем сделок на себя или в отношении другого
представляемого, представителем которого является конкретное лицо. Она го-
ворила лишь о сделках, совершенных представителем при превышении полно-
мочий, установленных договором, но не доверенностью. Вместе с тем наряду со
ст. 174 также действовала ст. 168 ГК РФ, провозглашавшая недействительной
любую сделку, не соответствующую требованиям закона, а в данном случае п. 3
ст. 182 ГК РФ даже в ранее принятой редакции и так недвусмысленно устанав-
ливал для представителя запрет на совершение сделок с конфликтом интере-
сов. Потому и до реформы 2013 г. положение представителя в этой части было
не слишком радужным.
Правда, при прежнем режиме, поскольку не было однозначного решения в от-
ношении последствий для представляемого при нарушении указанного запрета,
конкретный представитель, допустив такое нарушение, возможно, мог исполь-
зовать правовую неопределенность в своих интересах. Если допустить, что ранее
существовавшая неопределенность по данному вопросу предоставляла некото-
рые преимущества представителю, а после реформы 2013 г. такая неопределен-
ность ушла, а значит, с ней исчезли и возможности ловить рыбку в мутной воде,
то проведенная реформа несколько ухудшила положение представителя в этой
части. Если такими изменениями можно пренебречь (поскольку они принципи-
ально ничего не изменили) либо если ранее существовавшая неопределенность
была также выгодна представляемому (поскольку давала множество вариантов
атаки на представителя), то реформу нельзя будет назвать ухудшающей положе-
ние представителя.
Таким образом, рассматриваемый пример в зависимости от понимания того, как
изменилось положение представителя, можно считать:
– Парето-улучшением (положение представляемого улучшилось, при этом положе-
ние представителя как минимум не ухудшилось) при допущении, что новые нор-
мы существенно не изменили полезность для представителя;
107
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
– перераспределением полезностей от одного лица (представителя) в пользу другого
(представляемого), которое не является Парето-улучшением, — при допущении,
что новые нормы ухудшили положение представителя, совершающего сделки на
себя или в интересах других представляемых, если не получено согласие представ-
ляемого.
Данный пример является показательным для одной из ключевых проблем эконо-
мического анализа права, а также анализа издержек и выгод (cost-benefit analysis):
чтó считать выгодой, или улучшением положения, для того или иного участника
(группы участников оборота). Как видно, разная оценка изменения положения
участников оборота (что именно считать изменением) может привести к разным
выводам о его влиянии на эффективность. Если изменение положения после ре-
формы квалифицировать как ухудшение для одного субъекта, реформа не явля-
ется Парето-улучшением. Если такое же изменение не признавать ухудшением,
то при улучшении положения другого субъекта правовая реформа может призна-
ваться Парето-улучшением, а значит, в пределе может вести и к созданию Парето-
эффективного правового решения.
Пример 3. Корпоративное право: реформа правил об оспаривании сделок с
особым порядком совершения (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее — Закон об АО). Для
сделок юридического лица, корпорации, если они связаны с имуществом значи-
тельной стоимости либо совершаются в пользу лиц — контрагентов юридическо-
го лица по сделке, когда такие контрагенты связаны с инсайдерами юридическо-
го лица (его менеджерами и контролирующими акционерами), корпоративными
законами предусматривается особая процедура их совершения, предполагающая
наличие предварительного согласия или хотя бы последующего одобрения (если
сделка оспаривается в суде) органом юридического лица (как правило, общим
собранием участников или советом директоров). Первая группа сделок образует
так называемые крупные сделки, вторая — сделки, в совершении которых име-
ется заинтересованность, или сделки заинтересованные. В случае несоблюдения
порядка совершения этих сделок участник (акционер) или иные лица, назван-
ные в Законе, вправе заявить иск о признании сделки недействительной. При
рассмотрении заявленного иска суд применяет специальные критерии, указыва-
ющие как на «дефектность» сделки, так и на то, в каких случаях конкретная сдел-
ка может быть признана недействительной, а когда — оставлена в силе. В рамках
проведенной в 2016 г. реформы института крупных и заинтересованных сделок
эти критерии были существенно изменены (Федеральный закон от 03.07.2016,
вступил в силу с 01.01.2017)14, что можно суммировать в виде сравнения текста
в табл. 3.
14
Правила о порядке оспаривания сделок с заинтересованностью были изменены схожим образом, хотя
в них есть своя специфика, учитывающая наличие конфликта интересов. Одинаково по обоим инсти-
тутам — крупным и заинтересованным сделкам — в ходе реформы 2016 г. были изменены правила за-
конодательства как об акционерных обществах, так и об обществах с ограниченной ответственностью.
Для целей настоящей работы подобными нюансами можно пренебречь, а потому далее презюмируется,
что одинаковые по существу нормы были предусмотрены для всех четырех институтов — крупных и за-
интересованных сделок АО и таких же сделок ООО.
108
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Таблица 3
Сопоставление норм Закона об АО о крупных сделках и сделках
с заинтересованностью до и после реформы
Пункт 6 ст. 79 до 31.12.2016 Пункт 6 и новый п. 6.1 ст. 79 с 01.01.2017
6. Крупная сделка, совершенная с нарушением 6. Крупная сделка, совершенная с на-
предусмотренных настоящим Федеральным законом рушением порядка получения согласия
требований к ней, может быть признана недействи- на ее совершение, может быть при-
тельной по иску общества или его акционера. знана недействительной (статья 173.1
Срок исковой давности по требованию о признании Гражданского кодекса Российской
крупной сделки недействительной в случае его про- Федерации) по иску общества, члена
пуска восстановлению не подлежит. совета директоров (наблюдательного
Суд отказывает в удовлетворении требований о при- совета) общества или его акционеров
знании крупной сделки, совершенной с нарушением (акционера), владеющих в совокуп-
предусмотренных настоящим Федеральным законом ности не менее чем одним процентом
требований к ней, недействительной при наличии голосующих акций общества. Срок
одного из следующих обстоятельств: исковой давности по требованию о
голосование акционера, обратившегося с иском о признании крупной сделки недействи-
признании крупной сделки, решение об одобрении тельной в случае его пропуска восста-
которой принимается общим собранием акционеров, новлению не подлежит.
недействительной, хотя бы он и принимал участие в 6.1. Суд отказывает в удовлетворе-
голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на нии требований о признании крупной
результаты голосования; сделки, совершенной в отсутствие над-
не доказано, что совершение данной сделки повлек- лежащего согласия на ее совершение,
ло или может повлечь за собой причинение убытков недействительной при наличии хотя бы
обществу или акционеру, обратившемуся с иском, одного из следующих обстоятельств:
либо возникновение иных неблагоприятных послед- 1) к моменту рассмотрения дела в суде
ствий для них; представлены доказательства последу-
к моменту рассмотрения дела в суде представлены ющего одобрения совершения данной
доказательства последующего одобрения данной сделки;
сделки по правилам, предусмотренным настоящим 2) при рассмотрении дела в суде не
Федеральным законом; доказано, что другая сторона по данной
при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сделке знала или заведомо должна
сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о том, что сделка являлась
была знать о ее совершении с нарушением пред- для общества крупной сделкой, и (или)
усмотренных настоящим Федеральным законом об отсутствии надлежащего согласия
требований к ней на ее совершение
Простое сравнение до- и пореформенного текста Закона сразу же обнаруживает
две группы изменений.
Во-первых, если прежде любой акционер или участник был вправе оспаривать
такие сделки, совершенные с нарушением установленной процедуры, то в резуль-
тате реформы право акционера на оспаривание было ограничено наличием ми-
нимального пакета акций (долей в уставном капитале ООО). Отныне такое право
среди участников корпорации есть лишь у обладателя минимум 1% уставного ка-
питала общества. Тем самым положение «микроминоритариев», владельцев ак-
109
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
ций или долей ниже указанного порога, было ухудшено, поскольку они лишились
права на оспаривание. Для приобретения такого права они должны объединяться
в пул истцов, чтобы в совокупности обладать необходимым количеством акций
или долей.
Во-вторых, были существенно скорректированы основания для оставления в силе
судом конкретной оспариваемой сделки. Так, если прежде суд был вправе отка-
зать в удовлетворении иска об оспаривании сделки, если голосование акционера-
истца, будь такая сделка вынесена на рассмотрение акционеров, не могло повли-
ять на результаты голосования, а равно если в ходе рассмотрения спора в суде не
доказано, что совершение сделки повлекло или может повлечь за собой причи-
нение убытков обществу или акционеру, обратившемуся с иском, либо возник-
новение иных неблагоприятных последствий для них, то отныне данный момент
не учитывается. Кроме того, по прежним правилам суд отказывал в иске, если к
моменту рассмотрения дела в суд представлены доказательства последующего одо-
брения спорной сделки либо доказано, что другая сторона по этой сделке не знала
и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных законом
ограничений.
В результате проведенной реформы из четырех оснований для отказа в иске были
оставлены только последние два: суд отказывает в удовлетворении иска, если
представлены доказательства последующего одобрения сделки либо доказано, что
другая сторона не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением
предусмотренных законом ограничений (плюс добавлено указание, что сторона не
знала, что сделка являлась крупной). Если прежде суд мог оценивать, насколько
голос акционера, несогласного со спорной сделкой, мог повлиять на ее одобре-
ние, если бы голосование акционеров по сделке состоялось, то после реформы для
акционеров — владельцев менее 1% этот момент стал совершенно нерелевантным,
поскольку они полностью лишились права на обжалование, а для акционеров —
владельцев свыше указанного порога ситуация, напротив, улучшилась. Например,
ранее владелец 2% не мог заблокировать сделку, на которую согласны большин-
ство акционеров, а отныне он получает право такую сделку аннулировать.
Кроме того, отказ от доказывания ущерба от спорной сделки для общества (убы-
точности сделки) выгоден опять-таки акционерам, но создает совершенно не-
нюансированную правовую конструкцию: любая крупная сделка, даже если она
совершена на совершенно рыночных условиях, может быть признана недействи-
тельной по формальным основаниям — просто потому, что она не была одобрена
надлежащим образом. Ранее подобный формализм в вопросах оспаривания круп-
ных сделок был невозможен. Соответственно, по указанным позициям положение
акционеров или участников ООО, оспаривающих сделку и владеющих менее 1%
голосующих акций или доли в уставном капитале ООО, было серьезно ухудшено,
поскольку им стало сложнее или вообще невозможно добиться успеха в оспари-
вании. Положение хозяйственного общества, если отождествлять его интересы с
интересами контролирующего акционера, в одних случаях (если иск заявляется
микроминоритарием) было улучшено. Однако по отношению к миноритарным
акционерам — владельцам пакетов акций, превышающих границу 1%, положе-
ние общества (контролирующего акционера) существенно ухудшено, ведь отныне
сделка может быть аннулирована по сугубо формальным основаниям.
110
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Итак, суммируя рассмотренные изменения, их можно охарактеризовать не как
Парето-улучшение, а как исключительно перераспределение полезностей от одной
группы участников к другой. Улучшение положения одной группы происходило за
счет ухудшения положения другой. Так, за счет существенного ухудшения положе-
ния микроминоритариев (акционеров и участников с долей до 1%) выиграли хозяй-
ственные общества и их контролирующие акционеры (участники), а равно прочие
инсайдеры. Напротив, за счет некоторого улучшения положения акционеров-
истцов, владеющих более 1% голосов, было ухудшено — в сравнении с ранее су-
ществовавшим правовым режимом — положение обществ (контролирующих ак-
ционеров). Сложно оценить в количественном выражении, насколько ухудшения
от нового регулирования для хозяйственных обществ и крупных акционеров соот-
носятся с выгодами, полученными ими же от ограничения права оспаривания сде-
лок мелкими акционерами. Если выгоды перевешивают негативные последствия,
то суммарно реформа оказывается выгодной обществам и крупным акционерам
и, напротив, невыгодной миноритариям. При иной оценке (выгоды акционеров
перевешивают выгоды обществ или выгоды одних уравновешивают их же поте-
ри) эффект реформы может быть неоднозначным: например, может оказаться, что
принципиально ни одна группа не ухудшила, но и не улучшила свое положение.
Тогда реформа также не будет признаваться Парето-улучшением, хотя, возможно,
она будет продвигать правопорядок ближе к Парето-фронтиру. В последнем случае
реформа, несмотря на отсутствие Парето-улучшения, тем не менее может быть же-
лательна для правопорядка.
Если сравнивать изменение полезности субъектов, затрагиваемых таким регу-
лированием, не по линии акционеров, а по линии «хозяйственное общество —
контрагенты хозяйственного общества по сделке», то рассматриваемая реформа
и тогда вряд ли может быть квалифицирована как Парето-улучшение. Если верно
утверждение, что сделка может быть признана недействительной сугубо по фор-
мальным основаниям (сделка рыночная, но не была одобрена по установленной
процедуре), то отныне контрагентам общества стало хуже. Напротив, обществам и
контролирующим их лицам стало проще добиться аннулирования сделки. Тем са-
мым происходит перераспределение полезности: за счет контрагентов выигрывает
общество, одна группа страдает, вторая получает выгоды. Если от нового регули-
рования страдают миноритарии, лишающиеся права на обжалование, то за счет
ограничения их прав выигрывают контрагенты обществ, соответственно, проис-
ходит перераспределение полезностей ценой утраты миноритариями своих прав
и получения выигрыша контрагентами. В первом и во втором случае нет места
Парето-улучшению, налицо простое перераспределение полезностей, пусть и не
вполне соразмерное. Следовательно, и в данном смысловом контексте проведен-
ная реформа не отвечает критериям эффективности по Парето.
Настало время подвести некоторый промежуточный итог. Из наблюдений на при-
мере реформы лишь трех норм, посвященных регулированию довольно частных
вопросов гражданского права, можно сделать ряд предварительных выводов о том,
насколько Парето-улучшение и Парето-эффективность могут использоваться как
реалистичные критерии оценки эффективности правовых конструкций.
Во-первых, чем дальше текущее регулирование от возможного Парето-фронтира,
тем больше для конкретного правопорядка доступно опций политико-правового
выбора, которые могут не приводить к установлению Парето-эффективного право-
111
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
вого решения, и более того, не являться даже Парето-улучшением, но тем не менее
будут желательны для правопорядка. Такие движения в праве, не отвечающие кри-
терию эффективности по Парето, могут тем не менее быть желательными. Однако
для оценки этой желательности необходим другой критерий эффективности. Имен-
но это и заставляет обратиться к критерию Калдора — Хикса, описанному ниже.
Во-вторых, подобные движения из текущей позиции по направлению к Парето-
фронтиру зачастую не являются Парето-улучшением, поскольку представляют со-
бой редиструбутивные правовые построения — нормы, направленные на перерас-
пределение благ от одной группы, имевшей прежде, до инициирования реформы,
сравнительно более выгодное регулирование, в пользу другой группы субъектов.
Подобное перераспределение благ обычно обосновывается неэкономическими
соображениями15 (нравственность, политический аффект), соответственно, по-
явление и продвижение подобных нерациональных с точки зрения теории рацио-
нального выбора политико-правовых решений объясняется тем, что законодатели
и регуляторы могут продвигать свою повестку, не опирающуюся на соображения
Парето-эффективности. Однако даже если конкретный политико-правовой выбор
в сфере регулирования экономических отношений объясняется исключительно по-
пулизмом политиков, а конкретное правовое решение, реализованное политиками,
но не отвечающее критериям эффективности по Парето, оказывается лежащим на
векторе движения в сторону Парето-фронтира, то подобное Парето-неэффективное
решение все равно следует признать желательным для правопорядка.
В-третьих, оценка того, насколько то или иное изменение в правовом регулирова-
нии отвечает критерию Парето-улучшения или Парето-эффективного решения,
во многом зависит от того, что понимать под улучшением или ухудшением от вновь
вводимого регулирования для конкретного лица или группы субъектов16. Если в ре-
зультате реформы положение лица изменяется, то далее можно переходить к оцен-
ке того, насколько конкретное изменение является Парето-улучшением (или даже
достигает Парето-эффективности) либо оно есть лишь банальная редистрибуция
благ. Однако если уровень изменений столь незначителен, несуществен, что им
можно пренебречь, либо сложно определить знак изменения для лица или груп-
пы субъектов (положительно оно или отрицательно), то все прочие рассуждения
становятся сугубо спекулятивными. Соответственно, любому анализу на предмет
Парето-улучшения должен предшествовать серьезный разговор по заданию систе-
мы координат: что считать улучшением для конкретного лица, а что — ухудшени-
ем. Без такой калибровки оценка Парето-эффективности нового регулирования
невозможна в принципе.
15
См., напр.: Thomas C. Grey, Property and Need: The Welfare State and Theories of Distributive Justice, 28 STAN.
L. REV. 877, 887 et seq. (1976); Bruce Ackerman, Regulating Slum Housing Markets on Behalf of the Poor: Of Hous-
ing Codes, Housing Subsidies and Income Redistribution Policy, 80 YALE L. J. 1093 (1971); Anthony T. Kronman,
Contract Law and Distributive Justice, 89 YALE L. J. 472 (1980); A. Mitchell Polinsky, Resolving Nuisance Disputes:
The Simple Economics of Injunctive and Damage Remedies, 32 STAN. L. REV. 1075, 1080-5 (1980); Richard Cras-
well, Passing on the Costs of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships, 43 STAN. L. REV.
361, 364-6 (1991); Jennifer H. Arlen, Should Defendants’ Wealth Matter? 21 J. LEGAL STUD. 413, 414-5 (1992);
Christine Jolls, Behavioral Economic Analysis of Redistributive Legal Rules, 51 VAND. L REV. 1653, 1656-7 (1998);
Martha T. McCluskey, Efficiency and Social Citizenship: Challenging the Neoliberal Attack on the Welfare State, 78
INDIANA L. J. 783, 787-95 (2003); Daphna Lewinsohn-Zamir, In Defense of Redistribution through Private Law,
91 MINN. L. REV. 326, 357-62 (2006).
16
См.: James M. Buchanan, The Relevance of Pareto Optimality, 6 J. CONFLICT RES. 341 (1962).
112
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Вероятно, приведенные выше примеры не являются репрезентативными, а в ре-
альной жизни изменения в праве отвечают критериям Парето-улучшения и даже
Парето-эффективности. Однако позволим себе выдвинуть другую гипотезу: значи-
тельная часть регулятивных установлений как раз не отвечает не только критериям
эффективности по Парето, но не является даже Парето-улучшением, а представляет
собой банальное перераспределение благ от одной группы субъектов в пользу дру-
гой. Причем такое интуитивное, не основанное на детально выверенных экономи-
ческих моделях поведение законодателей по введению новых правовых конструк-
ций объясняется не отсутствием экономических знаний либо недальновидностью.
Проблема, как представляется, более фундаментальна: законодательно навязанная
модель поведения, даже если она является результатом политико-правового движе-
ния из одной точки, отвечающей текущему положению дел, в другую, находящую-
ся чуть ближе к Парето-фронтиру, зачастую сопряжена с ухудшением положения
одной стороны. Ухудшение в данном случае — это оборотная сторона навязываемой
модели поведения, а такое навязывание есть «самое само» законодательного регули-
рования, если от него нельзя отступить по велению конкретной стороны. Иными
словами, законодательно навязываемые модели поведения, даже если введение их
в правопорядок преследует благие цели (например, улучшение положения отдель-
ных субъектов или групп субъектов), скорее всего, будут содержать элемент импе-
ративности, т.е. обязательности для других субъектов, из-за чего такие субъекты бу-
дут не в состоянии отступить от навязанного правила поведения. Если же субъект
запросто может исключить действие нормы права путем одностороннего акта, то
подобная норма будет необязательной для него, а потому возможный негативный
эффект от навязываемой нормы права может быть сведен на нет, следовательно, о
каком-либо ухудшении положения говорить нельзя.
Парето-улучшения и достижение Парето-фронтира типичны для свободного со-
гласования воль самостоятельных субъектов оборота17, находящихся примерно в
равном положении с точки зрения переговорных возможностей. Равенство пере-
говорных возможностей в данном случае означает не столько имущественное
равенство, сколько отсутствие информационной асимметрии: если бы стороны
обладали всей полнотой информации, то они сами могли бы прийти к Парето-
оптимальному решению. Именно это и следует из так называемой первой теоре-
мы о благосостоянии: общее равновесие системы конкурентных рынков является
Парето-эффективным; иными словами, рыночные трансакции могут привести к
достижению равновесия, которое будет отвечать критерию Парето-оптимальности,
что, по сути, есть пресловутая невидимая рука рынка А. Смита, пусть и перефор-
мулированная с учетом ряда допущений18.
17
Эта же мысль обычно выражается через ссылку на согласие того или иного субъекта, затрагиваемого
правовым установлением: Парето-улучшение предполагает согласие (Р. Познер) либо единогласие, ко-
торое и делает данный принцип нежизненным критерием (А. Кронман, Г. Калабрези) — cf., Richard A.
Posner, The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication, 8 HOFSTRA L. REV.
487, 491-2 (1980); Anthony T. Kronman, Wealth Maximization Is A Normative Principle, 9 J. LEGAL STUD. 227,
235 (1980); Guido Calabresi, The Pointlessness of Pareto, 100 YALE L.J. 1211, 1215-6 (1991). Однако намного
раньше названных авторов на этот же элемент Парето-улучшения указывал Н. Калдор, один из соз-
дателей принципа Калдора — Хикса: Nicholas Kaldor, Welfare Propositions of Economics and Interpersonal
Comparisons of Utility, 49 ECON. J. 549, 551 n. 1 (1939).
18
Joseph E. Stiglitz, The Invisible Hand and Modern Welfare Economics, in: INFORMATION STRATEGY AND PUBLIC POL-
ICY, D. VINES AND A. STEVENSON EDS. 12-50 (Oxford: Basil Blackwell, 1991); NBER Working Paper 3641 (1991).
113
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
К сожалению, в реальном мире участники оборота не обладают всей полнотой
информации, а потому трансакции на рынке с положительными трансакционны-
ми издержками не приведут к достижению рыночного равновесия, которое было
бы Парето-эффективным. Подобное несовершенство рынка вызывает к жизни
правовое регулирование, направленное на перераспределение благ, точнее, прав
на блага, и минимизацию проблемы информационной асимметрии, однако такое
регулирование на деле может оказаться еще далее отстоящим от идеала Парето-
эффективности. Государственное вмешательство необязательно будет представлять
Парето-улучшение (что, как было показано выше, следует из того, что навязанная
модель поведения как минимум для одного субъекта, как правило, приводит к ухуд-
шению его положения в свободном переговорном процессе), но при этом оно же
может снизить возможности для Парето-улучшений в результате индивидуальных
сделок. Соответственно, такая интервенция и должна быть объектом специальной
оценки, позволяющей сопоставлять выигрыши и проигрыши разных сторон. Зада-
чу «взвешивания» выигрышей и проигрышей решает критерий Калдора — Хикса, к
более подробному рассмотрению которого можно наконец перейти.
1.2. Эффективность по Калдору — Хиксу
Как уже, видимо, стало понятно из раздела 1.1, Парето-эффективность — это кри-
терий, которому редко соответствует перераспределение прав благодаря измене-
нию правовых норм. В реальной жизни движение от одной правовой конструкции
к другой, как правило, предполагает большее или меньшее улучшение положения
одного лица при одновременном ухудшении другого. Однако даже в таком случае
возможно получить эффективные правовые построения, правда, эффективность
будет пониматься иначе, на основании критерия эффективности Калдора — Хикса.
Концепция Парето-улучшения предполагает изменение индивидуальных выи-
грышей в результате непосредственного двустороннего обмена. Со стороны эко-
номистов она служит главным обоснованием принципа свободы договора. Однако
этот подход далеко не всегда удовлетворяет потребности сопоставления альтерна-
тив в праве и особенно — в экономической политике. Представим себе гипоте-
тического общественного планировщика, стремящегося максимизировать общее
благо. Принимаемое им решение влияет на выигрыши А и В как субъектов, затра-
гиваемых решениями планировщика (законодателя или регулятора). В отличие от
рассмотренного выше Парето-улучшения, изменение выигрышей происходит не
в результате свободного обмена, а из-за внешнего для них решения, в том числе
за счет так или иначе императивного регулирования, т.е. нормы права, от которой
сторона не может отступить по своему усмотрению. В этом случае изменение будет
считаться эффективным по критерию Калдора — Хикса, если сумма изменения выи-
грышей сторон положительна или, что то же самое, выигрыши выигравшей стороны
превышают проигрыш стороны проигравшей19. Главное отличие перераспределения,
19
В такой формулировке критерий Калдора — Хикса объединяет два ограничения, предложенные обои-
ми авторами. Согласно подходу Н. Калдора перераспределение полезностей (благ) эффективно, если
выигравшая сторона способна компенсировать потери проигравшей. По Дж. Хиксу, перераспределе-
ние эффективно, если справедливая компенсация потерь проигравшей стороны не заставила выиграв-
шую сторону отказаться от такого перераспределения. Cf.: Kaldor, supra note 17, at 550; John R. Hicks, The
Foundations of Welfare Economics, 49 ECON. J. 696, 706 (1939).
114
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
эффективного по Калдору — Хиксу, от Парето-улучшения — гипотетический ха-
рактер компенсации проигравшей стороне.
Однако в критерии Калдора — Хикса есть и другое существенное отличие от идей
Парето. Суждения об эффективности или улучшении по Парето обычно имеют
отношение к индивидуальным предпочтениям (выражаемым при этом в виде ор-
диналистской полезности, когда некое благо конкретного субъекта более предпо-
чтительно, чем какое-то иное благо), но не в терминах общей полезности20, т.е.
Парето-принципу, в общем, безразличны выигрыши социальной группы или
общества в целом. Напротив, критерий Калдора — Хикса за счет взвешивания вы-
год одних и проигрышей других уже на уровне самой идеи предполагает, что на
передний план выступают интересы некоторого большинства в группе, а значит,
исходя из этого критерия предпочтения отдельного субъекта могут быть так или
иначе проигнорированы, принесены в жертву некоему общему благу.
Правда, из этого свойства критерия Калдора — Хикса следует и его уязвимость.
Гипотетически возможна ситуация, когда и переход из состояния А в состояние В
и обратный переход будут изменениями, соответствующими критерию Калдора —
Хикса. Для этого необходимо, чтобы группа, предпочитающая А, меньше теряла от
перехода к В, чем выигрывала от перехода от В к А (и наоборот). Подобный фено-
мен в экономической литературе известен под названием парадокса Скитовского21.
Любое Парето-улучшение соответствует критерию эффективности Калдора —
Хикса, но обратное неверно: множество изменений, эффективных по Калдору —
Хиксу, Парето-улучшением не являются. Именно поэтому зачастую критерий
Калдора — Хикса называют также потенциальным Парето-улучшением22, ведь со-
ответствующее этому критерию изменение может приводить к Парето-улучшению
или даже достигать Парето-фронтира, и при этом быть одним из них, обоими сразу
или ни одним вообще23.
В литературе экономического анализа права применение критерия Калдора — Хик-
са к оценке эффективности хорошо иллюстрируется на примере запрета картелей.
На секунду представим себе, что запреты на картели универсально эффективны.
Абстрагируемся от издержек правоприменения, включая работу антимонополь-
ных органов и судов. В таком случае эффектом от запрета картелей будет перерас-
пределение выигрышей от продавцов к покупателям на рынке (рис. 4). Выигрыш
потребителей составляет сумму разностей между максимальной ценой, которую
они готовы платить, и той ценой, которую они фактически платят. Выигрыш про-
изводителей — сумма разностей между той ценой, по которой они продают фак-
тически, и минимальной ценой, по которой они готовы продавать24. В соответ-
20
См.: Jules L. Coleman, Efficiency, Utility, and Wealth Maximization, 8 HOFSTRA L. REV. 509, 516 (1980).
21
См.: Tibor De Scitovszky, A Note on Welfare Propositions in Economics, 9 REV. ECON. STUD. 77 (1941).
22
См.: Calabresi, supra note 17, at 1222.
23
См.: Jules L. Coleman, Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach to Law,
68 CALIF. L. REV. 221, 240 (1980).
24
При стандартном наборе предпосылок (долгосрочный период, постоянная отдача от масштаба) выи-
грыш производителей эквивалентен прибыли; в нашем конкретном случае удобнее думать о прибыли,
утраченной участниками картеля в результате антимонопольных запретов.
115
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
ствии с результатами Дж. Коннора типичная цена картеля превышает ту, которая
установилась бы на рынке в результате конкуренции тех же самых продавцов, не
заключивших картельное соглашение, и на 20–30% выше, чем цена на сравнимом
конкурентном рынке25. Подобная политика, направленная на искоренение карте-
лей, эффективна по Калдору — Хиксу, причем даже если не учитывать издержки
предотвращения картелей: она эффективна при любом превышении цены картеля
над ценой, установившейся в результате конкуренции. Причина — действие за-
кона спроса: понижение цены приводит к росту величины спроса. Вот почему при
любом снижении цены повышение выигрыша потребителей превосходит сниже-
ние прибыли участников картеля.
Потери прибыли участников
картеля
РМ — Дополнительные
цена выигрыши потребителей
картеля
РC — цена
в условиях
конкуренции
QМ — QC —
количество количество
картеля конкуренции
Q
Рис. 4. Перераспределение выигрышей после запрета картеля
Примечание. Запрет на картели соответствует критерию эффективности по Калдору — Хик-
су. Снижение прибыли участников картеля (заштрихованный вертикальными линиями прямо-
угольник на графике) меньше роста выигрыша потребителей (на графике — заштрихованная
косыми линиями трапеция, включающая помимо прямоугольника, равного прибыли участни-
ков картеля, который теперь перераспределяется в пользу покупателей, также дополнитель-
ный треугольник, отражающий дополнительные выигрыши потребителей, полученные за счет
повышения величины спроса).
25
См.: John M. Connor and Yuliya Bolotova, Cartel Overcharges: Survey and Meta-Analysis, 24 J. INDUSTR. ORG.
1109 (2006).
116
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Пример эффективности запрета картеля типичен для применения критерия Кал-
дора — Хикса. Потери прибыли участников картеля не компенсируются — покупа-
тели не «выкупают право на изменение». Уровень полезности участников картелей
снижается. Для вывода об эффективности достаточно превышения выигрышей
выигравшей стороны над потерями стороны проигравшей. Среди доступных аль-
тернатив эффективна та, которая обеспечивает наибольшее превышение суммар-
ных выигрышей над суммарными проигрышами. Иначе этот критерий известен
как критерий максимума общественного благосостояния.
Заметим, что критерий эффективности Калдора — Хикса основан на гораздо
большем числе предпосылок по сравнению с концепцией Парето-улучшения.
Например, концепция Парето-эффективности и Парето-улучшения не требует
сопоставления индивидуальных полезностей между участниками распределения
А и В. Для установления факта Парето-улучшения достаточно, чтобы участни-
ки распределения могли ранжировать полезность доступных для них наборов и
определять выгодные пропорции обмена. Но совершенно не нужно сопостав-
лять изменение полезности А с изменением полезности В в результате Парето-
улучшения: достаточно, что полезность ни одного не понизилась. Напротив, при-
менение критерия Калдора — Хикса предполагает необходимость сопоставления
выигрышей участников, затронутых конкретным изменением. Чаще всего в каче-
стве универсальной меры рассматриваются выигрыши, измеренные в деньгах, —
как в приведенном выше примере про перераспределение денег от картелей к по-
купателям.
Хотя для применения критерия Калдора — Хикса обычно используется измерение
выигрышей в денежных единицах, в общем случае это вовсе не обязательно. Более
того, бывают случаи, когда эффективность перераспределения по Калдору — Хик-
су можно показать, только перейдя от денежных единиц к полезности.
Экономическая теория согласуется со здравым спросом в том, что полезность
одного рубля в кармане неимущего выше полезности этого же рубля в кармане че-
ловека с высоким доходом. Если принимать во внимание изменение полезности,
а не изменение богатства, то политика перераспределения богатства в пользу бед-
ных заведомо эффективна по Калдору — Хиксу, если сумма перераспределяемого
богатства не меняется. Авторы многих программ экономической политики, гово-
ря о том, что одни целевые группы больше нуждаются в правовой защите за счет
других, неявно предполагают разную полезность денежных единиц для разных
групп, затронутых изменением. Очевидны аналитические проблемы, связанные с
подобными сопоставлениями: при отсутствии единой объективной шкалы изме-
рения они неизбежно опираются на произвольное определение ценности благ для
разных групп.
Однако выводы о влиянии перераспределения на эффективность наталкиваются
и на более серьезные проблемы. Разная полезность денег для богатых и бедных
исторически была источником дискуссии между А. Лернером и М. Фридманом26.
Лернер ввел концепцию распределительной эффективности (distributional efficiency).
26
См.: ABBA P. LERNER, THE ECONOMICS OF CONTROL (New York: Macmillan Co., 1944); Milton Friedman, Lerner
on the Economics of Control, 55 J. POL. ECON. 405 (1947).
117
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
В рамках этой концепции распределение благ признается эффективным, когда
оно максимизирует сумму совокупной полезности в обществе. По Лернеру, в силу
действия закона снижающейся предельной полезности перераспределение еди-
ницы денег от богатых к бедным увеличивает суммарную полезность, поскольку
предельная полезность объекта перераспределения для бедного выше, чем для бо-
гатого. В случае идентичных предпочтений в отношении денежных единиц рас-
пределительная эффективность достигается при выравнивании располагаемых
денежных сумм между членами общества. Этот тезис, безусловно, поддерживает
активное перераспределение доходов и стремление к созданию равных условий
для участников распределения в целом.
Возражение Фридмана состоит в следующем. Доходы представляют собой резуль-
тат производительного использования имеющегося в распоряжении индивида ре-
сурсов. Ожидаемое перераспределение доходов снижает стимулы тех, кто может
стать богатыми, к производительному использованию имеющихся в их распоря-
жении ресурсов. Тем самым снижается масса благ, подлежащих распределению.
В терминах Парето-эффективности в данном случае ограничивается множество
доступных наборов благ. В терминах эффективности по Калдору — Хиксу — сни-
жается благосостояние как общая сумма выигрышей. Активное перераспреде-
ление полученных доходов ведет к сокращению суммы доходов из-за снижения
стимулов производительного использования ресурсов. В целом экономическая
теория фиксирует проблему компромисса между справедливостью и эффектив-
ностью (как по Парето, так и по Калдору — Хиксу), но не предлагает ее общего
решения27.
Очевидным преимуществом критерия Калдора — Хикса является доступность и
наглядность практического применения. Вернемся к приведенному выше приме-
ру запрета на картели. Если к изменению выигрышей продавцов и покупателей
добавить издержки правоприменения, можно получить критерий эффективности
конкурентной политики. Например, конкурентное ведомство Великобритании
(Competition and Market Authority, CMA) в соответствии с обязательствами перед
парламентом должно обеспечивать, чтобы выигрыши покупателей от деятельно-
сти агентства превосходили затраты на его функционирование (т.е. издержки для
налогоплательщиков) в пропорции 10 : 128. Аналогичные критерии результатив-
ности используются для оценки деятельности Федеральной комиссии по торговле
США (Federal Trade Commission US) и Директората по конкуренции Европейской
комиссии (Directorate General for Competition).
27
Компромисс означает, что при очень высоком уровне неравенства перераспределение доходов по-
вышает эффективность (в терминах эффективности Калдора — Хикса), но до тех пор, пока влияние
перераспределения как такового превосходит эффект снижения стимулов к созданию стоимости.
Однако начиная с некоторого уровня перераспределения эффект снижения стимулов к созданию
стоимости становится слишком значительным для того, чтобы перераспределение повышало эффек-
тивность. При этом значение имеют не только масштабы, но и форма перераспределения. Отрица-
тельное воздействие перераспределения на стимулы тем выше, чем сильнее оно увязано с величиной
создаваемой стоимости. Меньшее угнетение стимулов приносит перераспределение первоначально-
го запаса.
28
См.: The Competition and Markets Authority, Competition and Market Authority Annual Plan 2016/17, at 28
(2016), available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/508136/
AP2016-17-final_PRINT.pdf.
118
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Само описание критерия Калдора — Хикса указывает на то, что он гораздо
чаще применяется для оценки правовых изменений, нежели критерий Парето-
эффективности или Парето-улучшения. По определению правовые изменения
должны использоваться для урегулирования взаимоотношений сторон, интересы
которых противоположны. Законодательные нормы определяют принципы рас-
пределения издержек между этими сторонами. Эффективной признается норма,
предписывающая такое распределение издержек, которое максимизирует суммар-
ные выигрыши. Р. Познер, пожалуй, самый влиятельный современный исследо-
ватель экономического анализа права, обосновывает преимущества критерия эф-
фективности Калдора — Хикса для оценки действующих норм29.
Рассмотрим проблему неумышленного причинения ущерба (например, при до-
рожно-транспортном происшествии). Если представить отсутствие ответствен-
ности даже за неумышленное причинение ущерба того, кто стал его причиной, то в
рамках взаимодействия двух сторон никакая компенсация пострадавшей стороне
не может выступать Парето-улучшением, поскольку это снизит полезность того,
кто стал причиной нанесения вреда. Гипотетическое отсутствие ответственности
за ущерб не является нормой, эффективной с точки зрения общества, поскольку
снижает стимулы прилагать усилия по предотвращению такого ущерба. Однако и
строгая (безусловная) ответственность тоже не является эффективной нормой, по-
скольку вероятность неумышленного причинения ущерба зависит также и от усилий
потенциально пострадавшей стороны. Гарантия компенсации снизила бы усилия
пострадавшей стороны и повысила вероятность наступления ущерба. В обоих слу-
чаях — и при отсутствии ответственности, и при строгой ответственности — потери
общества в результате неумышленного причинения ущерба будут выше по сравне-
нию с третьим вариантом, а именно возложением ответственности за причинение
ущерба на его виновника при несоблюдении стандарта должной предосторожно-
сти30. Общественно эффективен тот уровень должной предосторожности, примене-
ние которого создает стимулы для таких усилий сторон, которые сопровождались
бы минимальной суммой затрат на предотвращение ущерба и минимальным раз-
мером причиненного ущерба как такового. Важно подчеркнуть, что эффективный
уровень предосторожности не обеспечивает ни полного предотвращения ущерба, ни
его гарантированной компенсации.
В отличие от предыдущего раздела, где попытки найти Парето-улучшения или
достижение Парето-эффективности на примере всего нескольких норм права по-
казали всю тщетность применения данного критерия эффективности к вопросам
правового регулирования, эффективность Калдора — Хикса может быть обнару-
жена в тех или иных правовых построениях, введенных в гражданское право как
в последнее время, так и достаточно давно.
Подобные примеры показательны не столько для сравнения «было — стало», кото-
рое можно наблюдать, если исследовать конкретную правовую реформу, сколько
29
См.: Posner, supra note 17.
30
Пример причинения вреда, в том числе неумышленного, приведен неслучайно. Для Р. Познера прин-
цип должной предосторожности и его применение в системе общего права — один из центральных объ-
ектов анализа. На его примере он демонстрирует, каким образом в системе общего права именно этот
принцип существенно изменяет ландшафт правовой среды. Подробнее см.: Познер Р.А. Экономический
анализ права. Т. 1. СПб., 2004 (глава 6 «Законодательство о неумышленном причинении ущерба»).
119
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
в ситуации самого введения правила, при сравнении ситуации, если бы она не была
урегулирована правом вообще, т.е. ситуацию абсолютно свободного переговорно-
го процесса, и ситуацию, которая возникает после введения конкретной нормы
права. Так, если от введения правила поведения (от регулятивного вмешательства)
выигрыш одной стороны оказывается больше проигрыша другой, то можно гово-
рить об эффективности нормы права с точки зрения Калдора — Хикса. Изменение
может соответствовать критерию Калдора — Хикса, даже если выигрывающая сто-
рона не только получает выигрыш, но и несет некоторые дополнительные затраты.
Например, слабая сторона по договору или миноритарный акционер корпорации
получают право на иск, но при этом утрачивают возможность ссылаться на нару-
шения, которые прежде облегчали им процесс доказывания, или для них вводятся
сокращенные сроки на обжалование и т.д. Однако если в сумме все же выигрыш от
нового регулирования больше у одной стороны, чем проигрыш у другой, то такая
реформа будет эффективной в смысле эффективности по Калдору — Хиксу.
Пример 4. Право собственности: требование об обязательной регистрации перехо-
да права на недвижимость (п. 1 ст. 131 ГК РФ). Согласно названной норме закона
право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Поскольку государственная регистрация в таком случае является единственным
подтверждением существования (принадлежности, перехода) права, то без состо-
явшейся регистрации наступают серьезные последствия для лица, которое могло
приобрести недвижимость на законном — в отсутствие иных нарушений — осно-
вании: если регистрация не произведена, лицо не будет рассматриваться правом
как собственник соответствующего имущества.
Эффективной по Калдору — Хиксу будет лишь такая система регистрации прав,
издержки от введения которой оказываются меньше, чем общие выигрыши для
всех от ее введения. На первый взгляд указанная норма гражданского законода-
тельства не сопряжена с излишними издержками для собственника недвижимого
имущества: если издержки на регистрацию не запретительные, то в общем можно
однажды потратиться на регистрацию, если это обеспечивает бесспорность прав
на будущее. В таком случае как прямые издержки на регистрацию, которые долж-
ны нести все собственники недвижимости, так и издержки для тех, кто по тем или
иным причинам не обеспечил надлежащую регистрацию принадлежащего им ти-
тула, а значит, столкнулся с негативными последствиями ее отсутствия, не идут
ни в какое сравнение с тем, что получают все прочие собственники недвижимости
и участники оборота вообще: формализация и сравнительно высокая защищен-
ность их прав собственности. Соответственно, остается основной вопрос полити-
ки права — уровень издержек, связанных с регистрацией права. Если издержки на
регистрацию не являются высокими, а тем более запретительными, то все участ-
ники оборота выигрывают. Общая сумма выигрышей оказывается несоизмеримо
больше, чем сумма проигрышей, следовательно, регистрационная система прав
на недвижимость оказывается экономически эффективной с точки зрения Кал-
дора — Хикса.
Более нюансированное рассмотрение данной нормы-принципа, правда, показы-
вает сложности, связанные с реализацией этой правовой конструкции. Во-первых,
120
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
насколько запись в Едином реестре прав на недвижимое имущество действитель-
но является гарантией неоспоримости права, однажды приобретенного на закон-
ном основании и, соответственно, зарегистрированном в реестре? Ведь очевидно,
что если запись (регистрация права или его перехода) в реестре может быть легко
аннулирована, пусть даже в рамках судебной процедуры, то регистрационная си-
стема мало что дает в смысле укрепления права. Если ранее произведенные реги-
страции могут довольно легко отменяться впоследствии, то реестр превращается
лишь в информационный ресурс, отражающий актуальное состояние, но в плане
достоверности содержащихся в нем сведений он оказывается абсолютно бесполез-
ным. Напротив, если запись, однажды внесенная в такой реестр, оказывается не-
отменяемой в принципе, то можно столкнуться с другой крайностью, когда любое
внесение данных в реестр будет иметь конституирующее значение для права: кто
однажды был внесен в реестр как собственник, тот и будет признаваться собствен-
ником несмотря ни на что.
Очевидно, что правопорядок должен найти такое положение между обозначен-
ными крайностями, которое бы позволяло обеспечить доверие к реестру прав
и укреплять переход прав, реально совершающийся на основании договоров,
свободно заключаемых участниками оборота, а не путем проведения записей в
каком-то реестре; вместе с тем нужно исключить возможные злоупотребления
участников оборота, а тем более использование внесения записей в реестр как
основание, осложняющее защиту нарушенных прав собственников недвижимо-
го имущества.
Во-вторых, если регистрационная система покрывает собой лишь оборот земли
как единственного объекта права собственности, то особых юридических про-
блем такой институт не порождает, конечно, если есть сформированный земель-
ный участок или находящиеся на нем строения и сооружения детально описаны.
Однако как только объектом оборота становятся иные объекты, признаваемые
недвижимостью наравне с земельным участком, регистрационная система на-
чинает создавать шум и негативные последствия от правила об обязательной ре-
гистрации каждого объекта недвижимости и каждого перехода прав начинают
оказываться чрезвычайно существенными. Возникает вопрос: не превышают ли
издержки от необходимости регистрации каждый раз всего и вся тот выигрыш,
который дает регистрационная система обороту? Речь в данном случае идет о том,
что вслед за земельным участком регистрации начинают подлежать здания, за
ними — отдельные помещения или квартиры, потом — части таких помещений,
места общего пользования в зданиях, а снаружи зданий — заборы, асфальтовые
покрытия, памятники и далее до дурной бесконечности. Дробление и атомизация
объектов, которые «неразрывно связаны с землей», а потому, как и земельный
участок, подлежат регистрации под страхом оспоримости права, приводит к тому,
что в реестр начинает попадать то, что с позиций простой рассудочной логики не
является недвижимостью. Однако участники оборота, либо обеспокоенные укре-
плением своего титула, либо под воздействием навязанного контрагентами по-
нимания правил о необходимости регистрации распространяют необходимость
регистрации на те объекты, которые изначально, возможно, не предполагалось
регистрировать. Соответственно, такое распространение регистрационного нача-
ла, точнее, издержки, связанные с ним, может в перспективе перекрыть выигры-
ши от самой идеи регистрационного начала для недвижимости.
121
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
Таким образом, если правопорядок может провести тонкую настройку по двум
указанным направлениям, то обязательность регистрации недвижимости будет
оставаться эффективным правовым решением с точки зрения критерия Калдо-
ра — Хикса31.
Пример 5. Договорное право: приоритет буквального текста договора над намере-
нием сторон при разрешении споров о толковании условий договора (ст. 431 ГК
РФ). В силу указанной нормы закона суд при толковании условий договора обязан
по общему правилу руководствоваться буквальным содержанием, т.е. исходить из
того, что формально выражено в договоре. В первую очередь для целей прочтения
договора важны содержащиеся в нем слова и выражения, а если буквальное зна-
чение отдельного условия договора неясно, то его смысловое содержание устанав-
ливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Тем самым в вопросах толкования договора, установления смысла того, о чем сто-
роны договорились, право отдает предпочтение не истинной воле сторон, а тому,
что стороны формализовали на бумаге, или иным образом зафиксированным до-
говоренностям.
У подобной позиции есть негативная сторона: следуя сугубо формальному под-
ходу, закрепленному в позитивном праве, суд может проигнорировать (и будет по
факту игнорировать в абсолютном числе случаев) реальные намерения сторон. Бо-
лее того, буквальное содержание заключенного договора из-за упущений одной
или обеих сторон может оказаться не содержащим некоторых положений, которые
стороны фактически согласовали, но забыли включить в финальную версию до-
кумента. Если иные способы, позволяющие восполнить волю сторон и описанные
в ст. 431 ГК РФ, не дают возможности понять, как реальное соглашение сторон
соотносится с тем, что получило отражение в финальной версии договора, то по-
добный формализм сыграет против сторон договорного обязательства. Тем самым
проигрыш одной или всех сторон конкретного договора может быть большим, чем
выигрыш от рассматриваемой нормы закона. Однако если соотнести этот единич-
ный проигрыш (либо все схожие проигрыши всех участников оборота) с выигры-
шами всех прочих участников оборота, заключающих десятки тысяч договоров,
а равно тысяч судей, рассматривающих затем договорные споры и толкующих до-
говорные условия из дня в день, становится понятным, насколько экономически
эффективной по Калдору — Хиксу является рассматриваемая норма.
С позиций оборота выигрыши от данной нормы на несколько порядков превыша-
ют проигрыши тех, кто по тем или иным обстоятельствам вынужден примириться
с буквальным содержанием договора, неадекватно отражающим реально достиг-
нутые договоренности сторон. Более того, подобная норма является эффектив-
ной и с точки зрения обеспечения дисциплинированности участников оборота:
требование к судам следовать в толковании договоров буквальному содержанию
их условий заставляет участников оборота формулировать договорные условия
максимально детально и недвусмысленно, в противном случае их договоренности
31
Один из вариантов неэффективной организации регистрации прав собственности — ее запретительно
высокие издержки. Э. де Сото описывает на примере Перу систему, когда получение и регистрация
прав собственности сопряжена с запретительно высокими издержками, см.: Сото Э. де. Иной путь:
невидимая революция в третьем мире / пер. с англ. Б. Пинскер. М., 1995. Это одно из самых ярких
описаний всех механизмов создания неэффективности в системе спецификации прав собственности.
122
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
рискуют оказаться не исполненными так, как стороны изначально задумали. Со-
ответственно, право переносит риск любой двусмысленности и неясности на сами
стороны договора, заставляя их либо нести этот риск и реализовывать его в буду-
щем путем незащищенности своих действительных договоренностей, либо мини-
мизировать (исключать вовсе) его за счет детализации контракта.
В общем, в этой же логике в рамках договорного права находится законодатель-
ное перераспределение риска32 между сторонами договорного обязательства, ког-
да в законе устанавливается дефолтное (от англ. default rule — «правило по умол-
чанию») распределение риска в пользу той или иной стороны по договору. Так,
риск случайной гибели вещи, передаваемой по договору (п. 1 ст. 459 ГК РФ), риск
фактического неполучения юридически значимого уведомления, если оно было
отправлено (ст. 165.1 ГК РФ), риск неполучения безналичного платежа кредито-
ром, если денежные средства были перечислены должником и зачислены на кор-
респондентский счет банка кредитора (п. 1 ст. 316 ГК РФ, п. 26 постановления
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их
исполнении»), — все эти, а также многие иные примеры отнесения риска на одну
из сторон по договору позволяют за счет проигрыша одного субъекта обеспечить
превосходящие его выигрыши всех прочих участников оборота.
Такое превышение выигрышей всех прочих лиц над проигрышами лица, на ко-
торое относится риск, достигается, во-первых, за счет снятия риска с лица, ко-
торое совершает минимальный набор действий, требуемый по закону, а потому
заставляет — как в случае с детализацией условий контракта — сделать все, чтобы
минимизировать наступление риска, а значит, имеет стимулирующее значение
для участников оборота; во-вторых, путем задания заранее известного правила по-
ведения, которое срабатывает, если стороны не предусмотрели иного, а следова-
тельно, такое правило позволяет в будущем довольно быстро снимать спор о том,
кто несет риск, если он все же наступил; соответственно, оно восполняет договор
там, где стороны не согласовали специальное условие на сей счет (сокращение из-
держек участников оборота на поиск и согласование условия, которое в иной си-
туации им пришлось бы вырабатывать самостоятельно).
Итак, во всех отмеченных примерах из области договорного права проигрыш еди-
ничного субъекта, который, к несчастью для него, окажется крайним в смысле
несения риска, возлагаемого на него правом, противопоставляется выигрышам
всех прочих субъектов оборота, которые ограждаются подобными нормами права
как от несения соответствующего риска, так и от неопределенности, которую в
иной ситуации они бы ощущали. Очевидное превалирование последних хотя бы
по числу дает многократное превышение выигрышей над проигрышами, а потому
рассмотренные правовые построения с легкостью могут быть отнесены к эффек-
тивным в смысле эффективности по Калдору — Хиксу.
Пример 6. Корпоративное право: правила о непорождающих правовых послед-
ствиях, т.е. изначально юридически недействительных решениях общих собра-
ний акционеров, если они приняты с нарушением компетенции или необходи-
32
Подробнее см.: Архипов Д.А. Указ. соч.
123
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
мого для их принятия кворума либо количества голосов (п. 10 ст. 49 Закона об
АО). В силу названной нормы корпоративного законодательства решение общего
собрания акционеров, если оно принято по вопросам, не включенным в повестку
дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли
участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего со-
брания акционеров, в отсутствие кворума или без необходимого для принятия
решения большинства голосов акционеров, вообще не имеет силы независимо
от обжалования в судебном порядке, в отличие от прочих решений собраний
акционеров, принятых с какими-либо нарушениями: все прочие решения пред-
полагают режим оспоримости, т.е. могут признаны недействительными лишь по
решению суда (п. 7 ст. 49 Закона об АО). Аналогичная норма, провозглашающая
изначально недействительными решения общего собрания участников, если они
приняты в отсутствие необходимого количества голосов и других похожих нару-
шений, предусмотрена для обществ с ограниченной ответственностью (п. 6 ст. 43
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»), а с 01.09.2014 также для всех прочих коллективных образова-
ний (ст. 181.5 ГК РФ).
Возможный на практике проигрыш от столь жесткой, драконовской нормы —
это аннулирование ex tunc et erga omnes правового эффекта от ранее совершенного
юридического факта, решения собрания, если было допущено одно из указанных
нарушений. Так, если решение должно быть принято 2/3 голосов, а в его при-
нятии фактически приняли участие 2/3 голосов за вычетом одного голоса (при
этом, к примеру, 2/3 голосов может быть представлено 2000 голосующих), то та-
кое решение по праву не будет признаваться принятым, а значит, не будет по-
рождать те правовые последствия, которые в иной ситуации могло бы породить.
Более того, если такое решение изначально недействительно, то его нельзя впо-
следствии никак ни излечить, ни исправить: из ничего не рождается что-либо.
Соответственно, участники корпоративных, а равно всех прочих коллективных
образований должны быть очень внимательны к процедурным вопросам, свя-
занным с принятием решений: если будут допущены нарушения процедурного
свойства, позволившие не заметить принятие решения с указанными наруше-
ниями, то корпорация или иное коллективное образование может полагать, что
имеется законное решение, однако по факту оно не порождает вовсе никаких
правовых последствий. Вместе с тем подобный ригоризм и ограничения, не до-
пускающие никакого исцеления решения, если были допущены конкретные на-
рушения, приводящие к проигрышу отдельных акционеров или корпораций, не
только уравновешиваются, но многократно перекрываются выигрышами, кото-
рые получают все в принципе корпорации (иные коллективные образования), а
также их акционеры.
Эта норма показывает позитивный эффект в двух смыслах. Во-первых, защищает
любую в принципе корпорацию и ее акционеров от появления банальных подде-
лок, подложных решений собраний акционеров, которые в иной ситуации снача-
ла требовалось признавать недействительными, а затем — если на основании та-
ких решений было что-то сделано (передано имущество, сформированы органы
управления, размещены акции и т.п.) — добиваться восстановления нарушенных
прав. Норма, которая автоматически провозглашает решение ничтожным, если
оно не удовлетворяет указанному минимуму юридической чистоты, защищает
124
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
ex ante любую и каждую корпорацию, а также ее участников от нарушения их
прав. Во-вторых, аналогично тому, как это работало в примере 5 из области до-
говорного права, данная норма дисциплинирует участников оборота и заставля-
ет их соблюдать минимум правовых установлений, обеспечивающих принятие
решений общими собраниями. Соответственно, под страхом наступления невы-
годных последствий в виде принятия непорождающих правовых последствий ре-
шений корпорации и их участники неявным образом подвигаются к тому, чтобы
соблюдать установленные ограничения по принятию решений собраний.
Как и в примере 5, простое численное превалирование участников оборота (кор-
пораций, иных коллективных образований, а также их участников), получающих
выигрыш от рассмотренной нормы корпоративного права, над единичными кор-
порациями или их участниками, страдающими от столь жесткой правовой кон-
струкции, с очевидностью указывает на высокую эффективность нормы в смысле
Калдора — Хикса.
Промежуточный итог, который напрашивается исходя из приведенных приме-
ров проявления эффективности по Калдору — Хиксу, сводится к следующему.
Во-первых, в отличие от Парето-эффективности, критерий эффективности по
Калдору — Хиксу — более жизненная конструкция. Он ближе к реальной жизни и
не принадлежит исключительно сфере стилизованных экономических моделей.
Данный критерий может выступать в роли мерила эффективности того или ино-
го правового построения, особенно вводимого впервые, когда можно сравнивать
условно неурегулированное положение с тем, что наблюдается после введения
нормы права. Если общая сумма выигрышей после введения нового регулиро-
вания оказывается больше, чем сумма проигрышей, то соответствующая норма
может быть признана экономически эффективной с позиций данного критерия.
Во-вторых, ключевым моментом для того, чтобы составить обоснованное суж-
дение, является ли конкретное правовое построение эффективным по Калдо-
ру — Хиксу, выступает исчисление, «оцифровка» выигрышей и проигрышей.
Если расхождение между проигрышами одной группы субъектов и выигрышами
исчисляется порядками и совершенно очевидно, то для эффективности Калдо-
ра — Хикса нет особых проблем. Однако если выигрыши одних не столь очевид-
ны либо проигрыши других слишком значимы или если разница между выигры-
шами и проигрышами не бросается в глаза, то как, не скатываясь в спекуляции
или подгонку рассуждений под изначально заданный результат, составить аргу-
ментированное мнение о том, является ли конкретная норма права эффектив-
ной? Именно такие ситуации, неочевидные с точки зрения обычной логики, и
представляют основную проблемную область экономического анализа права и
рассуждений об эффективности правового регулирования. Некоторую помощь
в аналитическом решении данной проблемы дает анализ издержек и выгод от
правового регулирования (cost-benefit analysis)33, а также его прикладные методи-
ки в виде оценки регулирующего воздействия34. Конечно, подобный аналити-
33
См.: ANTHONY BOARDMAN, DAVID GREENBERG, AIDAN VINING, AND DAVID WEIMER, COST-BENEFIT ANALYSIS (4th
ed., Prentice Hall, 2010).
34
См.: Крючкова П.В., Шаститко А.Е. Оценка регулирующего воздействия и модернизация системы го-
сударственного регулирования // Общественные науки и современность. 2006. № 4. С. 21–31.
125
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
ческий инструментарий не решает до конца проблему оценочности отдельных
понятий, но все же предлагает конкретные инструменты для повышения точ-
ности оценки.
1.3. Открытые вопросы оценки эффективности правового
регулирования
Завершая разговор, нельзя еще раз не указать на проблемные зоны экономи-
ческого анализа права. Первой из них являются сложности измерения и сопо-
ставления выигрышей и издержек участников оборота35. Значительная часть
выигрышей и издержек не проявляется непосредственно в денежной форме. Ис-
пользование альтернативной ценности, т.е. выражение блага в денежной форме,
конечно, хороший принцип, но применить его в конкретных обстоятельствах
может быть непросто. Экономисты используют более или менее конвенциональ-
ные способы оценки даже неоценимого, например человеческой жизни36, однако
далеко не всегда подобные оценки удовлетворительны для сопоставления выи-
грышей и издержек. Одна из причин — блага являются предметом субъективной
оценки.
Значительная часть выигрышей и издержек не являются детерминированными.
В редких случаях можно оценить соответствие между величиной выигрышей и
издержек и вероятностью исходов, этим выигрышам и издержкам соответствую-
щих. Тогда выигрыши и издержки определяются как ожидаемые — средневзве-
шенные, где в качестве весов используются вероятности наступления исходов.
Проблема, заметим, этим не решается, поскольку участники распределения мо-
гут по-разному относиться к риску. Для одного из них гарантированное получе-
ние 100 руб. эквивалентно получению 200 руб. и нуля с равной вероятностью (в
этом случае говорят о нейтральном отношении к риску). Но для другого участ-
ника гарантированные 100 руб. обладают большей полезностью, чем равноверо-
ятные 200 и ноль (говорят, что он не приемлет риск или относится к риску отри-
цательно). Сопоставление суммарных выигрышей и издержек должно учитывать
эти обстоятельства. Но и этим сложности не ограничиваются. Существенная
часть возможных выигрышей и издержек — предмет неопределенности в том
смысле, что соотношение между конкретными величинами и вероятностью со-
ответствующих исходов неизвестно.
35
Над этой проблемой бились как Парето и его последователи, так и их критики, включая А. Бергсо-
на, который во многом именно для ее решения предложил концепцию социальной велфэр-функции
(social welfare function) как математической функции, агрегирующей персональные предпочтения всех
членов социума и отражающей некую «результирующую» всех индивидуальных предпочтений, см.:
Abram Burk (Bergson), A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, 52 Q. J. ECON. 310 (1938).
О развитии данной проблематики впоследствии см.: John C. Harsanyi, Cardinal Welfare, Individualistic
Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, 63 J. POL. ECON. 309 (1955); James M. Buchanan, Positive
Economics, Welfare Economics, and Political Economy, 2 J. L. & ECON. 124, 127-30 (1959); Richard A. Posner,
Utilitarianism, Economics, and Legal Theory, 8 J. LEGAL STUD. 103, 113-19 (1979).
36
Выдающийся пример подобной оценки см., напр.: Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий ка-
питал России // Вопросы экономики. 2013. № 1. С. 27–47.
126
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Вторая принципиально не решенная проблема связана с уже упоминавшийся про-
блемой соотношения эффективности и справедливости. Общественное благосо-
стояние как универсальный критерий эффективности может быть применен к ре-
зультатам отношений, предполагающим перераспределение выигрышей от одних
участников к другим. Однако консенсус по поводу того, каким универсальным
критерием справедливости можно пользоваться для оценки соответствия перерас-
пределения этическим нормам, отсутствует. Этот вопрос непосредственно связан
с упоминавшейся выше проблемой общественной функции полезности (social
utility function). Из традиционных этических критериев общества максимизация
общественного благосостояния ближе всего критерию И. Бентама37, который под-
разумевает в качестве цели общества наибольшую сумму благосостояния его чле-
нов. Однако этот этический критерий не является ни единственным, ни безогово-
рочно разделяемым представителями разных общественных наук — правоведами,
социологами, философами, экономистами38.
Наконец, для оценки эффективности правовых норм при их разработке необходи-
мо учитывать затраты собственно на внедрение и обеспечение применения норм.
Применение критерия Калдора — Хикса в антитрасте, как оно проиллюстриро-
вано на рис. 4, буквально не учитывает затраты на обеспечение выполнения за-
претов39. Между тем эти издержки учитывать необходимо, поскольку их конечным
источником являются налоги, которые платят налогоплательщики на содержание
государства. В свою очередь, налогообложение, точнее, сбор любых налогов при-
водит к большему или меньшему снижению суммарного благосостояния40, т.е.
к более низкой экономической эффективности регулирования. Общего прави-
ла, которому подчинено оптимальное соотношение расходов на работу системы
правоприменения и масштабов решаемых ею проблем, в экономической теории
нет: в каждом конкретном случае вопрос о необходимости или избыточности спе-
циальных норм и механизмов обеспечения их выполнения является предметом
специального решения. Но не случайно одним из правил оценки регулирующего
воздействия является презумпция невмешательства государства41: до тех пор, пока
не будет продемонстрировано, что потери эффективности от отсутствия специ-
альных регулирующих норм больше, чем выгоды от введения новых норм, такие
нормы вводить не следует.
Возрастающее давление на оборот от налогов, которые приходится повышать, что-
бы содержать увеличивающийся госаппарат, призванный реализовать новые регу-
37
Подробнее о сходстве и различиях этического критерия И. Бентама и задачи максимизации обществен-
ного благосостояния в экономическом анализе права см.: Posner, supra note 17.
38
Cf., Kenneth J. Arrow, Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls’s Theory of Justice, 70 J. PHILOSOPHY 245 (1973);
Grey, supra note 15; Ronald M. Dworkin, Is Wealth A Value?, 9 J. LEGAL STUD. 191 (1980); Russel Hardin, The
Morality of Law and Economics, 11 L. & PHILOSOPHY 331 (1992).
39
В отличие от целевых показателей антимонопольных органов Великобритании и Европейского союза в
приведенном выше примере.
40
Первым внимание на это обратил Й. Шумпетер практически сто лет назад (1918), см.: Joseph A. Schum-
peter, The Сrisis of the Tax State, in: THE ECONOMICS AND SOCIOLOGY OF CAPITALISM, RICHARD SWEDBERG ED.
99–140 (New Jersey: Princeton University Press, 1991). С момента выхода его работы идея о том, что рост
суммы собираемых налогов подавляет экономический рост, стала общепринятой.
41
См.: Крючкова П.В., Шаститко А.Е. Указ. соч.
127
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
лятивные механизмы, выводит на новую проблему. Рано или поздно экономиче-
ский анализ права задается вопросом более общего свойства: как регулирование
соотносится с налогами для целей воздействия на оборот? Если и регулирование, и
налоги могут влиять на поведение субъектов оборота, то не стоит ли ограничиться
чем-то одним, например налогами, и уже через них решать как задачи редистрибу-
ции благ, достижения социальной справедливости, так и достигать прочих регуля-
тивных целей, к которым в иной ситуации пришлось бы идти через нормативное
регулирование. Более того, чтобы не получалось наложения негативного эффекта
от одного на другое (императивного регулирования и налогов), возможно, следует
оставить один канал воздействия на участников оборота, тогда будет проще про-
считывать и эффект от воздействия (выявлять те самые выигрыши и проигрыши,
типичные для анализа эффективности по Калдору —Хиксу), и негативные послед-
ствия, поскольку они не будут мультиплицироваться (когда есть два канала воз-
действия — налоги и императивное регулирование, каждое из которых сопряжено
с негативными последствиями, сложно разделить негатив от одного и другого).
Экономистам еще со времен Пигу42 прекрасно известно, что налоги могут приме-
няться для корректировки поведения экономических агентов. Однако как должно
соотноситься использование налогов с регулированием — это вопрос сравнитель-
но новый для экономического анализа права и экономической теории. В настоя-
щее время можно выделить две школы научной мысли, пытающиеся его решить43.
Одна группа ученых, следуя идеям Р. Познера44, который фактически уравнял не-
гативный эффект от императивного регулирования с невосполнимыми потерями
при налогообложении (dead-weight losses, DWL)45, предлагают ограничиться толь-
ко налогами. Подобный подход во многом повторяет модель Мирлиса46 о так на-
зываемом двойном искажении (double distortion), согласно которой регулирование
еще хуже корректирующих налогов, поскольку оно сочетает в себе как негативный
эффект от корректирующих налогов, так и дополнительный эффект от самого ре-
гулирования, а потому — коль скоро государство не может существовать без на-
логов — сочетание регулирования с налогами приводит к удвоению негативного
эффекта для участников оборота. Тем самым, полагают представители этого лаге-
ря, если государству вообще стоит вмешиваться в экономику (устранять негатив-
ные экстерналии через государственное вмешательство в экономику), то следует
воздействовать на поведение участников оборота, в том числе реализовывать ре-
дистрибутивные программы, исключительно через налогообложение, поскольку
оно будет сопряжено с негативом в виде DWL от самого налогообложения лишь
42
См.: A. C. PIGOU, THE ECONOMICS OF WELFARE 172-199 (4th ed., London: Macmillan and Co., 1932).
43
Специально обратим внимание, что речь идет о решении тех проблем, которые не могут быть урегули-
рованы в соответствии с описанным выше подходом Коуза, путем максимальной спецификации прав
собственности.
44
См.: Richard A. Posner, Taxation by Regulation, 2 BELL J. ECON. & MAN’T SCI. 22, 24-27, 34-41 (1971); Richard
A. Posner, The Social Costs of Monopoly and Regulation, 83 J. POL. ECON. 807 (1975).
45
Подробнее о сходстве негативного эффекта от императивного регулирования и невосполнимых поте-
рях от налогов см.: Степанов Д.И. Спрос на право и диспозитивность регулирования: экономический
анализ права // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 6. С. 65–119.
46
См.: J.A. Mirrlees, An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation, 38 REV. ECON. STUD. 175 (1971).
128
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
единожды, и негатив от регулирования в таком случае просто не будет наступать47.
Несмотря на кажущуюся простоту и теоретическую привлекательность данного
подхода, он остается сугубо теоретической моделью, не получившей поддержку на
практике ни в одном из правопорядков.
Напротив, представители другой ветви научной мысли, фактически оппонирую-
щие идеям Мирлиса, допускают одновременное использование как налогов, так и
императивного регулирования, не видя особых проблем в наложении негативного
эффекта от налогов на эффект от регулирования, поскольку зачастую одного ка-
нала воздействия (налогов или регулирования) оказывается недостаточно для до-
стижения определенных регулятивных целей48. У сторонников данной точки зре-
ния, если они впоследствии обращаются к анализу эффективности того или ино-
го политико-правового решения, закономерно возникает вопрос: как корректно
оценивать издержки от конкретного правового решения, ведь их будет сложно от-
делить от невосполнимых потерь, порождаемых налогами? Однако это лишь часть
проблемы. Другая сложность, связанная с подобным подходом, состоит в том, как
распределить набор регулирующих инструментов, доступный правотворцу: когда и
для чего правильнее использовать налоги, а когда — императивное регулирование,
если возникает необходимость воздействовать на участников оборота? Основная
часть исследований, посвященных обоснованию того, что налоги нужно исполь-
зовать наряду с регулированием, увы, оставляет этот вопрос без ответа, предлагая
лишь предварительное решение и указывая на то, что регулирование предпочти-
тельнее налогов49. Очевидно, что ответ на вопрос об оптимальном соотношении
налогов и императивного регулирования еще ждет своей фундаментальной раз-
работки в экономической теории.
Таким образом, спор о соотношении регулирования и налогов пока что имеет до-
вольную слабую нормативную составляющую, оставаясь, скорее, частью позитив-
ного экономического анализа права. С точки зрения практической действитель-
ности, конечно, превалирующей является позиция о допустимости и, в общем,
желательности использования обоих каналов влияния на экономических субъек-
тов — и регулирования, и налогов. Это, в свою очередь, делает еще более пробле-
матичным анализ эффективности (по Калдору — Хиксу) того или иного правового
решения, а многие споры, обосновывающие конкретную норму права с позиций
47
См.: Aanund Hylland and Richard Zeckhauser, Distributional Objectives Should Affect Taxes but Not Program
Choice or Design, 81 SCAND. J. ECON. 264 (1979); Steven Shavell, A Note on Efficiency vs. Distributional Equity
in Legal Rulemaking: Should Distributional Equity Matter Given Optimal Income Taxation? 71 AM. ECON. REV.
414 (1981); Louis Kaplow and Steven Shavell, Why the Legal System Is Less Efficient than the Income Tax in
Redistributing Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994); Louis Kaplow, The Optimal Supply of Public Goods and the
Distortionary Cost of Taxation, 49 NAT. TAX J. 513 (1996); Louis Kaplow and Steven Shavell, Should Legal Rules
Favor the Poor? Clarifying the Role of Legal Rules and the Income Tax in Redistributing Income, 29 J. LEGAL STUD.
821 (2000).
48
См.: Ackerman, supra note 15, at 1096 et seq.; Kronman, supra note 15, at 498–510; Polinsky, supra note 15, at
1111-2; Jolls, supra note 15, at 1677; Chris William Sanchirico, Taxes versus Legal Rules as Instruments for Equity:
A More Equitable View, 29 J. LEGAL STUD. 797, 804-7 (2000); Chris William Sanchirico, Deconstructing the New
Efficiency Rationale, 86 CORNELL L. REV. 1003, 1007-10, 1069 (2001); Richard S. Markovits, Why Kaplow and
Shavell’s “Double-Distortion Argument” Articles Are Wrong, 13 GEO. MASON L. REV. 511, 557, 597–601 (2005);
Lewinsohn-Zamir, supra note 15, at 397.
49
См.: Jolls, supra note 15, at 1676-7.
129
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
экономической эффективности, в таком случае приобретают спекулятивный ха-
рактер, поскольку спорщикам приходится делать довольно грубые допущения,
не учитывающие налоговый компонент.
Заключение
Различия критериев эффективности, применяемых в праве, свидетельствуют о
двух задачах правовой системы. Одна из них — это создание максимально широ-
ких возможностей для использования договорного процесса между сторонами.
Экономисты говорят о максимально четкой спецификации прав собственности,
которая делала бы возможным обмен этими правами, способными обеспечить
Парето-улучшение. Когда юристы ведут речь о преимуществах четких и прозрач-
ных правил, по сути, они имеют в виду то же самое. Чем более четко определены
права, обязанности и механизмы их обеспечения, тем большими возможностями и
стимулами обладают участники хозяйственного оборота для обмена правами.
Вместе с тем и экономика, и право признают существование проблем, которые
не могут быть разрешены без перераспределения выигрышей между участниками
оборота. В этих случаях для оценки дизайна правовых норм уместно применение
критерия Калдора — Хикса, разновидностью которого служит критерий максими-
зации общественного благосостояния.
Какие вопросы следовало бы развивать далее российским юристам? Во-первых,
это более детальная разработка методик оценки выигрышей и проигрышей от вве-
дения того или иного регулирования, конкретного политико-правового выбора.
Во-вторых, это проблема оптимального соотношения между редистрибутивными
целями, обосновываемыми ценностями, лежащими за рамками критерия Колдо-
ра — Хикса и собственно экономической эффективности правового регулирова-
ния. Наконец, в-третьих, каналы воздействия на участников оборота (через регу-
лирование и/или налоги): какое соотношение является наиболее оптимальным?
Это, видимо, самая амбициозная исследовательская задача.
Цель настоящей работы состояла во многом в том, чтобы юристы и экономисты
могли говорить на одном языке, особенно там, где представители обеих социаль-
ных дисциплин столетиями занимаются решением одних и тех же задач. Улуч-
шение коммуникации будет полезно как юриспруденции, так и экономической
теории, а потому можно ожидать в будущем новых междисциплинарных исследо-
ваний, посвященных изучению вопросов эффективности правового регулирова-
ния с позиций экономического анализа права.
References
Ackerman B. Regulating Slum Housing Markets on Behalf of the Poor: Of Housing Codes, Housing
Subsidies and Income Redistribution Policy. Yale Law Journal. 1971. Vol. 80. P. 1093–1197.
Amoroso L. Vilfredo Pareto. Econometrica. 1938. Vol. 6. No. 1. P. 1–21.
Arkhipov D.A. Distribution of Contractual Risks in Civil Law. Economic and Legal Research
[Raspredelenie dogovornyh riskov v grazhdanskom prave. Ekonomiko-pravovoe issledovanie].
Moscow, Statut, 2012. 112 p.
130
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Arlen J. Should Defendants’ Wealth Matter? The Journal of Legal Studies. 1992. Vol. 21. P. 413–429.
Arrow K.J. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. New Haven, Yale University Press, 1963. 124 p.
Arrow K.J. Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls’s Theory of Justice. The Journal of Philosophy.
1973. Vol. 70. P. 245–263.
Boardman A., Greenberg D., Vining A., Weimer D. Cost-Benefit Analysis. 4th ed. Upper Saddle River,
Prentice Hall, 2010. 560 p.
Buchanan J.M. Positive Economics, Welfare Economics, and Political Economy. The Journal of Law and
Economics. 1959. Vol. 2. P. 124–138.
Buchanan J.M. The Relevance of Pareto Optimality. Journal of Conflict Resolution. 1962. Vol. 6.
P. 341–354.
Burk A. A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics. The Quarterly Journal of Economics.
1938. Vol. 52. P. 310–334.
Calabresi G. The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further. Yale Law Review. 1991. Vol. 100.
P. 1211–1237.
Calabresi G., Melamed A.D. Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral.
Harvard Law Review. 1972. Vol. 85. No. 6. P. 1089–1128.
Coase R. Notes on the Problem of Social Cost [Zametki k Probleme sotsial’nykh izderzhek], in: Coase R.
The Firm, the Market, and the Law [Firma, rynok I pravo]. Russ. ed. Pinsker B., Kapelyushnikov R.
Moscow, Novoe Izdatelstvo, 2007. P. 150–176.
Coase R. The Problem of Social Cost [Problemy sotsial’nykh izderzhek], in: Coase R. The Firm, the
Market, and the Law [Firma, rynok I pravo]. Russ. ed. Pinsker B., Kapelyushnikov R. Moscow,
Novoe Izdatelstvo, 2007. P. 92–149.
Coleman J.L. Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophic Aspects of the Economic Approach to Law.
California Law Review. 1980. Vol. 68. P. 221–249.
Coleman J.L. Efficiency, Utility, and Wealth Maximization. Hofstra Law Review. 1980. Vol. 8.
P. 509–551.
Connor J.M., Bolotova Y. Cartel Overcharges: Survey and Meta-Analysis. Journal of Industrial
Organization. 2006. Vol. 24. P. 1109–1137.
Craswell R. Passing on the Costs of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller
Relationships. Stanford Law Review. 1991. Vol. 43. P. 361–398.
Dworkin R.M. Is Wealth a Value? The Journal of Legal Studies. 1980. Vol. 9. P. 191–226.
Friedman M. Lerner on the Economics of Control. Journal of Political Economy. 1947. Vol. 55.
P. 405–416.
Gadzhiev G.A. Law and Economics (Methodology): A Textbook [Pravo i ekonomika (metodologiya):
uchebnik dlya magistrantov]. Moscow, Norma, 2016. 256 p.
Grey T. Property and Need: The Welfare State and Theories of Distributive Justice. Stanford Law Review.
1976. Vol. 28. P. 877–902.
Hardin R. The Morality of Law and Economics. Law and Philosophy. 1992. Vol. 11. P. 331–384.
Harsanyi J.C. Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility.
The Journal of Political Economy. 1955. Vol. 63. P. 309–321.
Hayek F.A. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism [Pagubnaya samonadeyannost’. Oshibki
sotsializma]. Russ. ed. Kapelyushnikov R.I. Moscow, Catallaxy, 1991. 304 p.
Hicks J.R. The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal. 1939. Vol. 49. P. 696–712.
Hylland A., Zeckhauser R. Distributional Objectives Should Affect Taxes but Not Program Choice or
Design. The Scandinavian Journal of Economics. 1979. Vol. 81. P. 264–284.
131
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 5/2017
Jolls C. Behavioral Economic Analysis of Redistributive Legal Rules. Vanderbilt Law Review. 1998.
Vol. 51. P. 1653–1677.
Kaldor N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. The Economic
Journal. 1939. Vol. 49. P. 549–552.
Kapelyushnikov R.I. The Cost of Human Capital of Russia [Skol’ko stoit chelovecheskiy kapital Rossii].
Issues of Economics [Voprosy ekonomiki]. 2013. No. 1. P. 27–47.
Kaplow L. The Optimal Supply of Public Goods and the Distortionary Cost of Taxation. National Tax
Journal. 1996. Vol. 49. P. 513–533.
Kaplow L., Shavell S. Any Non-Welfarist Method of Policy Assessment Violates the Pareto Principle.
Journal of Political Economy. 2001. Vol. 109. No. 2. P. 281–286.
Kaplow L., Shavell S. Fairness versus Welfare. Harvard Law Review. 2001. Vol. 114. No. 4.
P. 961–971.
Kaplow L., Shavell S. Should Legal Rules Favor the Poor? Clarifying the Role of Legal Rules and the
Income Tax in Redistributing Income. The Journal of Legal Studies. 2000. Vol. 29.
P. 821–835.
Kaplow L., Shavell S. The Conflict between Notions of Fairness and the Pareto Principle. The American
Law and Economics Review. 1999. Vol 1. No. 1. P. 63–77.
Kaplow L., Shavell S. Why the Legal System Is Less Efficient Than the Income Tax in Redistributing
Income. The Journal of Legal Studies. 1994. Vol. 23. P. 667–681.
Karapetov A.G. Economic Analysis of Law [Ekonomicheskiy analiz prava]. Moscow, Statut, 2016. 528 p.
Karapetov A.G. Models of Protection of Civil Rights: Economic View [Modeli zashchity grazhdanskikh
prav: ekonomicheskiy vzglyad]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation
[Vestnik Ekonomicheskogo Pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2014. No. 11. P. 24–80; No. 12.
P. 24–73.
Karapetov A.G., Savelyev A.I. Freedom of Contract and Its Limits [Svoboda dogovora i eyo predely].
Vol. 1. Moscow, Statut, 2012. 452 p.
Kronman A. Contract Law and Distributive Justice. Yale Law Journal. 1980. Vol. 89. P. 472–511.
Kronman A.T. Wealth Maximization Is a Normative Principle. The Journal of Legal Studies. 1980. Vol. 9.
P. 227–242.
Kryuchkova P.V., Shastitko A.E. Assessment of Regulatory Impact and Modernization of the System
of State Regulation [Otsenka reguliruyushchego vozdeystviya i modernizatsiya sistemy
gosudarstvennogo regulirovaniya]. Social Sciences and Modernity [Obshchestvennye nauki i
sovremennost’]. 2006. No. 4. P. 21–31.
Lerner A.P. The Economics of Control. New York, Macmillan Co., 1944. 391 p.
Lewinsohn-Zamir D. In Defense of Redistribution through Private Law. Minnesota Law Review. 2006.
Vol. 91. P. 326–397.
Markovits R.S. Why Kaplow and Shavell’s «Double-Distortion Argument» Articles Are Wrong. George
Mason Law Review. 2005. Vol. 13. P. 511–619.
McCluskey M.T. Efficiency and Social Citizenship: Challenging the Neoliberal Attack on the Welfare
State. Indiana Law Journal. 2003. Vol. 78. P. 783–876.
Mirrlees J.A. An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. The Review of Economic
Studies. 1971. Vol. 38. P. 175–208.
Nureev R.M. The Theory of Public Choice [Teoriya obshchestvennogo vybora]. Moscow, Izdatelskiy Dom
SU-HSE, 2005. 531 p.
Odintsova M.I. Economics of Law [Ekonomika prava]. Moscow, Izdatelskiy Dom SU-HSE, 2007. 432 p.
Pigou A.C. The Economics of Welfare. 4th ed. London, Macmillan and Co., 1932. P. 172–199.
132
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Свободная трибуна
Polinsky M. Resolving Nuisance Disputes: The Simple Economics of Injunctive and Damage Remedies.
Stanford Law Review. 1980. Vol. 32. P. 1075–1112.
Posner R.A. Economic Analysis of Law [Ekonomicheskiy analiz prava]. Vol. 1. Saint Petersburg,
Ekonomicheskaya Shkola, 2004. 552 p.
Posner R.A. Taxation by Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science. 1971.
Vol. 2. P. 22–50.
Posner R.A. The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication. Hofstra
law Review. 1980. Vol. 8. P. 487–507.
Posner R.A. The Social Costs of Monopoly and Regulation. The Journal of Political Economy. 1975.
Vol. 83. P. 807–828.
Posner R.A. Utilitarianism, Economics, and Legal Theory. The Journal of Legal Studies. 1979. Vol. 8.
P. 103–140.
Sanchirico C.W. Deconstructing the New Efficiency Rationale. Cornell Law Review. 2001. Vol. 86.
P. 1003–1089.
Sanchirico C.W. Taxes versus Legal Rules as Instruments for Equity: A More Equitable View. The Journal
of Legal Studies. 2000. Vol. 29. P. 797–820.
Schumpeter J.A. The Сrisis of the Tax State, in: Swedberg R. (ed.). The Economics and Sociology of
Capitalism. New Jersey, Princeton University Press, 1991. P. 99–140.
Scitovszky T. de. A Note on Welfare Propositions in Economics. Review of Economic Studies. 1941.
Vol. 9. P. 77–88.
Sen A. The Impossibility of a Paretian Liberal. The Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78.
P. 152–157.
Shavell S. A Note on Efficiency vs Distributional Equity in Legal Rulemaking: Should Distributional
Equity Matter Given Optimal Income Taxation? The American Economic Review. 1981. Vol. 71.
P. 414–418.
Shmakov A.V. Economic Analysis of Law [Ekonomicheskiy analiz prava]. Moscow, INFRA-M, 2011. 320 p.
Soto E. de. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World [Inoy put’: nevidimaya revolyutsiya
v tret’em mire] Russ. ed. Pinsker B. Moscow, Catallaxy, 1995. 320 p.
Stepanov D.I. Demand for Law and Enabling Structure of Regulation: Economic Analysis of Law [Spros
na pravo i dispozitivnost’ regulirovaniya: ekonomicheskiy analiz prava]. The Herald of Economic
Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii].
2016. No. 6. P. 65–119.
Stiglitz J.E. The Invisible Hand and Modern Welfare Economics, in: Vines D., Stevenson A. (eds.).
Information Strategy and Public Policy. Oxford, Basil Blackwell, 1991. P. 12–50.
Varian Kh. Microeconomics. Intermediate Level: Modern Approach [Mikroekonomika. Promezhutochnyi
uroven’: sovremennyi podkhod]. Moscow, UNITI, 1997. 767 p.
Information about authors
Dmitry Stepanov — Associate Professor at the Law Faculty of Higher School of Economics, PhD in Law,
LLM, MPA (119017 Russia, Moscow, Bol. Ordynka St., 40/5; e-mail: dmitry_stepanov@epam.ru).
Svetlana Avdasheva — Ordinary Professor at the Faculty of Economic Sciences of Higher School of
Economics, Doctor of Economics (119049 Russia, Moscow, Shabolovka St., office 2210;
e-mail: avdash@hse.ru).
133
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2978567
Вам также может понравиться
- Простой подход к техническому анализу инвестиций: Как построить и интерпретировать графики технического анализа, чтобы улучшить вашу активность в онлайн-торговлеОт EverandПростой подход к техническому анализу инвестиций: Как построить и интерпретировать графики технического анализа, чтобы улучшить вашу активность в онлайн-торговлеОценок пока нет
- Москевич Г.Е. Принцип пропорциональности, 2019Документ26 страницМоскевич Г.Е. Принцип пропорциональности, 2019дарьяОценок пока нет
- Тема 3 рефератДокумент10 страницТема 3 рефератderbanova2003Оценок пока нет
- Demokratiya Kak Uslovie Optimizatsii Pravovogo RegulirovaniyaДокумент6 страницDemokratiya Kak Uslovie Optimizatsii Pravovogo RegulirovaniyaКатяОценок пока нет
- курсовая работаДокумент27 страницкурсовая работа99gbvkrd7jОценок пока нет
- Shmakov 1Документ63 страницыShmakov 1Vahe DabaghyanОценок пока нет
- VKR (Obydennov V L)Документ62 страницыVKR (Obydennov V L)Александра ПадалкаОценок пока нет
- Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентовОт EverandКонкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентовОценок пока нет
- Antonova A NДокумент12 страницAntonova A NAlmazОценок пока нет
- Effektivnost Fiskalnoy Politiki GosudarstvaДокумент14 страницEffektivnost Fiskalnoy Politiki GosudarstvaAygünОценок пока нет
- Проблемы методологии исследования гражданского праваДокумент4 страницыПроблемы методологии исследования гражданского праваIrinaОценок пока нет
- Лекция 1 по Основам экономикиДокумент13 страницЛекция 1 по Основам экономикиOsvaldo LopesОценок пока нет
- Бизнес-анализ и управление стоимостью компанииДокумент10 страницБизнес-анализ и управление стоимостью компанииНизам ИдрисовОценок пока нет
- УдГУДокумент124 страницыУдГУsashaОценок пока нет
- 2334 PDFДокумент132 страницы2334 PDFВалерияОценок пока нет
- Простой подход к фундаментальному инвестиционному анализу: Вводное руководство по методам фундаментального анализа и стратегиям предвидения событий, которые движут рынкамиОт EverandПростой подход к фундаментальному инвестиционному анализу: Вводное руководство по методам фундаментального анализа и стратегиям предвидения событий, которые движут рынкамиОценок пока нет
- PPL Assessment Kyrgyzstan RUS 16Документ63 страницыPPL Assessment Kyrgyzstan RUS 16adiletkgОценок пока нет
- Upravlenie Zatratami Suschnost Etapy MetodyДокумент4 страницыUpravlenie Zatratami Suschnost Etapy Metodynikolairotov544Оценок пока нет
- 1Документ91 страница1Bekhruz KhamidovОценок пока нет
- 2 Прикладные модели коммуникацииДокумент5 страниц2 Прикладные модели коммуникацииBanananaОценок пока нет
- проверкаДокумент53 страницыпроверкаИван СавченкоОценок пока нет
- Универсальные Методы Исследования.бондаренко Антон.fb234Документ15 страницУниверсальные Методы Исследования.бондаренко Антон.fb234Антон БондаренкоОценок пока нет
- Правовые Проблемы и Перспективы Развития Института Административного Процесса в Республике КазахстанДокумент39 страницПравовые Проблемы и Перспективы Развития Института Административного Процесса в Республике КазахстанАйдын КеримбаевОценок пока нет
- Курсовая АХДДокумент36 страницКурсовая АХДdavemo2038Оценок пока нет
- Parliamentary Procedure As A Type of Legal ProceduДокумент16 страницParliamentary Procedure As A Type of Legal ProceduTRISHA SENININGОценок пока нет
- Курсовая работа 1 курсДокумент30 страницКурсовая работа 1 курсМАСТЕР ПО ЖЕЛЕЗУОценок пока нет
- Тема 9 Часть 2 Правотворчество и Систематизация в ПравеДокумент18 страницТема 9 Часть 2 Правотворчество и Систематизация в ПравеRicososОценок пока нет
- глава 1Документ9 страницглава 1Алина МорозоваОценок пока нет
- 5 2 1-Ekonomicheskaya-TeoriyaДокумент16 страниц5 2 1-Ekonomicheskaya-TeoriyamorrganbontheworkОценок пока нет
- Moy - kursach1 оснДокумент35 страницMoy - kursach1 оснВКGreenОценок пока нет
- Дипломная работаДокумент62 страницыДипломная работаSergheiZaharcencoОценок пока нет
- Методичка страт анализ экономикаДокумент157 страницМетодичка страт анализ экономикаАртем ШляпинОценок пока нет
- УМК Маркетинг и ЦенообразованиеДокумент128 страницУМК Маркетинг и ЦенообразованиеМаксим ВолынецОценок пока нет
- Realizatsiya Pravovyh Aktov Upravleniya Kak Kriteriy Spravedlivosti Pravovogo VozdeystviyaДокумент8 страницRealizatsiya Pravovyh Aktov Upravleniya Kak Kriteriy Spravedlivosti Pravovogo VozdeystviyaabakirovaaselОценок пока нет
- Искусство контроля: Как управлять организациями и бизнес-процессами со знанием делаОт EverandИскусство контроля: Как управлять организациями и бизнес-процессами со знанием делаОценок пока нет
- Методы прогнозирования валутого курсаДокумент6 страницМетоды прогнозирования валутого курсаcristina noblecillaОценок пока нет
- ФранкоДокумент4 страницыФранкоmvanishcОценок пока нет
- Виды Юр Отвественности23.05.23Документ27 страницВиды Юр Отвественности23.05.23begimai.sultanova.95Оценок пока нет
- Teoria Generala A DreptuluiДокумент108 страницTeoria Generala A DreptuluiМария ВасилатийОценок пока нет
- 3619-Текст статьи-5722-1-10-20190109Документ9 страниц3619-Текст статьи-5722-1-10-20190109Нурдаулет АрыстановОценок пока нет
- ПрактиДокумент3 страницыПрактиИсмихан МирзаметовОценок пока нет
- Аутсорсинг - диссертацияДокумент92 страницыАутсорсинг - диссертацияLeloОценок пока нет
- ДокументДокумент7 страницДокументKarToHa ChannelОценок пока нет
- статья контроллингДокумент4 страницыстатья контроллингNazim HasanliОценок пока нет
- CojocaruДокумент139 страницCojocaruAnastasia MurasevaОценок пока нет
- Федин В В Трудовые споры теория и практика учебно практическое пособие для вузовДокумент287 страницФедин В В Трудовые споры теория и практика учебно практическое пособие для вузовГогаsdsdsdОценок пока нет
- Пример работДокумент53 страницыПример работGalimzhan BezhentayevОценок пока нет
- Теория потребительского поведенияДокумент13 страницТеория потребительского поведенияMargo TokarevaОценок пока нет
- EntitateaДокумент10 страницEntitateaNATALIA ANTOCIОценок пока нет
- Autoref Administrativno Pravovye Aspekty Preduprezhdeniya Korruptsii V Nefinansovoi Sfere RossiiskoiДокумент29 страницAutoref Administrativno Pravovye Aspekty Preduprezhdeniya Korruptsii V Nefinansovoi Sfere RossiiskoiКомрон ИсмоиловОценок пока нет
- Реферат По СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПРАВОВЕДЕНИЮДокумент14 страницРеферат По СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПРАВОВЕДЕНИЮFeudor KoshkinОценок пока нет
- Микроимитационное Моделирование Как Инструмент Разработки и Поддержки Решений в Сфере НалогообложенияДокумент6 страницМикроимитационное Моделирование Как Инструмент Разработки и Поддержки Решений в Сфере НалогообложенияЕвгения ГусаковаОценок пока нет
- ТГП семинар тема 1Документ5 страницТГП семинар тема 1Нелли КиржаеваОценок пока нет
- 86967Документ23 страницы86967Husan SMОценок пока нет
- VKR Pribyl Organizatsii Mekhanizmy Eyo Formirovania I RaspredeleniaДокумент56 страницVKR Pribyl Organizatsii Mekhanizmy Eyo Formirovania I RaspredeleniaRadik DanielyanОценок пока нет
- Тема 4 Funktsii Printsipy i Tsennost Prava Pravo Ekonomika i PolitikaДокумент17 страницТема 4 Funktsii Printsipy i Tsennost Prava Pravo Ekonomika i PolitikaRicososОценок пока нет
- ДИПЛОМ НА РУС (ТЕМИРСЕРВИС АСТАНА)Документ69 страницДИПЛОМ НА РУС (ТЕМИРСЕРВИС АСТАНА)Аян ЖилгельдиновОценок пока нет
- Teoreticheskie-Osnovy-Promyshlennoy-Kooperatsii Tarjima YangiДокумент12 страницTeoreticheskie-Osnovy-Promyshlennoy-Kooperatsii Tarjima Yangimurod98.xmОценок пока нет
- Novye Gorizonty Mezhdunarodnogo Arbitrazha Vyp 1 Pod Red A V AsoskovaДокумент250 страницNovye Gorizonty Mezhdunarodnogo Arbitrazha Vyp 1 Pod Red A V Asoskovapluxury baeОценок пока нет
- 8. СУДЕБНИК 1497 годаДокумент18 страниц8. СУДЕБНИК 1497 годаpluxury baeОценок пока нет
- Effect of Sanctions On ContractsДокумент8 страницEffect of Sanctions On Contractspluxury baeОценок пока нет
- Bodo Shefer Zakony PobeditelejДокумент179 страницBodo Shefer Zakony Pobeditelejpluxury baeОценок пока нет
- TGP PraktikumДокумент204 страницыTGP Praktikumpluxury baeОценок пока нет
- практикумДокумент72 страницыпрактикумpluxury baeОценок пока нет