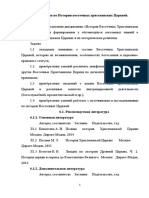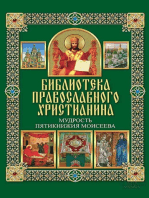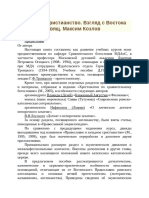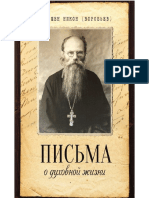Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Stanovlenie Xristianskogo Bogosloviya Put K Nikee - 11908
Загружено:
Nugzar Kokiashvili0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
17 просмотров272 страницыОригинальное название
stanovlenie-xristianskogo-bogosloviya-put-k-nikee_11908
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
17 просмотров272 страницыStanovlenie Xristianskogo Bogosloviya Put K Nikee - 11908
Загружено:
Nugzar KokiashviliАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 272
Становление христианского богословия: Путь к Никее
иерей Иоанн Бер
иерей Иоанн Бер
Предисловие
Принятые сокращения
Введение
Часть I. Евангелие Иисуса Христа
Глава 1. Традиция и канон Евангелия по Писаниям
Глава 2. Христос Писания
Часть II. Слово Божие
Глава 3. Игнатий Антиохийский
Глава 4. Иустин Мученик
Глава 5. Ириней Лионский
Часть III. Сын Отца
Глава 6. Ипполит и дебаты в Риме
Глава 7. Ориген и Александрия
Глава 8. Павел Самосатский и Антиохийский Собор
Заключение
Примечания
^ ПРЕДИСЛОВИЕ
Православная Христова Церковь в своем учении, изначально
и доныне, опирается на Апостольское Предание. Но что такое
Апостольское Предание? Прежде всего, это содержание тех
богодухновенных книг, которые составили канон Нового
Завета. Благовестие об Иисусе Христе, Сыне Божием,
распятом, но воскресшем, не только составляет существо
апостольской и церковной веры, но является началом и
основанием христианского богословия. Именно евангельскую
веру проповедовали, а также и столковывали, передавая
грядущим поколениям христиан, все Святые Отцы и Учители
Церкви. Богомыслие Святых Отцов неразрывно связано с
новозаветным благовестием, а Святоотеческое Предание
имеет своим содержанием Предание Апостольское. В такой,
строго церковной, перепективе написана предлагаемая
читателю книга, которая является первой частью
трехтомного исследования «Становление христианского
богословия». В книге прослеживается пройденный
христианским богословием путь от раннего осмысления
спасительных событий, о которых повествует Священное
Писание Нового Завета, до вероучительных споров и
соборных решений конца III века. Автор анализирует
богословское мышление ранних Отцов в контексте их
полемики с оппонентами, привлекая для этого богатый
материал, включающий как первоисточники, так и широкий
круг патрологических исследований.
Профессор Свято-Владимирской духовной академии в
Крествуде (Православная Церковь в Америке) священник
Иоанн Бер принадлежит к новому поколению православных
ученыхпатрологов. Однако его богословский авторитет
несомненен: он не только автор многих работ по патристике
и богословию, но и редактор известного академического
богословского журнала (St Vladimir’s Theological Quarterly) и
англоязычной серии святоотеческих творений, а также
президент Православного богословского общества в Америке
(2005).
Рекомендуя настоящую книгу о. Иоанна Бера православным
богословам, а также всем, изучающим церковную историю и
христианское богословие, выражаю надежду на то, что и
последующие тома фундаментального исследования этого
автора со временем будут доступны русскому читателю.
Председатель Синодальной Богословской комиссии Русской
Православной Церкви Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ
В отношениях между православием и академическим богословием
существует проблема. Причины этой проблемы, в основном,
исторического свойства. Как научная дисциплина, богословие
сформировалось в университетах Средневековья, а затем по нему, как
и по всей культурной жизни Запада, последовательно прокатились
мощные волны Ренессанса, Реформации, Просвещения и Романтизма.
Но к моменту становления университетов, в XII в., христианский мир
уже не был единым, так что новые тенденции набирали силу в той его
части, от которой православное христианство было отчуждено. С
Западом православие встретилось в XX веке, в том числе – с западной
богословекой наукой, как она сложилась в течение периода
отчуждения (более ранние соприкосновения, имевшие место в
средние века в связи с соборными дискуссиями по теме унии, а также
по мере учреждения православных богословских семинарий и,
наконец, богословских факультетов при университетах православных
стран, осложнили и запутали проблему еще больше – ввиду той самой
«псевдоморфозы», которой православное богословие оказалось
подвержено и которую в свое время раскритиковал о. Георгий
Флоровский). Большинство православных достаточно критически
оценивает то, как развивалась богословекая наука на Западе, в
частности, ее превращение в сугубо академическую дисциплину,
оторванную от опыта молитвенной жизни (отметим, что такой упрек
раздается и на Западе, начиная с XIV в.). Тем не менее плоды
критической науки, одним из результатов которой стало, помимо
всего прочего, открытие заново мысли древних Отцов Церкви, вряд
ли можно продолжать игнорировать дальше. Такое игнорирование
уже привело к непростому сосуществованию между традиционным
богословием и духом критического исследования; в результате мы
находимся в ситуации, когда православные ученые ищут убежища в
историческом исследовании периода (начиная с IV в.), когда
догматическая традиция уже утвердила себя (ситуация, похожая на
положение дел в РимоКатолической Церкви в период между
осуждением модернизма в папской энциклике Lameniabili в 1907 г. и
Вторым Ватиканским Собором). Библейская наука, в общем и целом,
не привлекла внимания лучших умов православия в XX веке. Можно
даже заметить определенную тенденцию (преимущественно в
новозаветной православной библеистике), когда за ориентир берется
консервативное направление протестантской и католической
библейской науки, что несет в себе опасность подмены православия
консерватизмом.
Однако в работах некоторых наших молодых православных
богословов наблюдаются признаки того, что сложности в отношениях
между православием и критическим богословием могут быть
преодолены. Самым поразительным и обнадеживающим примером
этого является настоящая работа Иоанна Бера. Окончив университет
с дипломом философа, Бер отправился в Оксфорд, где он изучал
христианское богословие под началом епископа Каллиста
Диоклейского. Его областью специализации стал период становления
христианского вероучения. Диссертация Бера была опубликована в
несколько измененном виде в 2000 г. в виде книги «Аскетизм и
антропология у Иринея и Климента». Как следует из названия, это не
просто очередная монография по патристике: в исследовании
предпринята попыткабогословского осмысления антропологического
и социологического подхода к раннехристианскому аскетизму, о
котором известно прежде всего по именам Мишеля Фуко и Питера
Брауна. Как утверждает и демонстрирует д-р Бер, обращение к
богословию позволяет вызволить раннехристианских мыслителей из
тисков так называемой «поздней античности» и заново услышать их
голос как Отцов Церкви. В этой первой книге д-р Бер обрел влице
Иринея глубоко созвучного себе автора; исследование трудов Иринея
было продолжено им и после завершения работы над диссертацией,
когда он стал преподавать богословие в СвятоВладимирской
семинарии. В 1997 году д-р Бер опубликовал трактат Иринея
Изложение апостольской проповеди в своем переводе с армянского –
единственного из древних языков, на котором сохранилось это
драгоценное произведение.
Богословие Иринея также открывает первые главы данной книги,
задавая точку отсчета для последующего изложения.
Представляемый здесь том и серию достаточно легко
охарактеризовать с общих позиций, однако требуется также
некоторое предварительное пояснение. В самых общих словах,
данный том – первый из серии книг, посвященных становлению
христианского богословия в течение периода Вселенских Соборов, то
есть вплоть до Второго Никейского Собора, состоявшегося в 787 г. На
Соборе было окончательно установлено почитание икон и таким
образом поставлена печать аутентичности на визуальном аспекте
православной веры. После того, как это постановление получило
окончательное подтверждение на Соборе 843 г., был установлен
праздник Торжества Православия, который с тех пор Церковь
регулярно отмечает в первое воскресенье Великого Поста. Выбор
именно этого периода для введения в христианское богословие
говорит нам о том, что богословекая позиция д-ра Бера имеет в
качестве основания именно православную традицию.
Тем не менее избранный автором научный метод – радикален (ибо
православие – радикально, а не консервативно). Бер нисколько не
приуменьшает значение Нового Завета и периода так называемого
«первоначального христианства», а также связанных с ними
исторических проблем и неясностей. Напротив, основываясь на
собственном прочтении Иринея (которое он подкрепляет весьма
тщательно подобранными и обдуманными аргументами), он начинает
свой обзоре вопроса, который Христос задал ученикам в Кесарии
Филипповой: «А вы за кого почитаете Меня?». Именно в
апостольском ответе на этот вечно звучащий вопрос Бер находит как
самую сущность христианской веры, так и отправную точку
христианского богословия; ответы на него составляют также предмет
его исследования в данном и последующих томах серии.
На мой взгляд, важно осознавать две вещи, являющиеся следствием
такого отправного пункта. Вопервых, ответ на заданный вопрос
Христа предполагает два взаимосвязанных утверждения. Первое из
них заключается втом, что Христос есть именно Христос распятый и
воскресший, действующее лицо Пасхального таинства; в то время как
второе – втом, что Он есть Слово Божие, понимаемое как значение
(или смысл) высказывания Бога, содержащегося в Писаниях
(последний термин в большей степени подразумевает то, что
христиане стали именовать Ветхим Заветом; как утверждает д-р Бер,
это первоначальное значение не пропадает и тогда, когда всостав
«Писаний» добавляются новозаветные тексты). Оба эти момента
радикальным образом отражаются на принятом в данном
исследовании подходе к богословию. Благодаря первому центром
внимания становится не нечто, затемненное акцентом на
«Воплощении», но само Пасхальное таинство (как отмечает д-р Бер,
православная иконография и гимнография воспринимают Рождество
именно через призму грядущих Страстей); в то время как второй
момент подтверждает центральное место, отданное в христианском
богословии идее соответствия Писанию (данная идея унаследована от
апостола Павла и ранних исповеданий веры и имеет прямое
отношение к тому, как христиане используют Писание, – для
православных речь идет, в первую очередь, о литургических текстах).
Оба акцента позволяют сохранить связь богословия с молитвой, в
которой и происходит встреча с распятым и воскресшим Господом, а
также с молитвой литургической, в которой мы вместе предстоим
Богу как Тело Христово.
Во-вторых, поскольку ответ на вопрос Христа – это всегда ответ
конкретных людей, мужчин и женщин, автор фокусирует свое
внимание на рассмотрении конкретных христианских мыслителей.
Становление христианского вероучения не тождественно развитию
христианской доктрины (православным богословам следовало бы
получше разобраться с этим сугубо романтическим представлением,
введенным в обиход кардиналом Ньюманом), ибо возможности выйти
за рамки апостольского исповедания Христа не существует.
Становление вероучения следует, скорее, описывать как результат
упорного и исполненного молитвы мыслительного труда людей,
которые пытались постичь истинное значение Пасхального таинства.
Мысль не существует в отдельности от мыслителя, поэтому, пытаясь
обрисовать картину становления христианского богословия, д-р Бер
проявляет не меньший, а может быть, и больший интерес к самому
процессу мышления, чем к его результатам. Данный подход не
отменяет границы между православием и ересью, однако привычное
разделение на православных мыслителей и еретиков становится
более многогранным. Именно по этой причине сочинения Оригена
разбираются автором книги с большой долей симпатии и вниманием
к оттенкам мысли этого богослова; и даже в творчестве такого
автора, как Павел Самосатский, он находит черты подлинного
мыслителя и богослова, которые делают его непохожим на
карикатуру, оставленную в наследство Евсевием.
Становление христианского богословия прослеживается на
страницах данного тома и серии в целом с учетом лучших
достижений современной критической науки и с полным осознанием
тех вопросов, которые на сегодняшний день обсуждаются. Д-р Бер не
ищет легких ответов, поскольку, как мы уже говорили, его понимание
православия радикально, а не консервативно. Более того, будучи на
сто процентов православным, данное исследование написано на
языке современного академического богословия, что позволяет
голосу православия быть услышанным в актуальных богословских
дискуссиях. Поскольку в качестве предмета выбрано именно
богословие, сравнительно мало внимания уделяется обзору
исторического контекста, будь то контекст институциональный,
культурный или интеллектуальный. Тем не менее д-р Бер вполне
владеет всей сопутствующей информацией и привлекает ее в тех
местах, где это является необходимым для читателя. Слова о том, что
действие книги происходит на Луне, отнюдь не характеризуют данное
исследование формирования христианского богословия, как они
зачастую характеризуют некоторые другие работы! В связи с этим
данная книга потребует серьезного внимания со стороны читателя,
однако можно быть уверенным, что любое такое усилие окупится с
лихвой.
Священник Эндрю Лаут (Andrew Louth), проф. патристики и
византологии, Университет Дарэма (University of Durham, England)
^ ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Первоисточники (нумерация фрагментов указана по изданиям
в Библиографии)
Ап. Иустин Мученик, Апология I
2Ап. Иустин Мученик, Апология II
Библ. Фотий, Библиотека
ДАП Ириней Лионский,
Доказательство апостольской проповеди
Диал.Иустин Мученик, Диалог с Трифоном иудеем
Добр. Ориген, Добротолюбие
Ефес. Игнатий Антиохийский, Послание к ефесянам
Том. Иер. Ориген, Гомилии на Иеремию
Ком. Мф. Ориген, Комментарий на Евангелие от Матфея
Ком. Ин. Ориген, Комментарий на Евангелие от Иоанна
Магн. Игнатий Антиохийский, Послание к магнезийцам
Нач. Ориген, О началах
Опр. «Ипполит», Опровержение всех ересей
ПЕ Ириней Лионский, Против ересей
(нумерация по Massuet – PG и SC)
ПН Ипполит, Contra Noetum
ПН Ориген, Против Нельса
Римл. Игнатий Антиохийский, Послание к римлянам
Смирн. Игнатий Антиохийский, Послание к смирнянам
Собр. Феодорит Киррский, Собрание еретических басен
Стром. Климент Александрийский, Строматы
Тралл. Игнатий Антиохийский, Послание к траллийцам
Фшад. Игнатий Антиохийский, Послание к филадельфийцах(
ЦИ Евсевий Кесарийский, Церковная история
Журналы и серийные издания
ACO Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. Ε. Schwartz
(Berlin and Leipzig: DeGruyter, 1927-44).
ACW Ancient Christian Writers
ANF Ante-Nicene Fathers
CH Church History
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
FC Fathers of the Church
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte
GNO Gregorii Nysseni Opera (Leiden: Brill)
GOTR Greek Orthodox Theological Review
HTR Harvard Theological Review
JBL Journal of Biblical Literature
JECS Journal of Early Christian Studies
JEH Journal of Ecclesiastical History
JRS Journal of Roman Studies
JTS Journal of Theological Studies
LCL Loeb Classical Library
NPNF Nicene and Post-Nicene Fathers
NTS New Testament Studies
OCP Orientalia Christiana Periodica
OECT Oxford Early Christian Texts
PG Patrologia Graeca
PL Patrologia Latina
PO Patrologia Orientalis
PTS Patristische Texte und Studien
RSPhTh Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques
RSR Recherches de Science Religieuse
SC Sources Chretiennes
St. Patr. Studia Patristica
SVF Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. J. Von Arnim
SVTQ Saint Vladimir’s Theological Quarterly
TS Theological Studies
TU Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen
Literatur
VC Vigiliae Christianae
ZAC Zeitschrift fur antiices Christentum: Journal of Ancient Christianity
ZNTW Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschqft und die Kunde
der Urchristentums
^ ВВЕДЕНИЕ
«А вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15). Этот вопрос, заданный
Иисусом Христом, является основным вопросом, на который
стремится дать ответ христианское богословие, в то время как данная
серия книг служит введением в историю и проблематику такого рода
ответов в течение периода становления христианской Церкви. Ни
тогда, ни (в полной мере) сейчас поиск ответа на вопрос Христа не
является предприятием чисто археологического свойства. То, Кем
является Иисус Христос, определяется не голыми подробностями Его
биографии, но тем истолкованием, которое было придано конкретным
историческим деталям через понимание Его личности и дел.
Первыми, кто прошел этим путем, были апостолы и евангелисты, раз
и навсегда установившие основы традиции, из которой должно
исходить любое подобное размышление о Христе; тем же самым
путем должен идти всякий нашедший в себе решимость следовать их
примеру. Такого рода вовлеченность в истолковательный процесс
вызывает многие трудные вопросы, однако она неизбежна для
«последователей», или, точнее, «учеников» (μαθηταί), «изучающих
Христа» (ср. Еф. 4:20), познание Которого и есть вечная жизнь (ср.
Ин. 17:3).
В истории размышлений о Христе существуют определенные
ориентиры и систематические вопросы, столкновение с которыми
неизбежно для любого изучающего богословие. На самом
фундаментальном уровне это вопросы о способе познания Христа и о
том, каковы, если они вообще существуют, критерии оценки
толкований, которые уже были предложены. Эти вопросы лежат в
основе дебатов о роли Писания и о формировании канона Нового
Завета, а также о взаимоотношениях между Писанием, преданием и
авторитетом Церкви. В свою очередь, данный набор тем самым
глубоким образом связан с утверждением, что Христос есть Слово
Божие. Вслед за этим возникают дальнейшие вопросы, требующие
ответа: каково отношение Иисуса Христа к Богу, Его Отцу, и к нам,
людям, – является ли Он одновременно Богом и человеком, и если это
действительно так, то каким образом Он есть «один Господь» (1Кор.
8:6)? Далее, если Он есть «образ Бога невидимого» (Кол. 1:15), то как
это сказывается на наших попытках представить Бога и, наоборот, на
понимании сущности сотворенных «по образу Божию» людей (Быт.
1:27)?
Все эти моменты неотделимы друг от друга, поэтому для того, чтобы
понять, как любой конкретный автор понимает ту или иную тему,
необходимо увидеть, как ему удается свести воедино весь комплекс
тем. Тем не менее сам порядок вопросов, в том виде, в котором он
был только что обозначен и положен в основу данного тома и
последующих томов серии, помогает проследить развитие
богословской рефлексии на протяжении периода вплоть до Седьмого
Вселенского Собора. В данной серии история будет изложена через
рассмотрение конкретных исторических фигур, дискуссий, в которых
они принимали участие, и выработанных богословских решений.
Помимо введения более широкого контекста, такое рассмотрение
позволяет не только проследить историческую канву, но и провести
систематический анализ наиболее существенных элементов
богословского проекта, по мере того, как эти элементы возникали и
формулировались в решающие моменты истории. Заявив в качестве
заглавия серии тему формирования христианской мысли, мы имели в
виду как описание наиболее важных периодов данной истории, так и
структуру богословия, возникшего по итогам этого процесса.
Чтобы представить заявленную нами тему как можно глубже, нам
пришлось пожертвовать широтой охвата материала – как в
отношении спектра рассматриваемых в серии фигур, так и в
отношении полноты картины их богословской мысли. В этом томе
речь пойдет о первых трех веках христианской эры. Нами будет
рассмотрено, как основные элементы богословского проекта были
сведены воедино и как определенные вопросы и проблемы выступили
на первый план. Часть I в основном посвящена богословию Иринея.
Мы увидим, как данный автор использует элементы Писания, канона,
апостольского предания и преемственности для того, чтобы
утвердить проповедь Евангелия «по Писаниям». После того, как все
эти элементы получат должное освещение, нами будет построен
портрет Христа «по Писаниям». Часть 11 расскажет об Игнатии,
Иустине и Иринее и о том образе Слова Божия – Христа, который был
выработан этими авторами в ходе богословских дискуссий, описанных
в первой части. Наконец, в части III будет прослежена ситуация в
Риме, Александрии и Антиохии начиная с конца второго века и до
конца третьего, богословские проблемы, ставшие предметами споров
в этих городах, и богословские взгляды основных участников этих
споров. Мы увидим, как в результате богословской рефлексии особое
внимание было сфокусировано на вопросе о вечном и независимом
сушествовании Иисуса Христа, Сына Божия, на Его Божестве и
человечестве, и как таким образом были сформулированы проблемы,
которые превратились в доминирующие в ходе последующих
столетий. В следующих томах серии речь пойдет о развитии
дискуссии по данным вопросам и об их итоге: утверждении учения о
Христе как об истинном Боге и истинном человеке, образе
невидимого Бога.
В данной работе можно обнаружить некоторые существенные
пробелы в отношении рассматриваемых фигур и связанных с ними
тем. Некоторые важные авторы затрагиваются нами лишь
мимоходом: всего пару раз упоминается Климент Александрийский и
лишь по касательной – Тертуллиан и Новациан, как и многие другие
авторы. Столь же выборочным будет освещение и в последующих
томах. Пропуски не стоит рассматривать как попытку приуменьшить
значение авторов, которые не были включены в рассмотрение, точно
так же, как факт завершения серии на Втором Никейском Соборе не
означает нашей оценки последующего периода как
малозначительного. Исчерпывающее описание всей полноты
богословской рефлексии на протяжении последних двух тысячелетий
вряд ли под силу даже более громоздкой многотомной серии – в еще
меньшей степени это под силу одному автору! Однако в нашу задачу
не входило создание исчерпывающего богословского обзора. Скорее,
мы ставили себе целью исследовать как можно более полно структуру
и составные части христианского исповедания веры – в том виде, как
они сложились в решающие моменты исторического процесса
богословской рефлексии. В связи с этим, даже в отношении авторов,
труды которых станут предметом рассмотрения в данном
исследовании, нами будет затронута только часть всего спектра их
богословских воззрений. Подчеркнем данный момент:
представленный здесь анализ выполняет лишь часть задач, которые
обычно ставит перед собой богословие. Будучи взяты сами по себе,
богословские элементы и структуры, описанные в данном
исследовании, не составляют ответа на вопрос Христа. В лучшем
случае они предлагают некую схему или параметры, внутри которых
становится возможным толкование, которое в свою очередь
подразумевает, что любой изучающий богословие подвергается
встречному толкованию со стороны Слова Божия и таким образом
приходит к видению самого себя в свете Христа и в отношении к
Богу. С точки зрения богословия, данное аскетическое измерение
слишком весомо, чтобы можно было им пренебречь, однако для того,
чтобы должным образом воздать ему в письменном виде,
потребовалось бы другое исследование.
Таким образом, настоящая работа не претендует на роль
всеобъемлющего повествования о развитии богословия, подобно
классическим историям догматики (Адольф Гарнак, являющийся
автором одной из подобных работ, рассматривал богословское
развитие как трансформацию первоначального Евангелия в
греческую метафизику [1]). Однако то, что предлагается вашему
вниманию, не является и простым обзором творчества отдельных
христианских авторов: их жизни, литературного наследства,
ключевых моментов их богословских систем, – как это имеет место в
разного рода пособиях по патрологии. И, наконец, эта работа не
является собранием учения святых отцов, вроде знакомой всем
изучающим историю ранней Церкви книги Дж. Келли «Вероучение
ранних христиан», в которой сводятся воедино высказывания авторов
по самым различным проблемам вероучения, в результате чего у
читателя не складывается целостного впечатления ни об одном
авторе [2].
Десятилетия, прошедшие после выхода вышеуказанных классических
сочинений, стали свидетелями настоящего бума в области
исследования жизни и мысли авторов раннехристианского периода.
Наше понимание характера и значения их богословского поиска
значительно углубилось под влиянием необозримого количества
монографий и статей, посвященных конкретным писателям и
отдельным темам. Оборотной стороной этого процесса стало то, что,
скорее всего, являлось в данном случае неизбежным: внимание
ученых начали привлекать все более мелкие темы, хотя, с другой
стороны, к рассмотрению последних стали привлекаться более
широкие, нежели ранее, контексты. Попытки собрать плоды этих
исследований под одну крышу с целью создания исчерпывающего
богословского обзора приводили либо к появлению гигантских
многотомных проектов, энциклопедий исторического богословия и
компендиумов, подобных творению Грилльмайера «Христос в
христианском предании», в которых рассматривается история
развития отдельно взятой темы; либо, наоборот, к созданию
громоздких однотомных исследований, посвященных рассмотрению
конкретного исторического периода, как, например, «В поисках
христианского учения о Боге» Хэнсона, которое на девятистах
страницах освещает исключительно (!) тринитарное богословие IV
века [3].
Столь же важным феноменом науки истекшего века стало растущее
признание того обстоятельства, что богословское мышление
писателей античности не сводимо к одной догматической спекуляции
в отрыве от церковного, социального и политического контекста
эпохи и той борьбы, которая происходила на этом поле. Подобное
изменение научной парадигмы, в свою очередь, создало питательную
среду для все более возрастающего интереса и одновременно
скепсиса по отношению к притязаниям групп христиан, которые
полагают себя единственными обладателями «правильного»
исповедания веры в отличие от «неправильных» воззрений всех
остальных, которых они обвиняют в отпадении от истины. Многие
современные ученые исходят из того, что реальные причины
разделения на «православие» и «ересь» кроются в областях, весьма
далеких от собственно богословской проблематики. Открытие
библиотеки в НагХаммади обеспечило свежую подпитку процессу
пересмотра подобных притязаний и стимулировало создание
множества воображаемых реконструкций различных альтернативных
вариантов «раннего христианства». Благодаря этому бывшее почти
аксиоматическим положение о том, что «православие», или
«ортодоксия», предшествовало «ереси» (резкий вызов которому в
свое время бросил Бауэр[4]), постепенно мутировало в общую
установку цинизма в отношении самой возможности существования
кафолического, православного, или, проще говоря, нормативного
христианства.
Все возрастающий интерес и повышающаяся чувствительность в
отношении разного рода контекстов, в которых кодифицировалось
богословие, привели к тому, что специфически богословским
аспектам рефлексии стало уделяться недостаточно внимания. Не
желая приуменьшить значения разнообразных контекстуальных
подходов к прочтению авторов, выбранных здесь для рассмотрения,
эти подходы были нами опушены – частично по практическим
причинам (ради экономии места), но также в связи с нашей
убежденностью в том, что богословская мысль достойна изучения
сама по себе. Сколь бы возвышенным ни было богословие, оно, без
сомнения, всегда создается исключительно на почве «реального
мира», так что в любых богословских спорах, как и в нашем
современном прочтении их, всегда присутствовала и присутствует
различная подоплека. Однако исходить из того, что последняя также
обьясняет содержание тех или иных богословских положений,
означает, что из сферы внимания сознательно исключается то, что
непосредственно декларируется самими авторами, то есть мы как бы
предполагаем, что подлинные мотивы этих авторов известны нам
лучше, нежели им самим [5]. Мы никоим образом не желаем
приуменьшить значение введения более широких контекстов. Тем не
менее в фокусе данной работы находятся именно центральные
вопросы богословия в их связи с Евангелием – связи, которая носит
характер стандарта, или канона, обеспечивающего прочный
фундамент для осмысленной богословской рефлексии, с одной
стороны, и позволяющего найти критерии оценки этой рефлексии с
богословских позиций, с другой.
Одним из, казалось бы, неожиданных позитивных результатов
расцвета науки о ранней Церкви, который наблюдался на
протяжении последнего столетия, является то, что были, наконец,
удостоены пристального внимания ранние авторы – причем сами по
себе, а не только как этапы на пути к более поздним достижениям,
будьте богословие Никеи или Халкидона, или, еще упрощеннее, как
источники цитат для подтверждения современных идей из области
догматики или же «неопатристического синтеза». Без понимания
процесса размышления над Писанием, который и привел к Никее и
Халкидону, вероучительные декларации, принятые на этих соборах,
не могут быть поняты адекватно, или, как лаконично выразил данную
мысль Эрик Осборн, «любое заключение двусмысленно без того
рассуждения, которое привело к нему» [6]. Забывая про их связь с
Евангелием, которое и вдохновило их появление на свет, мы рискуем
превратить знакомые нам богословские формулы в увеличительное
стекло, искажающее результат восприятия Благой Вести. В связи с
этим подзаголовок настоящего тома (На пути к Никее) должен
пониматься не втом смысле, что Никея является неким финишным
пунктом, к которому с неизбежностью вел весь предшествующий
процесс богословских размышлений и дискуссий. Такое понимание,
нередко встречающееся в наши дни, ведет к тому, что ранний период,
а также присущие ему богословские задачи и цели оказываются
незамеченными или же приобретают значение лишь настолько,
насколько они считаются повлиявшими на принятие более поздних
вероучительных формул. Но ни один ответ не существует сам по себе,
не будучи ответом на какойлибо конкретный вопрос: именно вопрос
задает контекст, которым определяется смысл ответа. Содержание
богословских рефлексий и дискуссий предшествующих столетий
задают, таким образом, фон, на котором следует рассматривать
решения Никейского Собора; без изучения этого периода с целью
понимания его самого невозможно правильно оценить и саму Никею.
Факт того, что любой из нас находится в рамках той или иной
традиции, неоднократно подчеркивался во многих недавних
исследованиях, в связи с чем нет необходимости останавливаться на
этом моменте [7]. Подобно канону, традиция – это не парализующее
ограничение, а еще один стимул, обеспечивающий плодотворность и
творческое приложение мысли, и, вместе с тем, брошенный нам
вызов, поставленная перед нами задача и, в конечном итоге, то, в чем
мы обретаем свободу. Традицией, послужившей основой для
написания данной книги, является традиция Православной Церкви,
подтверждением чему служит тот факт, что в качестве темы были
выбраны определенные авторы – в основном (хотя и не
исключительно) Отцы Церкви – и определенные соборы, которые
Церковь признает как Вселенские. Тем не менее, как мы надеемся
показать в этой книге, наследие Отцов представляет собой ничто
иное, как рефлексию над и «изнутри» Евангелия Иисуса Христа. В
связи с этим нет никакого смысла говорить о якобы трансформации
изначальной Благой Вести в греческую метафизику, в результате
чего появилось нечто такое, что не присутствовало в изначальном
варианте христианства. Скорее, речь идет о постепенном угдублении
понимания того, что было дано раз и навсегда. Сегодня, как и в
античности, богословская рефлексия имеет необходимость
постоянного возвращения «к Слову, врученному нам от начала», как
напоминал об этом своим читателям св. Поликарп Смирнский уже во
втором веке [8].
^ ЧАСТЬ I
ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА
«А вы за кого вы почитаете Меня?» Прежде чем приступить к ответу
на этот вопрос Христа, следует рассмотреть исторический фон, на
котором он возникает, и определить систему понятий, которая задает
рамки возможного ответа на него. В первом случае речь идет об
исторических реалиях, что с неизбежностью затрагивает деликатный
предмет отношений между исторической и вероучительной истиной;
во втором – нам придется погрузиться в рассмотрение вызывающего
определенные дебаты отношения между Писанием и преданием и
вдостаточно сложную проблематику канона. Все эти вопросы
обсуждались на протяжении первых двух столетий христианства, а их
успешное разрешение приобрело впоследствии характер
нормативного (по крайней мере, для того периода, о котором пойдет
речь в данной серии книг).
В отношении проблем, связанных с историчностью, следует прежде
всего упомянуть о многократно описанном «скандале
исключительности» («the scandal of particularity»), заключающемся в
том, что Бог уникальным образом открылся в Своем Сыне,
палестинском еврее 1 века н.э. Многие тома были посвящены
описанию социальной, политической, экономической и культурной
ситуации Палестины того времени. Примерно в том же русле
находятся чрезвычайно размножившиеся на протяжении последних
десятилетий двадцатого столетия попытки реконструкции образа
«исторического Иисуса», характеризуюшиеся использованием якобы
объективных методов исторической критики. Тем не менее
необходимо четко понимать, что все подобные проекты
(спекулятивность и произвольность которых становится очевидной
при рассмотрении необычайного разнообразия «реальных» Иисусов,
которые появились и продолжают появляться на свет) не являются
ответом на вопрос Христа и не принадлежат тому типу познания, на
котором основывается христианская Церковь [9]. Вопрос Христа
требует толкования, то есть объяснения значения и смысла этой
исторической Личности, Его жизни и миссии. Сказать, что Иисус
родился от Марии и был распят при Понтии Пилате, – означает
сделать утверждение, которое относится к сфере исторической
реальности, то есть к факту, который может быть проверен при
помощи исторических методов, а может, и нет. Однако сказать, что
Он – воплощенное Слово Божие, распятый и воскресший Господь и
Спаситель, – это уже истолкование, объяснение того, Кем Он
является и в каком отношении состоит со всеми желающими ответить
на Его призыв. Писания Нового Завета как раз были первыми
подобными толкованиями, написанными на основании веры в Того,
Кого Бог воскресил из мертвых. Их статус как толкований не может
не быть упомянут в связи с имеющими место попытками найти
предполагаемое историческое «ядро», к которому затем
применяются уже совершенно иные интерпретационные рамки.
«Реальный Иисус», встречающийся нам на страницах Нового Завета,
– это уже истолкованный Иисус, и потому, чтобы понять Его наиболее
глубоко и полно, следует прежде всего обратиться к символическому
языку Писания, посредством которого Христос с самого начала понят
и истолкован – открыт людям.
И все же, когда мы начинаем говорить о собрании книг, известном
под общим заглавием Нового Завета, мы имеем в виду некоторое
развитие, ставящее перед нами дальнейшие серьезные вопросы.
Прежде всего: почему именно эти, а не другие произведения? Хотя
кажется вполне вероятным, что послания апостола Павла были
собраны воедино уже к концу первого столетия, после чего вскоре
возникло и известное нам четырехчастное собрание Евангелия [10],
решающие сражения на поле битвы за канон произошли только в
следующем веке и только к концу его Новый Завет приобрел свои
узнаваемые очертания. Параллельно с этим обрели четкую
формулировку понятия апостольского предания, апостольской
преемственности, а также канона, или правила, истины. Значение
дискуссии, сопровождавшей это развитие, трудно переоценить:
именно благодаря ей все указанные элементы еложились в единое
взаимосвязанное целое. Новый Завет, таким образом, занимает место
внутри некоей более всеобъемлющей констелляции. В связи с этим
для того, чтобы понять всю специфику дискуссии, о которой здесь
пойдет речь, а также ее результаты, следует избегать прочтения
способом, навязанным нам последующей полемикой в эпоху
Реформации и Контрреформации – когда Писание и Предание были
противопоставлены друг другу в качестве двух независимых друг от
друга источников церковного авторитета". Подобное
противопоставление с неизбежностью заводит в тупик: если
единственным авторитетным источником веры служит Писание, в то
время как «канон» понимается только как «список» обладающих
авторитетом книг, то оказывается проблематичным само
происхождение этого списка [12]. С другой стороны, если Писание
полагается составной частью предания на основании того факта, что
Церковь предшествует во времени появлению книг Нового Завета
(при этом выгодным образом замалчивается, в стиле Маркиона, что
Писание существует как Закон, Псалмы и Пророки), то вновь
возникает проблема, на этот раз в связи с отсутствием критерия, или
канона, для часто проводимого различения между «Преданием» и
«преданиями»: ко всем преданиям следует относиться одинаково
почтительно, однако к некоторым из них почему-то в большей
степени, чем к другим, без объяснения оснований для подобного
различения.
Что касается утверждения кафолического, православного или
нормативного христианства к концу II в., то в качестве центрального
должен быть поставлен вопрос о том, на каком основании все это
произошло. Было ли это результатом органического развития,
обусловленного самой природой евангельской проповеди, или,
напротив, православие было произвольным образом навязано
мужским, монархическим и властолюбивым епископатом, которому
удалось подавить все альтернативные голоса путем их отлучения и
демонизации (могут быть и иные варианты «научного описания»
означенного процесса)? Картину изначально чистого православия,
явившего себя в жизни образцовых христианских сообществ, от
которого в дальнейшем откололись различные ереси, подобную той,
что нарисована в книге Деяний апостолов или вЦерковной истории
Евсевия Кесарийского (IV в.), становится все трудней отстаивать, в
особенности после выхода работы Вальтера Бауэра «Ортодоксия и
ересь в первоначальном христианстве» [13]. И это понятно: ведь даже
самые ранние христианские сочинения, которыми мы обладаем, а
именно послания апостола Павла, обращены к церквям, уже
отпадающим от Евангелия, которое апостол ранее им возвестил.
И все же Евангелие было возвещено. Конечно, с самого начала
появлялись разногласия относительно того, как следует его
правильным образом понимать; было бы ошибкой искать в этом
раннем периоде истории Церкви потерянный золотой век,
характеризующийся богословской и экклезиологической чистотой, –
этого мы не найдем ни в апостольском периоде, отраженном в книге
Деяний, ни в истории ранней Церкви, описанной у Евсевия, ни в
эпоху Отцов и великих Соборов, ни в последующий этап развития
Церкви в Византийской империи. Тем не менее Евангелие было
возвещено, раз и навсегда. Необходимо, однако, напомнить, что
Евангелие Иисуса Христа – это Благая Весть Того, Кто грядет (ό
ερχόμενος, ср. Мф. 11:3, 21:9, 23:39), и, соответственно, отечество
христианина пребывает не на земле, а на небесах, откуда мы
ожидаем своего Спасителя, Господа Иисуса Христа (Фил. 3:20).
Подобным же образом Евангелие не заключено в каком-либо
конкретном тексте: те книги, которые были признаны
каноническими, всегда обозначаются как «Евангелие от...», то есть
«согласно такому-то». Евангелие зафиксировано не в отдельно взятом
тексте, но, как мы увидим позднее, в определенном истолковательном
отношении к Писаниям: Закону, Псалмам и Пророкам.
Вопрос о правильном толковании Писания являлся неотъемлемой
частью дискуссии о том, какие книги следует считать его составной
частью. При этом весьма важной была установка на то, что
существует не только определенный корпус Писания, но и
возможность его правильного прочтения: каноническое понимание,
верным образом выражающее гипотезу, которая содержится в самом
Писании. Несмотря на различное выражение этой гипотезы у разных
авторов и на поиск наиболее точных формулировок (не законченный
досих пор), господствующим являлось убеждение в том, что
существует одно правильное исповедание веры, и такое убеждение в
единственности правильной веры, правильного прочтения Писания
было самым тесным образом связано с исповеданием единственноети
Иисуса Христа, Единородного Сына единственного Отца Небесного,
Которого Тот «явил» (έξηγήσατο, «истолковал», Ин. 1:18).
Утверждение о том, что существует такая вещь, как правильное
исповедание веры, нашло к концу второго столетия свое выражение в
понятии канона (правила) веры, или истины, где канон означает не
произвольно составленный перечень пунктов, в который надлежит
верить, или книг, которые следует считать авторитетными, но,
скорее, кристаллизацию гипотезы самого Писания. Канон в этом
качестве является необходимой предпосылкой для чтения Писания в
соответствии с собственным смыслом последнего: канон есть канон
истины, в то время как Писание является ее телом.
Христианство нередко называют «религией книги» (наряду с
иудаизмом и исламом, о которых вданной работе речь не пойдет),
причем обычно это выражение понимается в весьма узком смысле, то
есть что оно (христианство) каким-то непонятным образом и по
какой-то непонятной причине предполагает связь с некоей книгой.
По контрасту с этим, понимание христианства, утвердившееся в
качестве нормативного во втором столетии, принимает данное
утверждение в гораздо более серьезном смысле: если Бог действует
посредством Своего Слова, значит. Слово должно быть услышано,
прочитано, понято, то есть сама связь между Богом и людьми
становится, в широком смысле этого слова, книжной. Отсюда же
установка на понимание и исполнение, или же воплошение, Божия
Слова, требующая всецелой вовлеченности
интеллектуальныхспособностей человека. Неслучайно, по замечанию
Фрэнсис Янг. христианство, признанное православным, или
нормативным, было настолько «привержено определенной версии
богооткровенной истины, основавшейся на тексте» [14]; именно
данноехристианство можно назвать религией, основанной на
толковании текста. Возвращаясь к вопросу об историчности, как
далее указывает Янг, было бы анахронизмом предполагать, что в
античности божественное откровение могло быть рассматриваемо
как нечто заключенное в исторических событиях, лежащих по ту
сторону текста, то есть в происшествиях, к которым якобы имеется
доступ посредством операции извлечения их из имеющегося текста.
В таком случае сами тексты рассматривались бы как простые
исторические документы, из которых мы в состоянии брать чисто
исторические данные, чтобы затем подвергнуть последние нашему
собственному анализу. Напротив, люди античности рассматривали
Откровение через призму событий, которые не только
представлялись, но и одновременно толковались посредством
Писания [15]. Иными словами, версия христианства, признанная к
концу И в. за нормативную, была привержена именно такому
пониманию Христа, делающему постоянную отсылку к Писанию, – на
основании канона истины и контекста предания (παράδοσις).
Однако если основание того, что получило свое утверждение в
качестве нормативного христианства к исходу II в., действительно
таково, то в не меньшей степени такова и динамика самого
Евангелия. Одна из наиболее ранних формул, использованных в
проповеди Евангелия, заключалась именно втом, что Христос был
распят и воскрес «по Писаниям»:
Я первоначально преподал (παρέδωκα) вам, что и сам принял, то есть,
что Христос умер за грехи наши, по Писаниям, и что Он погребен был
и что воскрес в третий день, по Писаниям (1Кор. 15:3-4).
То есть Евангелие, которое Павел преподал (передал как традицию),
описывается им прежде всего как соответствующее Писаниям.
Очевидно, что Писания, на которые ссылается апостол, это не четыре
Евангелия, а Закон, Псалмы и Пророки. Значение ссылки на Писание,
которую он здесь повторяет два раза, настолько велико, что данная
фраза сохранила свое звучание, став составной частью более поздних
Символов веры. Те из христиан, которые используют в своей
литургической практике НикеоЦареградский Символ, попрежнему
исповедуют, что Христос умер и воскрес по (тем же самым)
Писаниям. В центре этого принципиального христианского
исповедания стоит не историчность событий, скрытая за
сообщениями о них, а сам факт того, что данные сообщения
находятся в прямой связи и соответствуют Писаниям. Христианское
исповедание является «текстуальным», или, точнее,
«интертекстуальным» [16], и именно эта текстуальная ткань Писания,
как мы векоре увидим, ляжет в основу канона и предания – в том
виде, в каком последниебыли сформулированы вереде нормативного
христианства. Если «ортодоксия» действительно имеет более позднее
происхождение по сравнению с «ересью» (как это утверждал Бауэр и
как это теперь является уже почти общепризнанным), то она
оказывается основанной ни на чем ином, как на Евангелии в том
виде, в котором последнее было преподано изначально.
^ ГЛАВА 1
ТРАДИЦИЯ И КАНОН ЕВАНГЕЛИЯ ПО ПИСАНИЯМ
Прежде чем приступить к рассмотрению текстуальной ткани
Евангелия и его отношения к канону и преданию, следует
остановиться на двух непростых моментах, повлиявших на
формирование данных представлений. Первый из них – это учение
Маркиона. Богатый судовладелец с берегов Черного моря, Маркион
прибыл в Рим в середине второго столетия и пожертвовал местной
церкви большую сумму денег на разного рода благотворительные
нужды; однако деньги были возврашены ему обратно, как только
получили известность и были отвергнуты его своеобразные
богословские воззрения. Несмотря на последнее обстоятельство,
учение Маркиона приобрело много последователей, так что
маркионитская церковь существовала в Средиземноморском ареале в
течение нескольких следующих столетий. Дурная слава Маркиона
связана со строгим различием, которое он проводил между Богом
еврейских Писаний – мстительным, злобным и злопамятным
божеством, с одной стороны, и любящим Богом Нового Завета, Отцом
Иисуса Христа, освобождающим нас изпод гнета Бога Ветхого Завета,
– с другой. Основное произведение Маркиона, Антитезы, построено
как последовательно противопоставленные друг другу цитаты из
Ветхого Завета и из Евангелия, что должно было подчеркнуть
несопоставимость возникающих на этой основе двух образов
божества. Однако Маркион утверждал не только инаковость и
чуждость ветхозаветного Бога, но и то, что никто из апостолов, кроме
апостола Павла, не понял Иисуса Христа в Его роли Мессии
ветхозаветного Бога. По мнению Маркиона, апостолы исказили весть,
принесенную на землю Христом, или, как говорится об этом в
посланиях Павла, существует только одно Евангелие, которое
извратили лжебратия (Гал. 1:6-7). По Маркиону, только Павел понял
Иисуса Христа во всей Его полноте, и, тем не менее, он без особых
стеснений удалял целые фрагменты из посланий апостола [17].
Единственным из четырех Евангелий, которому Маркион болееменее
доверял, было Евангелие, написанное учеником Павла Лукой, однако
и это Евангелие ему пришлось подвергнуть определенной
редакторской правке.
Что же привело Маркиона к подобным воззрениям? Ответ на этот
вопрос можно найти у Тертуллиана, написавшего в начале III в.:
Первым и основным злоупотреблением Маркиона является
проведенное им разделение между Законом и Евангелием... Таковы
Антитезы Маркиона, или Противопоставления, составленные таким
образом, чтобы показать конфликт и несогласие между Евангелием и
Законом – так, чтобы на основании различия между принципами, на
которых эти два документа основаны, можно было перейти к
положению о различности богов [18].
Таким образом, к постулированию двух различных богов Маркиона
привели его специфические экзегетические взгляды, а именно
противоречие, которое он видел между Законом и Евангелием.
Маркион отрицал обоснованность аллегорического чтения Закона
как говоряшего о Христе [19]. Вместо этого он предлагал провести
строгое разграничение между Евангелием и Законом и вводил
понятие об ином, ранее неизвестном, божестве. Полное разделение
Евангелия и Писания, включающего в себя книги Закона, Псалмов и
Пророков, драматическим образом повторилось у Адольфа фон
Гарнака в его работе, посвященной Маркиону, остающейся
классической до сих пор. Свое монументальное исследование Гарнак
закончил следующими специально выделенными им словами:
Отвержение Ветхого Завета во втором столетии являлось ошибкой,
которую основная Церковь справедливо предпочла избежать.
Сохранение приверженности ему в XVI в. стало тем роком, уйти от
которого Реформация была еще не в силах. Однако продолжающееся
использование его в качестве канонического документа в
протестантизме XIX в. и далее представляется уже следствием
некоего религиозного и экклезиологического уродства [20].
Несомненно, существовало много факторов, приведших Маркиона и
Гарнака к подобным воззрениям (в этой связи не на последнем месте,
возможно, стоит то обстоятельство, что от них обоих, как от плохих
христиан, отреклись их собственные отцы [21]), однако оба они
представляют пример последовательного отказа от признания
какойлибо связи между Евангелием и Писаниями. Примечательно
здесь и то, что проблема в отношениях между Ветхим и Новым
Заветом начинает ощущаться наиболее остро как раз в те периоды,
когда произведения, ставшие частью последнего, сами начинают
признаваться в качестве Писания, во все нарастающем разрыве с
книгами Закона, Псалмов и Пророков.
Решение Маркиона постулировать существование иного бога может
показаться нам чересчур радикальным. После многих столетий
монотеизма, понимаемого скорее в философском, нежели в
библейском ключе, люди сегодня в гораздо большей степени исходят
из того, что если Бог существует, то Он существует только в
единственном числе, и что, хотя Писание, конечно же, говорит нам о
Нем, существует также возможность непосредственного или прямого
общения с Ним. В Бога, полагают многие, можно уверовать до того,
как Он встретится нам в Писании, и такой узнанный (или кажущийся
узнанным) Бог автематически отождествляется с Богом Авраама,
Исаака и Иакова, Отцом Иисуса Христа. Исходя из этого
современного представления любые несовпадения в образе Божества,
обнаруживающие себя в ходе сравнения Ветхого Завета и Нового,
объясняются путем отсылки к двум непохожим модусам поведения
Бога в две непохожие исторические эпохи. Понимание Бога, таким
образом, становится в зависимость от истории, а вместе с тем – и Сам
Бог.
Однако почему мы уверены втом, что Бог, Которого, как нам кажется,
мы узнали ранее, есть тот же самый Бог, о Котором говорит Писание?
Ведь даже Павел напоминает нам о существовании многих богов
(1Кор. 8:5). По всей видимости, путь, по которому следует Маркион,
противоположен тому, по которому идем мы сегодня. Богословие
Маркиона развивается на основании существующей экзегетической
предпосылки, что любое знание о Боге стоит в зависимости от Его
откровения, опоередованного Священным Писанием, то есть Бог
неразрывно связан со Своим Писанием. В этом же свете
рассматривает данную проблему Тертуллиан. Но и само Писание, как
это оказывается, исходит из точно такой же посылки. В своем
исследовании природы и функционирования языка Писания Нортроп
Фрай заключает следующее: «Можно было бы отважиться сказать,
что само существование Бога является выводом, напрашивающимся
из факта существования Библии: ведь Слово было в начале» [22].
Полагая за основу то, что Бог действительно открыл о Себе,
христианское исповедание безоговорочно утверждает, что Бог
Авраама, Исаака и Иакова, Отец Иисуса Христа, есть единственный
истинный Бог, Который вместе со Своим Сыном и Духом сотворил все
существующее и помимо Которого не существует иного бога. Однако
это именно исповедание, которое берет свое происхождение в
Божественном откровении – Его Писании, а не некая метафизическая
предпосылка, при посредстве которой разум приступает к пониманию
Писания.
Вторым сложным моментом, оказавшим влияние на формирование
православной позиции, стали мыслители и произведения, которые,
уже в новое время, были сведены под единую рубрику
«гностицизма»“. Что такое на самом деле «гностицизм» и каково его
отношение к христианству, продолжает являться предметом
оживленных споров, особенно начиная с 1945-1946 гт. – момента
обнаружения в НагХаммади большого количества документов той
эпохи. Одной из ключевых фигур во втором столетия является
Валентин. Будучи уроженцем Египта, Валентин, как об этом
сообщают историки, учился у Февды, ученика апостола Павла.
Подобно Маркиону, после длительных странствий он прибывает в
Рим, где к середине второго столетия встает во главе группы
христиан, имеющих склонность к более спекулятивному мышлению.
Возможно, благодаря осознанию той большой пропасти, которая
пролегала между ним и его последователями, с одной стороны, и
большинством христиан, с другой, Валентин начинает настаивать на
различии между верой тех, кто, состоя в Церкви, остается на
«плотском» уровне понимания, и более глубоким познанием
־гишиссш, которым обладают подобные ему подлинно «духовные»
мужи [24]. Для нас в Валентине особенный интерес представляет то,
как он пользовался Писанием для обоснования своих взглядов
(данный аспект удачно раскрыт в исследовании Дэвида Доусона [25]). В
отличие от Маркиона, Валентин не чувствовал необходимости
подвергать набор авторитетных текстов каким бы то ни было
количественным ограничениям. Напротив, он продолжал творчески и
с большим воображением использовать в своем творчестве тексты и
образы Писания, подобно тому, как новозаветные авторы обращались
к текстам и образам ветхозаветным. Таким образом появились на
свет его собственные сочинения, например. Евангелие Истины (если
только его авторство действительно принадлежит Валентину), в
котором можно распознать мотивы Писания (как Ветхого, так и
Нового Завета), но которое идет в совершенно ином направлении.
Для Валентина вещи, о которых говорит Писание, – это всего лишь
выражения Истины, наиболее отчетливо воспринимаемой сердцем.
Те же истины можно встретить в других местах, например, в
произведениях философов и так далее, что позволяет ему
примешивать в общую картину краски из самых различных
источников. Цитата из Валентина:
Многое из того, что написано в общих книгах [речь идет о
произведениях классической древнегреческой литературы. – И.Б.|,
можно найти и в книгах Божий Церкви [то есть в христианекой
литературе[. Ведь универсальны эти речения от сердца, а закон
написан в сердцах [26].
Встреча с Богом, таким образом, имеет место в сокровенных местах
сердца, и именно этот опыт находит выражение в различных
писаниях. Только такая встреча является источником всякой истины,
знания и мудроста. Как комментирует Доусон, «Валентин полагается
на визионерекий опыт собственного сердца. Только в нем для него
обретается источник мудрости, каковым для других обычно служит
авторитетный текст... Нет смысла обращаться к производным
источникам, коль скоро истина изначально лежит в самой глубине
твоего существа» [27]. По мнению Валентина, человек располагает
непосредственным доступом к истине как таковой – вдохновившей
все истинное, что содержится в разного рода сочинениях. Благодаря
такому прямому доступу к истине Валентин уже не признает разницы
между Писанием и комментарием, источником и толкованием, но,
будучи озарен собственным опытом, создает новую конфигурацию
образов и элементов языка Писания, что выливается в создание
новых произведений: «Визионер видит те же тайны, из которых
рождается общая мудрость классической и христианской
литературы. Поэтому он может не только комментировать уже
написанное (подобно Филону или Клименту)... но и творить новое –
подобно тому, как Филон творит Моисея, а Климент – логос»[28].
Целью Валентина яапяется достижение гнозиса (gnosis) –
наивысшего знания, которое позволяет обладающему им вычленять
элементы истины из произведений разных древних авторов и
использовать их заново при создании новых мифов. Важным здесь
является то обстоятельство, что, как пишет об этом Янг,
«гностическая доктрина представляет собой учение, которое
основывается на откровении, а не на традиции, текстуальной или
мыслительной» [29]. Определяющим при построении системы является
собственное видение, или понимание, Валентина. Именно оно есть
тот центр, вокруг которого складывается новый миф и выстраивается
материал, почерпнутый им в Писании и в прочих источниках. Для
Валентина не только не существует канона в смысле правильного
исповедания веры или определенного корпуса литературных
произведений, но и само Писание перестает для него бьггь чем-то
священным: его собственный визионерский опыт оказывается
гораздо важнее, так же как и его собственные литературные
сочинения. Таким образом, толкование протекает в полном отрыве от
П исания, результатом чего является, в терминах Иринея,
собственный вымысел (πλάσμα) читателя, а не произведение (πλάσμα)
Бога, то есть плоть, формируемая по образу и подобию Его Сына [30].
Ириней обвинял Валентина в том, что он проецировал свои
собственные внутренние состояния на небеса[31]. Эту мысль повторяет
и Доусон, замечая, что Валентин превратил драму Писания в
«психодраму»: «В конечном итоге, данное состояние бытия
[сформулированное в Евангелии Истины| – это личное состояние
самого говорящего. Валентин заботится не отексте и не о языке в
целом, но, подобно всякому визионеру, – о воспринимающем
субъекте, о своем внутреннем «Я»[32]. По справедливому замечанию
Уильямса, исторические персонажи, включаемые в общее
обозначение «гностиков», не обладали ни общностью подхода к
Писаниям, ни общими методами толкования. [33] Однако именно
понимаемая таким сугубо индивидуалистическим образом свобода
может послужить в качестве группового признака для всех тех, кто
не присоединился к становящемуся консенсусу понимания Христа
«по Писаниям» [34].
Отсутствие желания соответствовать Писаниям демонстрирует
такжеЕвангелие от Фомы, представляющее собой собрание логий
Иисуса, предложенных вне какой бы то ни было повествовательной
структуры.
Некоторые излогнй параллельны изречениям, встречающимся у
Матфея и Луки, что приводит на память О (гипотетический источник,
из которого якобы заимствовали свой материал синоптики) и ставит
вопрос о возможной связи между ними. Датировка Евангелия от
Фомы, как и его отношение к «гностицизму», весьма проблематичны
и широко обсуждаются в современных научных кругах. Однако,
какими бы ни оказалисьдата и происхождение, а также вне
зависимости оттого, сохранились ли в этом тексте некоторые
аутентичные высказывания «исторического Иисуса» или нет, в нем
отсутствуют попытки представить данные высказывания, как и
собственную картину Иисуса Христа, «по Писаниям». В Евангелии от
Фомы нет даже упоминания о принципиальной христианской вести
распятия и Воскресения Иисуса Христа, хотя, конечно же,
соответствующее знание могло просто предполагаться [35].
Наряду с авторами, рассмотренными выше, конечно, существовали и
те, в произведениях которых нашла отражение позиция, которая к
исходу второго столетия признавалась как отчетливо православная.
Это такие авторы, как Игнатий Антиохийский, доставленный вначале
века подстражей из Малой Азии в Рим для предания мученической
смерти; учитель христианской церкви в Риме Иустин Мученик
(середина II в.); и, несколько позже, Ириней Лионский, епископ
Галльский. Наследие этих авторов будет рассмотрено нами подробно
в части II. Несмотря на имеющиеся оттенки, все они работали внутри
текстуальноинтерпретационного подхода к откровению, в основе
которого лежала проповедь апостолов о Христе распятом и
воскресшем «по Писаниям». Однако что же всегаки подразумевалось
под проповедью Христа «по Писаниям»? И как следует понимать
отношение между Христом, Евангелием и Писаниями?
Лучше всего данная связь рассматривается, если принять в качестве
исходного контекста место и функциюлитературы вдревнем мире и, в
особенности, идею подражания образцу, или мимесиса (mimesis).
Быть человеком культурным, быть человеком образованным (то есть
получившим образование, paidea)подразумевало в те времена прежде
всего хорошее знакомство с классикой. Произведения классической
литературы служили не только в качестве образцов возвышенного
стиля письма и речи, но также морали, доблести и богоугодного
поведения, а также давали материал для обучения систематическому
и критическому мышлению [36]. Одним словом, классическое
образование задавало тот контекст и тот «символический мир», с
позиций которого человек воспринимал себя и свою жизнь. Те же
самые наблюдения можно отнести и к Писанию Израиля [37]. На
протяжении истории этой страны ее авторы использовали образы и
фигуры речи, которые были связаны с описанием более ранних
событий, а также с более ранними произведениями, что позволило им
воспринять, уяснить смысл и выразить суть происходящего в их
собственную эпоху. Так, например, в Быт. 9:1-7 Бог благословляет
Ноя возглавить обновленный после потопа мир, используя образный
и словарный ряд, уже встречавшийся в Быт. 1:26-31. Ной представлен
читателю в виде некоего нового Адама, через что устанавливается
типологическое взаимоотношение между этими двумя персонажами.
В то же время заключенный с Ноем завет становится затем
парадигмой для понимания последующих событий. Так, например,
после описания всеобъемлющего гнева Божия в книге Исайи,
последствием которого стало то, что Израиль был оставлен и
отправился в плен, пророк изрекает следующие слова:
Ибо это для Меня как воды Ноя:
как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так
поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.
Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость Моя не отступит
от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь (Ис. 54:9-10).
Как можно заметить, ссылка на Божий гнев, послуживший причиной
потопа, а также на последовавший за гневом завет, который был
заключен с Ноем и покрыл собой весь природный миропорядок,
используется вданном фрагменте для того, чтобы объяснить Божий
гнев, приведший к выселению в плен израильского народа, вслед за
чем должен прийти вечный завет Божия милосердия. Именно так
выстраивается еще одна типология между двумя эпизодами.
Схожая типология задействована у Исайи – в месте, где пророк
приводит на память пример Авраама в связи с той ситуацией, в
которой оказался Израиль после возвращения из плена. Исайя
подбадривает отчаивающихся людей и призывает их: «Посмотрите на
Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его
одного, и благословил его, и размножил его» (Ис. 51:2). Как бы ни
был мал «остаток», народу обещается национальное возрождение – в
случае, если он, в подражание патриарху, решит вернуться на землю
предков. Таким образом, Авраам становится типологическим
образцом как в отношении требуемого от них поступка, так и в
отношении обещанного результата. Но Авраам как типологический
образец для исхода уже встречался однажды, а именно при описании
первого исхода народа из Египта. Напомним: Быт. 12 рассказывает об
Авраме, который во время голода вынужден был покинуть землю
Ханаан и переселиться в Египет. Когда фараон берет к себе Сару,
думая, что она сестра Аврама, Господь поражает фараона и его дом,
после чего фараон высылает патриарха подальше из своей земли.
Типологический параллелизм в этом описании очевиден: судьба
Аврама здесь описывается как прообраз судьбы его потомков [38].
Как можно увидеть из данных фрагментов, образы прошлого
используются для осмысления настоящего, а события прошлого
оказываются как бы предваряюшими события настоящего. Этот
процесс, очевидный во всех книгах Писания, продолжается также в
Новом Завете, в частности, в том, как последний описывает Христа
«по Писаниям». Так, например, страсти Христовы описываются как
подлинная и первичная Пасха (само это слово теперь понимается в
значении «страдание»), в отношении которой пасхальный исход из
Египта является лишь прообразом: именно Христос – истинный
пасхальный Агнец Божий. Другой образец типологического подхода
мы встречаем у Иоанна (3:14-15):« И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Этот
стих отсылает нас назад, к Числ. 21, где народ ропщет на Бога и на
Моисея, говоря, что оставаться в пустыне – безумие; мирская
мудрость говорит им, что предпочтительнее было бы вернуться в
Египет. Тогда Бог поражает их смертью от змеиных укусов, в то же
самое время предлагая им исцеление: Моисей устанавливает
бронзового змия на шесте, и всякий, взирающий на него, остается
жив. Та же самая цепочка образов встречается у апостола Павла.
Обращаясь к членам коринфской общины, соблазняющимся мирской
мудростью, апостол говорит о том, что безумие Божие (то есть
Распятый на кресте, Который типологически повторяет вознесенного
на шесте медного змия) преодолевает мирскую мудрость, так что
Христос распятый и есть истинная сила и мудрость Божия (1Кор.
1:22-25). Несколько в ином ключе, однако при помощи все той же
литературной или интертекстуальной техники, принятой в Писании,
евангелист Матфей описывает Христа как нового Моисея,
поднимающегося на гору, чтобы донести до народа Божий Закон, в то
время как Павел представляет Его как нового Адама, исправляющего
ошибки Адама первого, которого апостол прямо называет «образом
Того, Который должен был прийти» (Рим. 5:14 [39]).
Связь между Писанием, Евангелием и Христом не рассматривается
непосредственно у апостола Павла, в отличие от авторов второго
столетия, о которых пойдет речь во второй части книги. Однако
Павел все же затрагивает вопрос о динамике этого отношения в
достаточно сложном фрагменте, заслуживающем того, чтобы его
процитировать полностью:
Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А не
так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы
сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их
ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым
при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.
Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но
когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.
Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все,
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не
унываем; но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину,
представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и
закрыто благовест вование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса,
Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. (2 Кор. 3:12-4:6).
В этом весьма насыщенном фрагменте Павел идет в направлении
рассмотрения взаимных связей, существующих между Моисеем и
Христом, Писаниями и Евангелием. Согласно апостолу, «то же самое
покрывало», которым покрывал голову Моисей, остается до сегодня
на тех, кто читает «Моисея»–теперь уже текст [40]; однако это
покрывало снимается с тех, кто обращается к Господу и вследствие
этого может понимать Писание правильным образом. То, что
покрывало снимается Христом, означает, что только во Христе
открывается Божия слава и дается возможность различать истинный
смысл Писания и что эти два аспекта неразделимы. Тождество между
Моисеем как человеком и Моисеем как текстом, чье лицо и значение
сокрыты одним и тем же покрывалом, выступает здесь в качестве
параллели тождеству между Христом, в Чьем лице открывается слава
Божия, и Евангелием,провозглашающим это. Таким образом, за
покрывалом оказывается ничто иное, как «свет благовествования о
славе Христа», Который Сам является образом Бога, хотя это и
остается закрытым для тех, кто благовествование отвергает. По
словам Хэйза, все это указывает на то, что в итоге «Писание
становится – в прочтении Павла – метафорой, объемной фигурой
речи, которая означивает и освещает [signifies and illuminates!
Евангелие Иисуса Христа» [41].
Тем не менее сказанное не означает, что само Евангелие было не
более чем «новым прочтением древнего Писания», как это утверждал
Рикер [42]. Весть о смерти и воскресении Христа не выводится
непосредственно из Писания; скорее, ее действие было сродни
действию катализатора. Поскольку во Христе Бог заявил о Себе
самым определенным и неожиданным образом, настолько, что через
Христа получило обновление все сущее, – то и Писание также должно
было быть прочитано заново. «Слово крестное» и «проповедь Христа
распятого» могли представлять соблазн для иудеев и безумие для
язычников, но только они несли в себе «силу Божию», позволившую
познать «Божию премудрость» (I Кор. 1:18-25). Эта проповедь,
керигма, породила «эсхатологический апокалипсис Креета» (Хейс) –
ту самую герменевтическую линзу, пройдя через которую, Писание
отныне приобрело «невиданную по глубине символическую
последовательность» [43]. Будучи прочитано в свете того, что Бог
совершил во Христе, Писание предоставило понятия и образы, то есть
контекст, который позволил апостолам понять смысл происшедшего,
а затем возвестить и объяснить этот смысл другим, обосновывая свое
утверждение тем, [1]по Христос умер и восстал «по Писаниям». Важно
отметить, что речь идет именно об объяснении Христа посредством
Писания, а не об экзегезе Писания самого посебе. Задачей является
не установление «первоначального значения» древнего текста, как в
современной историко-критической науке, а о понимании Христа,
Который, будучи истолкован «по Писаниям», становится центральной
и сквозной темой всего Писания [44].
Именно такая интерпретативная связь с Писанием обнаруживается в
канонических Евангелиях. Описание Христа и Его поступков,
кульминирующее в событиях Страстей, с точки зрения которых и
повествуется обо всем остальном, построено здесь на постоянном
привлечении образов из Писания. Само «начало Евангелия Иисуса
Христа» иллюстрируется Марком при помощи цитаты из Исайи (Мк.
1:1-3; Мал. 3:1; Ис. 40:3). У Матфея связь с Писанием прослеживается
на протяжении всего повеет во вания, которое ведется по принципу
исполнения ветхозаветных пророчеств. С другой стороны, у Луки
связь проявляет себя в виде герменевтического принципа
интерпретации, которому учит воскресший Христос, открывший
таким образом глаза Своим ученикам: «И, начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24:27,
ср. Лк. 24:44-49). В Евангелии от Иоанна ученики получают ту же
самую способность прозревать смысл текста в тот момент, когда
воскресший Христос дуновением сообщает им обещанного Духа
Святого – Того Самого, Который должен напомнить им обо всем, что
имеет агношение ко Христу, и наставить их на всякую истину (ср. Ин.
20:22; 14:26). Слово и Дух нельзя разделить, и они оба содействуют в
решении задачи истолкования. Там же у Иоанна мы находим
наиболее четкую формулировку отношения между Писаниями и
Христом, в словах Самого Христа: «Если бы вы верили Моисею,
поверили бы и Мне, потому что он писал обо Мне» (Ин. 5:46).
Признанные позднее православными со стороны «Большой Церкви»
[45]
, авторы второго столетия очень хорошо ощущали это
взаимоотношение между Писанием и Евангелием: не только Писание
говорит о Христе, но и все сказанное в апостольских писаниях уже
содержится в Писании. Как утверждал Иустин Мученик:
В этих-то книгах пророков находим мы предсказания о том, что
Иисус, наш Христос, придет, родится от Девы и возрастет, будет
исцелять всякую болезнь и всякую немошь и воскрешать мертвых,
подвергнется зависти, и будет не узнан, и распят, умрет и
воскреснет, и на небеса взойдет, и наречется Сыном Божиим; также,
что некоторые будут Им посланы проповедать это во весь род
человеческий, и более из язычников уверуют в Него [46].
Главным моментом для Иуетина является, очевидным образом,
не«исторический Христос», в современном понимании слова
«исторический», – для него важно показать, что сказанное о Христе
было соткано и записано на основании библейского материала и что
Христос, Слово Божие, Сам соткан и выражен именно так. По словам
Гриера, в отношениях между Писанием и Евангелием можно
разглядеть действие двойной динамики. С одной стороны, «наиболее
ранние попытки христиан объяснить Христа являются в большой
степени экзегетическими по своему характеру. Их слова о Христе
укоренены в деталях Священного Писания». С другой стороны,
«фактором, задающим форму этому экзегетическому усилию,
является рассказ о Христе». Именно в этом смысле Христос, Слово
Божие, является, как часто говорится, ключом к Писанию [47].
Понимание Христа как Слова Божия у Игнатия, Иуетина и Иринея
будет подробно рассмотрено нами в части И. В задачи настоящей
главы входит исследование связи между единством символического
мира Писания (это единство, как мы говорили, приобрело ясность в
свете проповеди о Кресте) и ссылкой на канон и предание как на два
ключевых элемента самоидентификации православного, или
нормативного, христианства. То, каким образом апостольская
проповедь Христа последовательно опирается на единство и согласие
(coherence) Писания: Закона, Пророков и Псалмов, – наиболее четко
показано у Иринея, в его кратком, не полемическом по характеру и,
скорее всего, катехизическом трактате под названиемДоказательство
апостольской проповеди**. Важно, что предмет Иринея составляет
именно проповедь апостолов, а не аутентичные высказывания
«исторического Христа». В данном обстоятельстве можно увидеть
определенное развитие по сравнению с более ранними памятниками,
такими, как, например, Дидахе, подзаголовок которого звучит как
«Учение Господаязычникам, переданное двенадцатью апостолами»
[49]
. Хотя Ириней, очевидным образом, был знаком с письменными
трудами апостолов [511], его изложение основывается исключительно
на Писании: рождение Иисуса от Девы и Его чудеса представлены им
на основании пророчеств Исайи и других ветхозаветных книг; имена
Пилата и Ирода почерпнуты у евангелистов; повествование об аресте
и осуждении Христа взято из пророка Осии; распятие, воскресение и
вознесение также описываются на основании пророков. В первой
части работы (ЗЬ-42а) Ириней пересказывает Писание, давая обзор
спасительного действия Божия, кульминацией которого является
апостольская проповедь Христа. Во второй части (42Ь-97) он
показывает, как все то, что осуществилось в жизни Иисуса Христа,
было заранее описано у пророков. Это делается как для того, чтобы
мы уверовали в Бога, поскольку все, о чем Он говорил заранее,
сбылось, так и в качестве демонстрации того, что Писание на всем
своем протяжении действительно говорит об Иисусе Христе, Оюве
Божием, возвещенном апостолами.
Единство Писания, неразрывность текстуальной и интерпретативной
связи между апостольской проповедью Евангелия и Писанием
являются фундаментом, на основании которого Ириней
рассматривает вопросы канона и предания, вовлекая в это
рассмотрение также апостольские тексты как полноправную часть
Писания. Сочинение Иринея Против ересей [51] является самой
ранней сохранившейся работой, в которой используются все
отмеченные элементы: апостольское Писание, предание,
преемственность и канон – в качестве противопоставления тем, кто
«говорит то же самое, однако мыслит иначе» (ПЕ1 .Pref.2). Начав
свое изложение с описания некоторых валентинианских мифов,
Ириней обращается к анализу того, каким образом в них бьшо
использовано Писание, что позволяет ему остановиться на вопросе о
роли канона и предания:
Таково их учение (ΰπόθεσις, гипотеза), которого ни пророки не
возвещали, ни Господь не проповедал, ни апостолы не предали, и
которым они хвалятся, будто знают обо всем больше других, ибо
вычитали из неписаных книг (έξ άγραφων); [52]; и, взявшись, по
пословице, из песка вить веревки, пытаются к своим положениям
приладить с видом вероятности Господни притчи, или пророческие
изречения, или апостольские слова, чтобы вымысел их (πλάσμα) не
казался не имеющим никакого свидетельства; и при этом оставляют в
стороне порядок (τάξις) и связь (ειρμός) Писаний и, сколько можно,
разрывают члены истины. Но, переставляя и переиначивая и из
одного делая другое, они успевают обольстить многих призраком
нескладно связанных слов Господних. Как если кто, взяв царское
изображение, прекрасно сделанное умным художником из
драгоценных камней, уничтожит представленный вид человека,
переставит и приведет в другой вид эти камни и сделает из них образ
пса или лисицы и об этом негодном произведении будет потом
отзываться и говорить: «Вот то самое прекрасное царское
изображение, которое произвел умный художник», указывая при сем
на камни, из которых первым художником прекрасно еделано было
царское изображение, а последним дурно переделано в изображение
пса, и указанием на камни станет обманывать и убеждать неопытных,
не имеющих понятия о царском лице, что этот гнусный вид лисицы
есть то самое прекрасное изображение царя; таким же образом и эти
люди сшивают старушечьи басни и потом, вырывая оттуда и отсюда
слова, выражения и притчи, хотят к своим басням (μύθοις)
приспособить изречения Божии (ПЕ 1.8.1).
Набор терминов, употребляемых Иринеем в данном фрагменте в
целях критики его оппонентов, имеет весьма точное значение в
эллинистической эпистемологии и теории литературы. И
действительно, приведя дальнейшие примеры экзегезы своих
оппонентов, Ириней обращается к следующему литературному
примеру. Он описывает (в ПЕ 1.9.4), как некие люди берут отдельные
строки поэм Гомера, с тем чтобы переделать их в звучашие
погомеровски стихи, рассказывающие истории, у самого Гомера не
встречающиеся. Хотя литературные компиляции такого рода могут
ввести в заблуждение людей, обладающих лишь поверхностным
знанием Гомера, ни одного знатока его поэзии, говорит Ириней, они
не обманут, поскольку знающий человек всегда способен определить,
какие именно строки принадлежат самому Гомеру и из какого
контекста они были вырваны.
Основное обвинение Иринея в отношении валентиниан заключается
втом, что они пренебрегают «порядком и связностью Писаний», этого
тела истины, искажая тем самым подлинную картину. Они не
принимают целостности Писания как говорящего о Христе, но
предпочитают свою собственную конструкцию, появившуюся на свет
в результате приспособления фрагментов, почерпнутых из Писания,
к совершенно иной гипотезе, которой они и пытаются придать некую
убедительную правдоподобность. Употребляемые Иринеем термины
«вымысел» (πλάσμα) и «миф» (μΰθος) в эллинистической теории
литературы обозначают истории, которые в первом случае
неправдивы, хотя и кажутся таковыми, и во втором – неправдивы на
все сто процентов [53]. В своем истолковании Писания валентиниане,
согласно Иринею, основываются на своей собственной «гипотезе»
(ΰπόθεσις), а не на той, что была предсказана пророками, которой
учил Христос и которая была передана апостолами. В
эллинистическую эпоху термин «гипотеза» (ΰπόθεσις) обладал
широким спектром значений, одним из которых, опять же в
контексте литературного творчества, являлось значение «сюжета»,
или «плана» драмы или эпического произведения (в Поэтике
Аристотеля последние обозначались как μΰθος) [54] – «гипотезой»
поэта считалось то, что задавало направление его последующей
творческой работе. Как таковая, «гипотеза» не являлась результатом
логического мышления, но, скорее, предоставляла в распоряжение
автора некий сырой материал, обрабатывая который, он и мог
проявить данный ему поэтический талант. Таким образом, хотя
валентиниане и использовали слова и фразы, почерпнутые из
Писания, они приспособили их к совершенно иной «гипотезе» и
таким образом создали совершенно новый продукт [55].
В других областях искусства и науки «гипотеза», как нечто лежащее
в начале творческого процесса, также считается фактором, который
побуждает к действию и исследованию и, в конечном итоге, к
приобретению самого знания. «Гипотезы», согласно Аристотелю, –
это отправные пункты, или первичные принципы (άρχαί)
доказательств [56]. «Гипотезой» врача является здоровье его пациента:
врач размышляет над тем, как этого здоровья можно бьшо бы
быстрее достичь, – подобно тому, как математики, приняв под видом
гипотезы определенные аксиомы, выстраивают свои доказательства
[57]
. И втом, и в другом случае «гипотезы» являются
предварительными, пробными: если цель оказывается недостижимой
или же заключения, полученные на основании первичного
предположения, оказываются ложными, такая гипотеза отвергается.
С другой стороны, по крайней мере, начиная с Платона, целью
философии считалось нахождение конечных, негипотетических
первопринципов [58]. Но и в случае философии, как это признавал
Аристотель, невозможно требовать доказательств в отношении самих
первопринципов: первопринципы недоказуемы, в противном случае
они оказались бы зависимыми от чего-то первичного по отношению к
ним, то есть мыслящие таким образом с неизбежностью попадают в
ситуацию бесконечного регресса[59]. Это означает, как отмечает
Климент Александрийский, что поиск первопринципов
доказательства ведет к принятию недоказуемой веры [60]. Согласно
Клименту, Писания (а точнее, говорящий в них Господь) являются
первопринципом всякого знания для тех, кто разделяет веру в Христа
[61]
. Именно голос Господа, говорящий на протяжении всего Писания,
является первопринципом, негипотетичной гипотезой, стоящей за
любым основывающимся на Писании рассуждением, которое ведет
христиан к познанию истины.
Будучи воспринимаемыми верой, такие первопринципы
служатосновой для последующих доказательств, а также
используются для оценки любых притязаний на истину, то есть
выступают таким образом как «канон». Изначально данный термин
обозначал просто прямую линию – линейку, которая применялась для
оценки прямизны других линий: «По тому, что прямо, мы можем
отличить как прямое, таки кривое, ибо линейка плотника (ό κανών)
является мерилом обоих, тогда как искривленное не в состоянии
проверить ни себя, ни того, что прямо» [62]. Канон Эпикура,
повидимому, является первым сочинением, которое было посвящено
необходимости установления «критериев истины* [63]. Именно эта
потребность, проявившая себя перед лицом натиска скептицизма,
вылилась в установившееся в эллинистический период правило
начинать всякую систематическую презентацию философии с
описания «критерия» [64]. Без канона, или критерия, знание попросту
невозможно, поскольку любое исследование оказывается
беспомощным перед лицом бесконечного регресса. Общим местом в
эллинистической философии является признание заранее
составленных понятий (προλήψεις – общие понятия, синтезированные
на основе повторяемых чувственных восприятий; позднее они были
признаны за врожденные), способствующих процессу познания и
действующих в виде «критериев». Самоочевидность (ένάργεια)
чувственных восприятий в случае эпикурейцев, четкость когнитивных
впечатлений в случае стоиков – представляли собой непогрешимые
критерии исследования истинно сущего. Однако, как, опять же,
отмечает Климент, даже Эпикур признавал, что эти «заранее
составленные понятия ума» суть предмет «веры» и что в отсутствие
последней невозможно ни исследование, ни вынесение какоголибо
суждения[65].
Подобно тому, как эллинистические философы оспаривали
бесконечную регрессию скептиков путем обращения к канону, или
критерию истины, Ириней, Тертуллиан и Климент Александрийский
отвечали на вызов постоянно претерпевающей изменения мифологии
гностиков (по выражению Иринея, гностики обязаны изобретать для
себя нечто новое ежедневно. – ПЕ1.18.1; 1.21.5), обращаясь к своему
собственному канону истины [66]. Используя терминологию, схожую с
философской, Ириней утверждает, что «мы должны неповрежденно
соблюдать правило веры и испол пять заповеди Божии, веруя в Бога»,
ибо такая вера «созидается натом, что истинно существует, дабы мы
веровали в сущее как оно есть» (ДАПЪ). Подвергнув гностиков
критике за искажение Писания в соответствии с их собственной
гипотезой и приведя пример, касающийся компиляции из Гомера,
процитированный нами выше, Ириней продолжает:
Так и содержащим неуклонно правило истины (τόν κανόνα της
άληθείας), которое принял через крещение, признает имена, елова и
притчи, взятые из Писаний, но не признает богохульного
приложения. какое из них сделано. Ибо хотя и узнает камни, но
лисицу не примет за изображение царя, и каждое изречение,
возвратив в свою связь и приложив к телу истины, обнажит вымысел
их и покажет его несостоятельность (ПЕ 1.9.4).
Вслед за этим в ПЕ1.10.1 мы встречаем у Иринея наиболее подробное
описание веры, полученной от апостолов. Это вера «вединого Бога
Отца, Вседержителя, сотворившего небо и землю...; и во единого
Христа Иисуса. Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения; и
в Духа Святого, чрез пророков возвестившего все домостроительство
Божие» [67], то есть пришествие (τήν ελευσιν) Спасителя, рождение от
Девы, страдание, воекресение, телесное вознесение на небеса,
возвращение (παρουσία) с небес для итогового суда, ведущего либо к
вечному отделению, либо к вечной жизни. В ПЕ 1.9.4 Ириней
описывает канон истины как то, что получается человеком при
крещении, – и действительно, в основе описания христианской веры,
которое приводится им в ПЕ 1.10.1, лежат те же три ключевых
пункта, которые можно найти в древнейших символах веры,
составленных в виде опросников, в свою очередь восходящих к
заповеди о крещении, данной Самим Христом (Мф. 28:19). В другом
месте, рассматривая вопрос о правиле истины, Ириней также
утверждает, что «крещение нашего возрождения совершается
посредством этих трех положений» (Д4Я7). Однако, несмотря на
такую взаимосвязь с крещением, правило истины не существует в
виде какойлибо специальной декларации – в отличие от символов
веры, используемых при крещении начиная с IV в. [68] Каноны истины
оставались значительно более гибкими по своему еловерному составу
и, по всей видимости, использовались в ином ключе: в виде
богословского ориентира, а не как некое формальное исповедание.
Смысл канона истины, таким образом, состоит не совсем в том, чтобы
предоставить фиксированные и отвлеченные утверждения о
христианеком вероучении. Канон не дает также повествовательного
описания христианской веры, литературной «гипотезы» Писания [69].
Скорее, канон выражает правильное понимание гипотезы самого
Писания, благодаря чему становится возможным увидеть в Писании
портрет царя, Христа, а не каргинус изображением «пса» или
«лисицы». В конечном итоге в этом и заключается вера в Христа
апостольской проповеди, в Христа «по Писаниям» – и, наоборот, в
Христа как субъекта самого Писания на всем его протяжении, о
Котором Св. Дух говорил через пророков и Который Сам открывает
единого Бога и Отца. Будучи понят таким образом, канон
обеспечивает доказательство несообразности и чуждости
гностических «гипотез». Посредством того же канона различные
фрагменты или «члены истины» (ПЕ 1.8.1) могут вновь занять
принадлежащее им место внутри «тела истины» (ДАП1), Писания,
так что они могут вновь говорить о Христе, разоблачая подлинную
суть гностических вымыслов. Канон истины – это не система
отвлеченных вероучительных положений и не повествование
(narrative). Будучи основан на трех именах, во имя которых
совершается крещение, канон истины, для Иринея, неразрывно
связан с «порядком (τάξις) и связью (ειρμός) Писаний»(ПЕ 1.8.1), ибо
он свидетельствует об Отце, Который сделал Себя известным через
Сына Духом Святым, Который говорил через пророков, то есть через
Писание: Закон, Псалмы и Пророков. Примечательно, что в наиболее
полном каноне истины, представленном Иринеем в ПЕ 1.10.1, все
домостроительство Христа, данное в Евангелиях, представлено
автором в разделе, посвященном Св. Духу (Который возвестил обо
всем этом через пророков, то есть в Писании, которое следует читать
в соответствии с Духом), – а не во втором разделе, как в позднейших
повествовательных символах веры, где то, о чем именно Св. Дух
«говорил через пророков», остается без уточнения. Канон истины
является для Иринея воплощением, или кристаллизацией,
когерентного смысла Писания, которое следует прочитывать в его
отношении ко Христу, откровение о Котором было дано в Евангелии,
то есть в апостольской проповеди Христа «по Писаниям». Примерно
по той же схеме пытается определить канон и Климент
Александрийский:
Церковный канон есть согласие, или гармония, Закона и Пророков в
Завете, принесенном пришествием Господа [70].
Канон не является неким произвольным принципом, к которому
прибегают, когда хотят исключить другие законные голоса или пути
развития. Скорее, он выражает гипотезу Писания, позволяя на
основании материала, содержащегося в нем, создать точный портрет
царяХриста: это есть тот самый способ истолкования, который был
сформулирован апостолами в их проповеди [71]. Все другие картины и
вымыслы, действительно, оказываются исключенными, но ведь они
как раз и не представляют Христа, как о нем говорили апостолы, то
есть Христа «по Писаниям».
Канон истины кристаллизует ключевые элементы веры, которая была
передана апостолами. Он выражает основные элементы единого
Евангелия, как его хранит и проповедует Церковь в постоянно
изменяющемся внешнем контексте. Непрестанно меняющийся
контекст, в котором провозглашается неизменная Благая Весть,
создает необходимость акцентировать различные аспекты, или грани,
Евангелия как ответ на вызовы текущей эпохи. Однако, несмотря на
то, что контекст непрестанно меняется, содержание самого предания
остается тем же самым – это все то же Евангелие, Благая Весть. В
связи с этим, описав правило истины в ПЕ 1.10.1, Ириней
продолжает:
Приняв это учение и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему
миру, – как я сказал,–тщательно хранит их, как бы обитая в одном
доме; одинаково верует этому, как бы имеет одну душу и одно сердце;
согласно (συμφώνο) проповедует это, учит и передает, как бы у ней
были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания
(ή δύναμις της παραδόσεως) одна и та же. Не иначе верят, и не
различное имеют предание церкви, основанные в Германии, в
Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в средине мира.
Но как солнце – это творение Божие во всем мире одно и то же, так и
проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих
прийти в познание истины. И ни весьма сильный в слове из
предстоятелей церковных не скажет иного в сравнении с сим
учением, ибо никто не выше Учителя, – ни слабый в слове не умалит
предания. Ибо, так как вера одна и та же, то и тот, кто многое может
сказать о ней, не прибавляет, и кто малое не умаляет (ПЕ1.10.2).
Поскольку вера – одна, те, кто может говорить о ней бесконечно,
ничего не прибавляют к ее содержанию; равно и плохие ораторы не
убавляют ничего, поскольку значение, или содержание, предания –
то же самое. Таким образом, ясно, что для Иринея «предание» не
является чем-то живым, в том смысле, что оно может изменяться,
расти или развиваться в нечто иное [72]. Задача Церкви состоит в том,
чтобы она тщательно оберегала то возвещение и ту веру, которые она
получила, и она обязана проповедовать, учить и передавать их далее
в единогласии.
Вместе с тем, как мы видели выше, канон не ставит перед собой
задачу загнать наши вопросы или размышления в тупик, но,
напротив, пытается сделать их возможными [73]. По этой причине,
хотя Ириней и подчеркивает, что содержание апостольского
предания остается одним и тем же, уже в следующем разделе (ПЕ
1.10.3) он дает указания тем, кто желает поглубже погрузиться в
изучение Божественного откровения. Здесь мы находим новую
формулировку все той же основополагаюшей перспективы:
богословское вопрошание не должно вестись так, чтобы изменялась
гипотеза (то есть чтобы выдумывался иной Бог или иной Христос), –
его смысл заключается в дальнейшем размышлении над тем, что
было сказано в притчах, а также в прояснении темных мест Писания
через их помещение в ясный свет «гипотезы истины».
Более полно отношение между Писанием и преданием исследуется
Иринеем в первых пяти главах Книги 3 Против ересей, где он
стремится разбить притязания гностиков на обладание неким тайным
устным преданием. Его рассуждение начинается с категоричного
утверждения, [1]по Божие откровение дано через посредство
апостолов. Чтобы видеть Бога, недостаточно лицезреть «Иисуса
истории», как недостаточно вообразить, будто Бог является прямым
партнером по диалогу, без посредничества Его собственного Слова.
Напротив, как откровение, так и общение с Богом осуществляются
при посредничестве проповеди апостолов, то есть Евангелия,
которое, как мы видели, само находится в исталковательных
отношениях с Писанием. Рольапостолов в передаче Благой Вести
является определяющей. Как пишет Ириней:
Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а
через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда
проповедовали (устно), потом же, по воле Божией, предали
(tradiderunt) нам в Писаниях, как будущее основание и столп нашей
Веры... Так, Матфей издал у евреев на их собственном языке писание
Евангелия, в то время как Петр и Павел в Риме благовествовали и
основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь
Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И
Лука, спутник Павла, издожил в книге проповеданное им Евангелие.
Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также
издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском. И
все они проповедали нам Единого Бога, Творца неба и земли,
возвешенного Законом и Пророками, и Единого Христа, Сына Божия;
и кто не согласен с ними, тот презирает причастников Господа,
презирает и Самого Христа Господа, презирает и Отца, и сам собою
осужден, противясь своему собственному спасению, что делают все
еретики (ПЕ 3.1.1 -2).
Именно апостолы, и никто другой, принесли откровение Христа в
мир, хотя то, что они проповедовали, уже было провозглашено в
Писании: Законе и Пророках. Будучи составлены людьми, которые
сами апостолами не являлись, Евангелия, по утверждению Иринея,
являются изложением проповеди тех, кто ими являлся. Он еще более
выделяет роль апостолов как основателей христианства, когда
утверждает (в предложении, которое было пропущено нами в
приведенной выше цитате), что апостолы не могли выйти на
проповедь прежде, нежели им была дарована полнота знания
воекресшим Господом. Тот момент, что апостолы сперва
проповедовали Евангелие и лишь затем записали его, является
ключевым для Иринея, поскольку это позволяет ему несколько ниже
обратиться к авторитету непресганной проповеди Евангелия в
Церкви, то есть к апостольскому преданию. Не менее важным
является уточнение о том, что то, что было записано апостолами,
было также передано нам в Писаниях как столп и утверждение
нашей веры. Если Павел говорил о Церкви как о столпе и
утверждении истины (1Тим. 3:15), то Ириней, который стоял перед
необходимостью более четкого определения, что же такое Церковь,
видоизменяет его слова, так что теперь уже само Писание
оказывается «столпом и утверждением» веры. Далее по тексту
Ириней называет уже Евангелие в его четырех различных формах и
Духа жизни «столпом и утверждением Церкви» (ПЕ, 3.11.8).
Черезевою проповедь Евангелия Петр и Павел положили основание
Церкви, поэтому Церковь, само существование которой определено
Евангелием, должна сохранить то, что заложено в ее основании,
неповрежденным.
Установив основополагающий характер Писания и Евангелия,
Ириней обращается к деталям своего спора с теми, кто противится
такой точке зрения:
Когда обличают (еретиков) из Писаний, то они обращаются к
обвинению самых Писаний, будто они неправильны, не имеют
авторитета, различны по изложению, и (говорят) что из них истина
не может быть открыта теми, кто не знает предания. Ибо (говорят)
истина предана не чрез письмена, но живым голосом, и потому будто
Павел сказал: мы говорим премудрость между совершенными,
премудрость же не мира сего (1 Кор. 2:6). И этой премудростью
каждый из них называет изобретенный им самим вымысел, так что,
по их понятию, истина находится то в Валентине, то в Маркионе, то в
Керинфе, а потом в Василиде или в каком другом противоречащем им
(учителе), который не мог ничего сказать, относящегося ко спасению.
Ибо каждый из них, будучи совершенно превратного направления, не
стыдится, искажая учение истины, проповедовать себя самого
(ПЕ3.2.1).
Согласно Иринею, когда в адрес его оппонентов звучат обвинения,
что их учение невозможно встретить в Писании, те начинают
утверждать, будто эти Писания неавторитетны, неадекватны с точки
зрения полноты знания, двусмысленны и что их следует толковать в
свете предания, которое было унаследовано не в письменной, а в
устной форме. Таким образом, оппоненты апеллируют к дихотомии
между Писанием и преданием, причем понимают последнее как
устную передачу учения, имеющего начало в апостолах и
содержащего материал, которого нет Писаниях; именно последний
считается ими необходимым для правильного прочтения Писания [74].
Выше мы видели, что, провозгласив Христа «по Писаниям»,
апостолы, безусловно, ввели новый способ прочтения Писаний; тем
не менее, по Иринею, то, что ими было сообщено, как в публичной
проповеди, так и письменно, сохранило своюсвязьс Писанием. Вместо
того, чтобы оставаться в русле этой традиции апостольского диалога
с Писанием, в котором открывается Христос. Слово не человеческое,
но Божие, те, кто искажает этот канон, думают, будто истина
содержится в их собственных толкованиях, в их собственном
вымысле, и потому, в итоге, они проповедуют самих себя.
Продолжая развивать свой аргумент, Ириней обращается к
апостольскому преданию, как он его понимает:
Когда же мы отсылаем их опять к тому преданию, которое
происходит от апостолов и сохраняется в церквах чрез преемство
пресвитеров, то они противятся преданию, говоря, что они премудрее
не только пресвитеров, но и апостолов и что они нашли чистую
истину. Ибо (говорят) апостолы к словам Спасителя примешали
нечто от закона, и не только апостолы, но и Сам Господь говорил то
от Демиурга, то от средины, а иногда от высоты (Плиромы), они же
несомненно, неповрежденно и чисто знают сокровенное таинство:
бесстыднейшее богохульство против Творца! Итак, выходит, что они
не согласны ни с Писаниями, ни с преданием (ПЕ3.2.2).
Обращение к преданию Ириней, без сомнения, считает оправданным.
Точно так же, подобно своим оппонентам, он настаивает, что
предание, на которое он опирается, восходит к апостолам, хотя в
данном случае речь идет о предании, которое передавалось открыто,
через преемственность пресвитеров церквей. Как мы видели, Ириней
начал свой аргумент, заявив тождество между тем, что апостолы
проповедовали публично, и тем, что впоследствии было записано. Что
касается его оппонентов, они не согласны с тем, как он использует
Писание, как не согласны с самим преданием, имеющим для Иринея
авторитет, ибо для них в этом предании, как в его устной, так и в
письменной форме, элементы Писания и Закона оказались намешаны
с тем, что пришло от самого Спасителя. Более того, согласно мнению
оппонентов, даже к словам Господа следует подойти более
внимательно, чтобы понять, откуда именно они происходят [75].
Неудивительно, что, ставя себя подобным образом выше Писания,
они видят мало пользы в предании – в том смысле, в котором понимал
последнее Ириней.
В третьей главе Ириней продолжает развивать тему апостольского
предания, сохраняемого за счет преемственности пресвитеров
церквей. Как мы видели, апостольское предание является для него
ничем иным, как Евангелием, провозглашенным апостолами в
момент основания Церкви. До тех пор, пока Евангелие,
провозглашаемое публично, сохраняется в целостности, сохраняется
также возможность апеллировать – в целях установления связи с тем,
что было проповедано с самого начала, – к преемственности
пресвитеров/епископов, которые возвещали и проповедовали одну и
ту же Благую Весть. Таким образом, наряду с Писанием, каноном и
преданием апостольское преемство становится одним из элементов
самоидентификации православного, или нормативного, христианства.
Ириней начинает свое рассуждение так:
Все, желающие видеть истину, могут во всякой церкви узнать
предание апостолов, открытое во всем мире; и мы можем
перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и
преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого,
что эти (еретики) бредят. Ибо, если бы апостолы знали сокровенные
таинства, которые они сообщали совершенным отдельно и тайно от
прочих, то передали бы их в особенности тем, кому поручали самые
церкви. Ибо они хотели, чтобы были совершенны и безукоризненны
во всем те, кого оставляли своими преемниками и кому передавали
свое место учительства, так как от их правильного действия должна
происходить великая польза, а от падения их – величайшее несчастие
(Я£3.3.1).
Апостольское предание имеет свидетельство во всех церквах по всему
миру. Оно было сохранено теми, кому апостолы доверили
благополучие церквей, которые были основаны на Евангелии. Чтобы
проиллюстрировать свою мысль, Ириней вслед за этим обращается к
перечислению сменявших друг друга епископов Римской церкви как
исключительного образца апостольской церкви. Анализируя этот
текст, важно помнить, что монархический епископат не установился
в Риме, по крайней мере, до конца II века, а возможно, и позднее [76].
Церковь в Риме состояла в основном из домашних церквей, у каждой
из которых был свой лидер. Эти сообщества походили на
философские школы или группы, объединенные вокруг определенных
учителей, таких как Иустин или Валентин; группы имели свой набор
авторитетных писаний и проводили свои характерные обряды. В
связи с этим целью перечисления «епископов, поставленных
апостолами в церквах», является для Иринея не установление
правомочности занятия ими своей должности или легитимности
подчиненной им юрисдикции, но указание на наличие «во всякой
церкви», как он сам выражается, «предания апостолов», имеюшего
свидетельство по всему миру – то есть той истины, которой учили
апостолы и которая была сохранена в этих церквях в открытом виде.
Подобным же образом, несмотря на фразу о том, что епископы были
оставлены апостолами в качестве преемников в деле проповеди, в
описании Иринея они не становятся «тоже апостолами». Он проводит
четкое различие между «блаженными апостолами» и первым
«епископом» Рима (ПЕ 3.3.3). Важнее, чем сама должность,
оказывается неизменность учения, переданного апостолами их
преемникам [77]. Перечислив различных пресвитеров/епископов
вплоть до своего времени, Ириней в заключение вновь заостряет свое
внимание на смысле обращения к идее апостольского преемства: «В
таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов
и проповедь истины дошли до нас»(ПЕ3.3.3). То есть речь идет о
проповеди истины, сохраненной пресвитерами/епископами в их
преемственности, что и составляет церковное предание, которое
восходит к апостолам. Наконец, описав ситуацию с Римской
церковью, Ириней кратко останавливается на церквах в Асии,
Смирне и Ефесе: поего словам, все они являются «истинными
свидетельницами апостольского предания» (ПЕ3.3.4).
Вновь подчеркивая полноту и исключительность откровения,
полученного от апостолов, передавших на хранение Церкви «все, что
имеет отношение к истине», уже в следующей главе Ириней
приводит такую интересную гипотетическую ситуацию:
Если бы возник спор о какомнибудь важном вопросе, то не надлежало
ль бы обратиться к древнейшим церквам, в которых обращались
апостолы, и от них получить, что есть достоверного и ясного
относительно настоящего вопроса? Что, если бы апостолы не
оставили нам писаний? Не должно ли было бы следовать порядку
предания, переданного тем, кому они вверили церкви? Этому порядку
следуют и многие племена варваров, верующих во Христа, которые
имеют спасение свое без хартии или чернил, написанное в сердцах
своих Духом, и тщательно блюдут древнее предание, веруя во
Единого Бога, Творца неба и земли и всего, что в них, чрез Иисуса
Христа, Сына Божия, Который, по превосходной любви к Своему
созданию, снизошел до рождения от Девы, чрез Себя Самого
соединяя человека с Богом, пострадал при Понтии Пилате, воскрес,
во славе взят (на небо) и со славою придет как Спаситель спасаемых
и Судия осуждаемых и пошлет в вечный огонь исказителей истины и
презрителей Его Отца и пришествия Его. Принявшие эту веру без
письмен суть варвары относительно нашего языка, но в отношении
учения, нрава и образа жизни они по вере своей весьма мудры и
угождают Богу, живя во всякой правде, чистоте и мудрости (ПЕ3.4.1
-2).
Здесь Ириней идет даже дальше того, что он говорит о предании в ПЕ
3.2.2. Оказывается, можно не только обращаться к преданию как к
христианскому откровению; которое было передано апостолами, а
теперь хранится и проповедуется Церковью, но и если бы апостолы
не оставили никаких записей, мы должны были бы «следовать
порядку предания, переданного тем, кому они вверили церкви», – как
это делают варвары [78]. Так что «благодаря апостольскому преданию»
истинные верующие не поколеблются под воздействием тех, кто учит
чему-то другому. И хотя Ириней не называет каноном истины то, во
что верят эти необразованные люди, в сердцах которых спасение
записано Духом, его описание очень похоже на описание канона в
других местах книги. Важно отметить, что содержание предания – то,
во что верят варвары, – совпадает с записанным в апостольских
сочинениях – тех самых, которые «по Писаниям». И опять же,
апостольские сочинения и предание – это не два независимых или
дополнительных источника, но две модальности Евангелия «по
Писаниям».
Итак, истинное апостольское предание, хранимое церквями, как и
сами апостольские сочинения, проистекают для Иринея от одних и
тех же апостолов и имеют то же самое содержание: Евангелие,
которое, как мы видели, в свою очередь сформулировано «по
Писаниям». «Преданием» ранней Церкви, по замечению
Флоровского, является «правильно понятое Писание»[79]. Тем самым
смысл апелляции Иринея к преданию в корне отличается от такового
у его оппонентов. В то время как последние находят в предании
именно то, что в Писании не содержится, или же пытаются
воспользоваться им для придания состоятельности своим
собственным толкованиям, для Иринея обращение к преданию не
подразумевает ничего такого, чего уже не было бы в Писании. Таким
образом, он имеет возможность апеллировать к преданию в целях
утверждения своей собственной точки зрения и одновременно
настаивает на невозможности понимания Писания иначе как исходя
из него самого: на основании гипотезы Писания и его канона [80].
Установив в принципе, что предание, идущее от апостолов, является
наличествующей реальностью жизни современных ему церквей,
Ириней вновь обращается к Писанию, чтобы рассмотреть, что оно
говорит о Боге и о Христе:
Когда апостольское предание таким образом существует в Церкви и
сохраняется у нас, я возвращусь к доказательствам из писаний
апостолов, написавших также Евангелие (adearn quae est ex Scripturis
ostensionem eoruni qui evangelium conscripserunt aposiolorum), в
которых они изложили учение о Боге, поставляя при сем на вид, что
Господь наш Иисус Христос есть Истина и лжи в Нем нет (ЯЕЗ.5.1).
В его письменной форме Писание завершено [81]. И хотя предание,
передаваемое через преемство пресвитеров, также, в принципе,
является завершенным, полагаться на практике на последнее
намного более рискованно – в любом случае, для Иринея, оно никогда
не становится той точкой отсчета, которая существовала бы в
отдельности от Писания. Учение о Боге и истину, которая есть
Христос, следует искать в апостольском толковании Писаний,
поскольку именно апостолы провозгласили Евангелие и передали его
дальше как в виде Писания,так и предания.
Самым существенным во всем этом является утверждение, что в
действительности существует только одно Евангелие – Божие, а не
человеческое (ср. Рим.1:1; Гал. 1:11-12); это же самое утверждение
говорити о единственности Господа Иисуса Христа. Единственный
Христос, Сын Божий, возвещенный апостолами в единственном
благовествовании «по Писаниям», являет (έξηγήσατο.
«истолковывает», Ин. 1:18) Отца – равно как и единый Бог открывает
Себя Самого через Своего Единородного Сына Святым Духом,
говорившим о Нем через пророков. Тем не менее, как было отмечено
в начале главы, данное благовествование возвещает Грядущего (ό
έρχόμενος), и, как таковое, оно не фиксируется в какомлибо
определенном тексте, но заключается в интерпретационном диалоге
с Писанием на основании собственной гипотезы последнего, которая
не является человеческой и согласуется с каноном и преданием, как
они были унаследованы от апостолов. Равным образом важно и то,
что, несмотря на большое разнообразие позиций, в споре с которыми
данная основа получила свое оформление, и даже с учетом того, что с
самого начала она не была столь четко и последовательно
определена, она, тем не менее, восходит именно к тому, что было
сообщено апостолами изначально. Организация и структура
христианской Церкви, ее иерархия и богослужение претерпели
значительные изменения в течение следующих веков христианства,
рассмотрение чего выходит за рамки данного исследования. Памятуя
об этих изменениях, следует, однако, с осторожностью подходить к
использованию определений Церкви, атакже ее служителей и
предания, избегая проецирования более позднего содержания на
представления о том, как апостольское преемство и предание
воспринимались в ходе самих споров по поводу оснований
нормативного, или православного, христианства.
Победа православия повлекла за собой определенные последствия в
сфере экклезиологии, поскольку в качестве оборотной стороны
утверждения истины всегда выступает опознание ошибки. Исходя из
этого, утверждение вероучительного единства христиан в масштабе
всего мира приводит на деле к разделению и исключению
«неправославных». Тем не менее следует помнить, что в течение
исследуемого здесь периода Церковь еще не обладала ни
самостоятельной властью, ни требуемой для обеспечения такой
власти финансовой основой – всем этим она была наделена позже. В
таком контексте отлучение от Церкви являлось тем, что человек сам
выбирал для себя. Согласно Игнатию, отказывающийся приходить на
общее собрание сам отлучает себя (Ефес. 5.3). Похожий случай
описываег Ириней, когда приводит рассказ о Кердоне, который, как
он говорит, иногда учил тайно, а иногда приносил публичное
покаяние; когда же его лжеучение было отвергнуто, он «наконец
оставил собрание братьев» (ПЕ 3.4.3). Вместо того, чтобы разделить
общее вероучение, Кердон предпочел разорвать с другими общинами
в Риме, что, вероятно, выразилось в его отказе обмениваться
закваской (fennentum),которая выступала в качестве общего символа
евхаристического общения [82]. Несмотря на то, что общины, которые
предпочли отделиться от прочих, внешне сохраняли свое подобие с
ними, Ириней описывает такое решение уничижительно. Отделение,
по его мнению, влекло за собой создание «школ», в каждой из
которых существовала собственная концепция преемственности по
отношению к учению: Птолемея от Валентина (ПЕ I Pref.2), Маркиона
от Кердона (ПЕ 1.27.2) – причем все они в итоге восходили к Симону
Магу (ПЕ1.23), а потому не имели отношения к той преемственности,
которая брала свое начало от апостолов (ПЕ З.З) [8]·'. Будучи
установлено описанным выше путем, единство Церкви ощущалось в
конце 11 в. и самими христианами. Так, например, Аверкий Маркел,
епископ Иераполя во Фригии, описывает в своей автоэпитафии, как
во время путешествия из Нисиба в Рим он повсюду обнаруживал одну
и ту же веру, которая служила пищей верных [84]. Это же
обстоятельство признавалось язычниками, например, Цельсием, у
которого мы встречаем упоминание об отличиях между различными
сектами и «Великой Церковью» [85].
Утверждение единства Христа в проповеди единого Евангелия
означает, что вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» – имеет смысл
и что ответ на него возможен. Любое исследование, как мы видели,
становится возможным лишь на основании гипотезы или канона, то
есть в данном случае в качестве гипотезы для нас выступает само
Писание, в то время как канон обретается в ходе истолковательного
диалога с Писанием, в согласии с которым апостолы проповедовали
Христа. В этом диалоге любой изучающий Слово сам подвергается
«истолкованию» Словом – по мере того, как он или она облекаются в
то, что есть Христос. Соприкосновение с Писанием неизбежно. Когда
Иоанн Креститель, находившийся в то время в темнице, послал
учеников спросить у Иисуса: «Ты лиТот, который должен прийти (ό
έρχόμενος), или ожидать нам другого?» – Иисус не дал им прямого
ответа, но указал на знамения («слепые прозревают и хромые
ходят...»), которые могут быть поняты как «мессианские» только
через их толкование посредством Писания (Мф. 11:2-5). Гипотеза и
канон, о которых шла речь, обязывают верующих к постоянному
размышлению, и последующие столетия действительно размышляли,
используя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства.
Такое соприкосновение с Евангелием, которое само проповедовалось
в согласии с Писанием, оставило после себя множество памятников –
это труды Отцов и святых, школы иконографии, агиографии и т.д. Все
они обладают авторитетом в той мере, в какой в них указывается на
все тот же образ Царя, на евангельский образ Христа. В свете канона
истины эти прочие элементы веры также носят наименование
«канонов». Для примера, классические анафоры Л итургии,
резюмирующие Писание, или святые, чья жизнь и учение воплощали
в себе истину, – это «каноны» веры и благочестия; подобным же
образом и решения соборов относительно надлежащего порядка в
Церкви и Божием народе, которые были сформулированы в
определенных ситуаииях, «каноничны». Как говорится об этом в
Деяниях, слово Божие растет (Деян. 6:7). Все большее количество
людей верит в него и размышляет над ним: постоянно
разрабатываются новые, более подробные и понятные объяснения в
защиту веры, которая сама остается той же самой: это вера в то, что
было передано от начала, вера в Евангелие по Писаниям, вера в то же
самое Слово Божие – Иисуса Христа, Который «вчера и сегодня и во
веки тот же» (Евр. 13:8).
^ ГЛАВА 2
ХРИСТОС ПИСАНИЯ
Христос, Который появляется на страницах произведений,
признанных в качестве канонического Писания, – это всегда Христос
распятый и воскресший. Говоря это, я не пытаюсь приуменьшить
значение исторической конкретности Страстей (имевших место
«однажды и навсегда», έφάπαξ, Рим. 6:10; Евр. 7:27), но, напротив,
подчеркнуть. Кого именно описывают данные тексты. То, что все они
были написаны после событий Страстей, понятно; очевидно и то, что
возвещение (керигма) того, что распятый и воскресший Иисус есть
Господь (получившее столь ясное выражение в посланиях Павла),
лежит в основе изображения Иисуса в канонических Евангелиях.
Такая позиция представляется мне весьма важной. Христианское
исповедание говорит нам не просто о том, Кем Иисус был, что Он
говорил и что делал, но о том. Кто Он есть, ибо мы верим в живого
Господа: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр.
13:8). Подобным же образом, какими бы ни были устные сообщения о
речениях и делах Иисуса, восходившие к тем. кто имел с Ним контакт
прежде Страстей, в канонических Евангелиях эти сообщения
получили радикальное переосмысление в свете Страстей и
провозглашение Иисуса Господом и Христом. Более того, как мы
видели ранее, то, как Евангелия представляют Христа, истолковано
ими на основе Писания и опятьтаки в свете Креста. Четыре
канонические Евангелия – это не попытки сохранить точные
исторические сведения, а свидетельство керигмыоб этой личности,
Иисусе Христе, и основанное на этой керигме толкование Писания [86].
Аутентичный исторический материал, имеющий отношение к Иисусу,
вполне может содержаться в некоторых неканонических
произведениях, таких как Евангелие от Фомы или Евангелие детства
от Фомы,однако во всех этих сочинениях тема Креста практически
отсутствует, равно как и связь с Писанием [87]. И в обратном
направлении: попытки преодолеть разнообразие канонических
свидетельств о Христе путем создания единого «жизнеописания
Христа», как, например, Диатессарон Татиана или О согласии
евангелистов Августина, могут вылиться во вполне связное и
гармоничное повествование, однако подобная one-рация с
неизбежностью переносит Христа из мира канонических Евангелий в
мир, который был устроен и ввиду этого несет ограничения,
накладываемые воображением самих этих авторов.
Было бы, однако, неверно разделять канонический материал на два
независимых источника или две традиции, каждая из которых
характеризовалась бы своим собственным объектом: устные
сообщения касательно «исторического Иисуса», с одной стороны, и
керигма,провозглашающая Христа веры, с другой. Послания Павла,
которые являются наиболее ранними произведениями в Новом
Завете, конечно же, почти исключительно посвящены проповеди о
Христе и вопросам организации христианских общин: «почти»,
потому что Павел, безусловно, знает о некоторых ключевых
моментах, касающихся Христа [88], и заявляет, что проповедует то же
Евангелие, что и палестинские свидетели Его воскресения(Гал. 2; 1
Кор. 15:3-11). Сдругой стороны, повествования о Христе в Евангелиях
столь же отчетливо указывают на центральное место Страстей.
Действительно, сам вопрос о том, Кем является Христос, теснейшим
образом увязывается в них с Крестом. В самом центре синоптических
Евангелий, как в плане их литературной композиции, так и по той
причине, что они сами всецело являются ответом на данный вопрос,
стоят слова Христа: «А вы за кого почитаете Меня?» И когда Петр
отвечает: «Ты Христос» (Мк. 8:29; Лк. 9:20) [89], – Он сразу же
начинает объяснять ученикам, как Ему надлежит идти в Иерусалим
на страдание, как Он будет отвергнут старейшинами,
первосвященниками и книжниками, будет убит и воскреснет в третий
день. Когда же в ответ Петр делает попытку встать между Христом и
Его Крестом, то в его адрес раздается наиболее строгий укор из всех
возможных: «Отойди от меня, сатана!» Более того, несмотря на этот
урок и на преимущество, которое Петр имел, сопровождая Иисуса на
протяжении всего Его служения, он все же отрекается от Христа, в
связи с чем бросается в глаза отсутствие Петра, как и других
учеников, в сцене распятия. Наконец, уже воскресший Христос вновь
объясняет ученикам, как, в соответствии с тем, что бьшо возвешено
пророками, «надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою» (Л
к. 24:26). Сама структура данных повествований, таким образом,
снижает значение слов и дел Иисуса до Страстей как своего рода
исторического фундамента христианской веры. Вместо этого, на
основании веры в Иисуса Христа, в живого, распятого и воскресшего,
Евангелия представляют Его слова и дела как то, что обращено в
данный момент к верующим – точно так же, как в отношении чудес, о
которых сообщает Павел в своих посланиях, говорится, что они
совершаются ныне посреди христианских обшин, перед глазами
которых Христос изображен «как бы у вас распятый» (Гал. 3:1-5).
Наиболее прочная связь между повествовательным изображением
Иисуса и провозглашением воскресшего Христа Господом
встречается в Евангелии от Иоанна. В отличие от синоптиков, в
тексте которых повествование постоянно ведется с точки зрения
воскресения, однако Иисус еще не прославлен, в изображении
Иоанна Он с самого начала пребывает в славе. Он есть Тот, Который
сошел с небес; спокойствие и уверенность– Его отличительные черты;
в Гефсиманском саду Он не испытывает душевных мук, а Его
Преображение не является необходимым для того, что-бы люди
могли лицезреть Его славу. Однако указанные черты отнюдь не
настраивают на докетический лад. В некоторых аспектах Иисус
Евангелия от Иоанна даже более человечен, чем Иисус синоптиков:
только у Иоанна мы видим, как Он плачет при вести о смерти друга
Лазаря (Ин. 11:35), и вообще, только из этого Евангелия вытекает,
что у Иисуса были друзья, которых Он любил (Ин. 11:5,11), причем
некоторых больше, чем других (Ин. 13:23 и т.п.); мы даже читаем о
том, как Он просит об ответной любви (Ин. 21:15-17)*'. Более того,
при условии правильного толкования, Иисус в изображении Иоанна
носит принципиально антидокетический характер, поскольку именно
в этом Евангелии делается упор на то, что откровение Бога во Христе
совершается во плоти и на земле. Иоанн подчеркивает полное
тождество между уничиженным Иисусом и прославленным Христом:
момент позора Христа на кресте и естьдля него тот самый момент,
когда совершается прославление Иисуса (Ин. 3:13-14; 12:27-36); в
этот миг дело Божие достигает своего исполнения, или завершения
(τετέλεσται, Ин. 19:30), – точно так же, как для Павла слово о кресте
выступало как откровение Божией силы, премудрости и славы (1 Кор.
1 -2).
У синоптиков ответ на вопрос Иисуса звучит как: «Ты – Христос» (Мф.
16:16 ит.п.), что немедленно соотносит Его с содержанием Закона,
Псалмов и Пророков. Иисус – это Помазанник Божий, Мессия,
избранный представитель Бога. Схожим образом имя Иисус (' Ιησούς)
несет в себе толкование того, Кто Он есть (ср. Мф. 1:21): Он – это
Божия победа, или спасение (yesu'ah); Тот, Кто приведет народ
Божий к спасению, подобно тому, как другой Иисус (также' Ιησούς в
Септуагинте и Евр. 4:8) перевел свой народ через реку Иордан в
Землю Обетованную. В Евангелиях И исус совершает чудеса, которые
должны был и служить признаками прихода Мессии: Он исцеляет
больных, открывает очи слепым, дает пищу людям в пустыне,
успокаивает шторм на море, прощает грехи и воскрешает мертвых.
Более того, все это Он делает Своей собственной силой, причем не
обязательно совершая при этом молитву, что провоцирует у людей
вопрос: «Кто же это такой, что он может творить такие дела?» (ср.
Мф. 8:27). Евангелия наделяют Иисуса тем, что в Законе, Псалмах и
Пророках принадлежит одному только Богу: и Он, безусловно,
божественен, но ведь Он – другое лицо по отношению к
единственному Богу Израиля. Его Отцу. Когда далее Петр признает:
«Ты – Сын Бога Живого» (Мф. 16:16), определение «Сын Бога», в
свете божественных деяний Иисуса, должно восприниматься в более
строгом смысле по сравнению с тем, как оно употреблялось в
отношении Адама (Лк. 3:38). Адам был представителем Бога на
земле, сотворенным по образу Бога, но только Христос – последний
Адам (1Кор. 15:45), человек с неба (1Кор. 15:47),иОнес־тобраз Бога
невидимого (Кол. 1:15), что делает Адама «прообразом Имеющего
прийти» (Рим. 5:14).
Тем не менее то, каким именно образом Иисуеесть Помазанник
Божий, не открывается лишь посредством чудесных деяний, даже
если рассматривать последние в контексте исполнения мессианских
пророчеств. И действительно, Христос Сам предостерегает от веры
мессиям и пророкам, совершающим чудеса (Мф. 24:23-5), говоря о
том, что знамения – как воскрешение мертвых – не являются
достаточным основанием веры, раз уж люди все равно не слушают
Моисея и пророков (Л к. 16:31). Напротив, после того, как ученики
признают Его за Мессию, Он Сам объясняет Свое мессианство как то,
в соответствии с чем Он должен быть распят (Мф. 16:21), как это
было предсказано у пророков (ср. Л к. 24:26). Христос, конечно же, не
стал ни национальным, ни политическим мессией, как надеялись
некоторые (ср. Л к. 24:19-21; Дея н. 1:6); Он умер самой позорной
смертью, какую можно представить, и не просто смертью, а смертью
на кресте (Фил. 2:8), став клятвой за нас (Гал. 3:13; ср. Втор. 21:23).
Но именно через это идея мессианства объединилась и стала единым
целым с образом Страждущего Раба – Того, Кто опроверг все
надежды и открыл силу и премудрость Бога через слабость и
безумство креста (I Кор. 1-2).
В своих описаниях Иисуса Христа Евангелия задействуют
практически все возможные библейские образы. Иисус – это Учитель
и Пророк, несущий Слово Божие, Которым Он Сам является. Он
также -Премудрость Божия, в Которой сокрыты все сокровища
мудрости и знания (Кол. 2:3). Он – Спаситель, несущий людям знание
Бога, в Котором только и есть жизнь вечная (Ин. 17:3). Он – Жизнь
для тех, кто живет в Свете, и Сам есть этот Свет, в Котором видно все
и становится ясным, как можно ходить путями Божиими. Он –
Начальник жизни (Деян. 3:15), а также путь и истина и жизнь (Ин.
14:6). Он -образ (είκών) невидимого Бога (Кол. 1:15), образ ипостаси
Отца (χαρακτήρ τής ύποστάσεως αύτοΰ, Евр. 1:3): в Нем телесно
обитает полнота Божества (Кол. 2:9), в Нем мы видим Бога и именно в
Нем открывается слава Божия (Ин. 1:14), сияющая в лице (έν
προσώπω) Христа (2Кор. 4:6), Господа славы (1Кор. 2:8).
Другой аспект Христа по Писанию связан с образами храма и
религиозного культа. Иисус – это Первосвященник, совершающий
умилостивление за грехи народа (Евр. 2:17 и т. д.), однако Он же есть
Тот, Кто приносится в жертву, Агнец Божий (Ис. 53; Ин. 1:29; Деян.
8:32; 1 Пет. 1:19; Откр. passim). Он – наша Пасха, закланная за нас
(1Кор. 5:7). Он отдает Свою жизнь как выкуп за многих (λύτρον, Мф.
20:28; άντίλυτρον, 1 Тим. 2:6). воссоединяет мир с Богом и
умиротворяет кровью Своего креста (Кол. 1:20) – убивает вражду
посредством креста (Еф. 2:16). Все это Он совершает как «посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим. 2:5),
Который стал ради нас ходатаем нового завета (Евр. 8:6, 9:15, 12:24).
Сораспявшиеся Христу христиане (ср. Рим. 6:6; Гал. 2:20),
погребенные с Ним в крещении (Рим. 6:4), сами становятся храмом
Бога живого (2Кор. 6:16), теми, в ком пребывает Бог(1Ин. 4:12). Еще
одна группа образов изображает Христа Добрым Пастырем (1 Пет.
2:25, 5:4), ведущим Своих овец через дверь (которая, опять же, Он
Сам) ко спасению (Ин. 10:7-15). Он – Тот, Кого Бог возвысил, соделав
Начальником и Спасителем (Деян. 5:31), Владыкой земных царей
(Откр. 1:5), Господом господствующих и Царем царей (Откр. 17:14;
19:16). Будучи Божией силой, творящей спасение. Он несет Божию
победу; добровольно идя на смерть, Он разрушает власть смерти,
утверждая тем самым жизнь; будучи начатком, первенцем из
мертвых (Кол. 1:18), становясь клятвою (Гал. 3:13), Он лишает смерть
силы и вместо нее приносит людям мир и благословение Божие;
становясь грехом и не зная греха, Он открывает нам праведность
Бога (2Кор. 5:21). То обстоятельство, что все эти термины и образы,
использованные для изображения Христа, происходят из Писания,
подчеркивает, что Христос – от Бога (Ин. 8:42), что Он -от вышних, а
не от нижних (Ин. 8:23), что Он пришел с неба исполнить волю Бога
(Ин. 4:34; 5:30; 6:38-9), что в Нем – Бог, и только в Нем мы зрим Бога
(Ин. 1:18; 14:9; Мф. 11:27 и тл.); что Он один открыл нам значение
Писания, которое, опять же, и есть Сам Христос (Лк. 24:27; Ин. 5:46).
Он есть Тот, Кого видел Исайя (Ин. 12:41), о Ком писал Моисей (Ин.
5:46), Кто был прежде, чем был Авраам (Ин. 8:58); Он с Богом
вначале (Ин. 1:1); Он вечен – «Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки тот же» (Евр. 13:8).
Общим эффектом всех этих описаний Иисуса Христа – от альфы и до
омеги (Откр. 1:8) – является рождение образа, в корне
отличающегося оттого, что могли бы дать составляющие его
элементы по отдельноети. Как мы видели, имеет место
трансформация значения в свете Страстей и последующей проповеди
Иисуса как Господа и Христа. Что бы Сам Иисус ни говорил о Себе и
что бы ни думали о Нем Его последователи, любые устные
сообщения, содержавшие информацию такого рода, подвергались
просеиванию и заново представлялись через посредство Писания,
понятого на основании из керигмы.Схожим образом факт
применения к Иисусу различных титулов из Писания наполнял эти
титулы новым значением, заново интерпретируя их: Иисус – это не
только Мессия, но и Страдающий Раб; Он не только сын Давида, но и
Господь Давида (Мф. 22:45); как сын Давида Он не мог быть
священником и погому провозглашается Первосвященником par
excellence. Он не только сын Божий, каким был Адам, и Бог в
соответствии со стихом из псалма, гласящим: «Я сказал: вы – боги, и
сыны Всевышнего – все вы» (Пс. 81:6 LXX; данный стих используется
Иисусом для того, чтобы обращение «боги» можно было
распространить в отношении всех, к кому было обращено слово
Божие | Ин. 10:34-5]), но Он – единственный Сын Божий, настолько
же божественный, насколько и Сам Бог. В результате такого
процесса селекции и повторного толкования возникает тенденция
копределенному пониманию Христа, Его бытия и дел. Было бы
ошибкой предполагать, что это понимание в явной форме
присутствует на страницах самого Нового Завета, как неправильно
утверждать, что собрание текстов, известное как «Новый Завет»,
всегда присутствовало в виде данности–данное понимание вытекает
из богословских дискуссий и вособенности на основании канона
истины, который предшествовал появлению Нового Завета как книги.
Говоря это, мы не имеем в виду, что часть новозаветной мозаики
Христа была затемнена или утрачена; напротив, каждый из ее
элементов остается чрезвычайно важным для нашего понимания
Христа и того дела, которое Бог совершил через Него. Однако все это
как раз помогает понять имевшее место стремление (сушествовавшее
вопреки тому обстоятельству, что ни одно из специальных
объяснений дела спасения, совершенного Христом, так и не получило
«канонизации» ни в одном из возможных символов веры или
определений, которые принимались бы в качестве эксклюзивной или
единственно возможной модели), постепенно ставшее
доминирующим и исключительным, полагать, что существует только
один правильный путь понимания того, что являет Собой Иисус
Христос: Сын Отца, воплотившееся Божие Слово, Бог и человек.
Данный процесс не являлся простым применением греческой
философии к откровению Бога во Христе. Скорее, он продолжал то,
что уже происходило внутри каждого из новозаветных текстов,
представляя собой непрестанную рефлексию, на основании Писания
и керигмы, над вопросом о том, кто есть Христос; рефлексию, которая
приобрела свою каноническую (]юрму в каноне истины к тому
времени, когда Новый Завет был признан за таковой.
Продолжающаяся рефлексия станет предметом нашего исследования
начиная со второй части тома. На данном этапе более пристальное
внимание будет уделено вопросу о том, каким образом новозаветные
тексты говорят об Иисусе Христе как о воплотившемся Слове и
Богочеловеке. Данный аспект ограничит общую картину Христа,
заявленную нами в качестве предмета, однако он не является
произвольным, ибо проистекает из того же канона, по которому
Новый Завет признается как канонический. (Прочие аспекты
описания Христа, кратко и неполно затронутые нами выше, большей
степенью связаны с проблемой толкования того, что Бог совершил во
Христе, и составляют предмет для отдельной работы.) Особую
важность, имея в виду последующую богословскую рефлексию, здесь
имеют термины, призванные описать человечество и божество
Иисуса Христа, в част ности, «человек», «Бог», «Господь», «Слово».
Лучше всего будет начать с термина «человек», как с наиболее
простого. То, что Иисус Христос был человек, не являлось на самом
деле предметом обсуждения для авторов Нового Завета, поскольку Он
был известен им именно в образе человека. От восклицания Пилата
«се, Человек» (Ин. 19:5) и жалобы фарисеев на то, что Иисус, «будучи
человеком», сделал Себя Богом (Ин. 10:33), до утверждения, что один
посредник между Богом и человеками, «человек Иисус Христос»
(1Тим. 2:5), – проблем с определением Иисуса как человека не
возникало. Скорее, новозаветные авторы испытывали потребность в
объяснении или оправдании своего провозглашения того, что Он
также есть Бог. Расцвет докетической мысли еще не коснулся их,
хотя, похоже, реакцию на то, что могло являть собой зачатки
докетизма, можно встретить уже в некоторых поздних текстах Нового
Завета, в особенности в 1 Ин. Выше мы имели возможность увидеть,
как Евангелие от Иоанна в наиболее полной мере вобрало в свое
повествование керигму Христа, в результате чего появилась на свет
наиболее высокая форма христологии в Новом Завете, согласно
которой Иисус с самого начала выступает как прославленный
Господь – Слово, ставшее плотью. Целью такого изображения как раз
является разоблачение докетизма: Евангелие от Иоанна, таким
образом, акцентирует момент, в соответствии с которым откровение
Божие во Христе совершается во плоти и через плоть, причем
последняя не нуждается в Преображении, поскольку возможность
увидеть славу Божию дана с самого начала Евангелия. Результатом
такого подхода все же является значительное смысловое
напряжение, которое в свою очередь может вызвать к жизни
неверные толкования. Судя по I Ин., некоторые христиане
акцентировали божественность Иисуса настолько, что проглядели
человеческое, плотское бытие Иисуса Христа, Сына Божия. которое
не подвергалось сомнению их предшественниками в вере״. Отсюда
настойчивое требование, сформулированное в данном послании,
полагать в качест ве признака Духа Божия исповедание Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, то есть ту самую предпосылку,
которую отрицает антихрист (1 Ин. 4:2; то же в 2 Ин. 7). Пришествие
Христа во плоти – это то, что дано изначально, несмотря на то, что
автор четвертого Евангелия. конечно же, доводит свои
христологические размышления до наибольшей глубины по
сравнению с любым другим евангелистом. Различие в акцентах в
сочетании с единством на более существенном уровне становится
очевидным при сравнении первых стихов Евангелия и 1-го послания
Иоанна. В то время как в Ин. делается отсыпка к началу до момента
творения, когда Слово бьшо «у Бога», в 1 Ин. «начало»
воспринимается в связи с человеческим бытием и деятельностью
Господа:
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, –
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – отом, что
мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом
(1Ин. 1:1-3).
Такова же позиция Евангелия, несмотря на попытки толковать его
подругому. В силу разного рода причин христологию Евангелия от
Иоанна начали отождествлять лишь с описанием Слова в Прологе,
однако не может не вызывать удивления тот факт, что Слово не
упоминается втом самом фрагменте, где содержа ние данного
Евангелия формулируется в явной форме:
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20:31).
Следовательно, Иисус представляет Собой изначальную данность, в
то время как задача Евангелия, как и остального Нового Завета,
состоит в том, чтобы убедить л юдей в том, что Он также есть Сы н
Божий, Господь и Спаситель.
Божественность Иисуса выражается в Новом Завете прежде всего
при помоши атрибуции Ему действий и свойств, которые в Писании
относятся исключительно к Богу – таких, как творение (Ин. 1:3),
дарование жизни (Ин. 6:35; Деян. 3:15), прощение грехов (Мк. 2:5-7),
воекрещение мертвых (Лк. 7:14-15), принятие молитв (Деян. 7:59) и
т.п. Однако есть и такие места, где божественность Иисуса
обозначена в более явном виде благодаря использованию терминов
«Бог» и «Господь». В Новом Завете титул «Бог» (с артиклем – ό θεός)
почти без исключения употребляется по отношению к единому Богу
Израиля, Отцу Иисуса Христа [92]. Без артикля Писание использует
этот термин в более широком смысле: согласно Псалму 81:6 (LXX), «Я
сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы». Иисус ссылается на
этот стих, утверждая, что все «боги», к кому бьшо обращено Слово
Божие (Ин. 10:35), ибо, как выражается Павел, есть много богов
(1Кор. 8:5) [93]. Начиная с самых ранних новозаветных сочинений,
титул «Бог» с артиклем применяется почти исключительно в
отношении Бога Отца; он часто используется для различения Самого
Бога и Иисуса Христа, Который именуется «Господом». Для примера,
втипичной для апостола формуле, употребленной в Рим. 15:6, Павел
ссылается на «Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Важный
текст, акцентирующий уникальность соответствующих обозначений,
содержится в 1 Кор. 8:6:
Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.
Утверждение о том, что существует только один Бог Отец,
являюшееся монотеистической сердцевиной христианства, и один
Господь Иисус Христос, делающий то же самое, что делает Бог (что, в
свою очередь, показывает, что Он столь же божественен, как и Отец),
– составляет основу всех последующих вероисповедальных формул:
«Верую во единого Бога Отца... и во единого Господа Иисуса Христа».
Наряду с этим в посланиях Павла и в других посланиях, вошедших в
Новый Завет, можно найти несколько фраз, в которых Иисус
напрямую именуется Богом (ό θεός). Однако даже здесь нельзя
говорить о полной осознанности и недвусмысленности такого
употребления, поскольку мы имеем дело с весьма проблематичными
текстами – будь то в плане грамматики и адекватного перевода или в
плане установления первоначального варианта текста. И хотя
решение данных проблем не является в конечном итоге ключевым
для уяснения вопроса о том, утверждает ли Новый Завет
божественность Иисуса Христа, в наших целях было бы важно
установить, причем, по возможности, как можно более точно,
употребляется ли хотя бы один раз iheos с артиклем по отношению к
Иисусу Христу [94]. Помимо иоаннового корпуса, самым важным
фрагментом в этой связи является Рим. 9:5:
έξ ών ό Χριστός τό κατά σάρκα ό ών έπι πάντων θεός ευλογητός εις τούς
αιόίνας, αμήν.
от которых I Израильтян! и Христос по плоти сущий над всем Бог
благословенный во веки. Аминь
Так выглядит этот стих в отсутствие пунктуации, а самые ранние
рукописи Нового Завета никакой систематической пунктуации не
содержат. Если после слова «плоть» поставить запятую (как это
сделано в 4-м изд. Объединенных Библейских Обшеств и в 27-м
издании НестлеАланда), слово theos, очевидно, будет относиться к
Христу. С другой стороны, если в том же месте поставить точку (как в
англ. переводе RSV, где альтернативное прочтение приводится в
сноске), то тем самым будет обозначено различие между Христом и
Богом, который «над всем». Тем не менее предложение, скорее всего,
было записано без знаков препинания, в связи с чем его значение
должно определяться грамматикой фрагмента в целом. В отношении
последней существует несколько соображений. Если бы данный стих
заканчивался отдельной доксологией, то «благословен», скорее всего,
шло бы в начале: «Благословен сущий над всеми Бог...» К тому же
доксологии Павла имеют тенденцию относиться к лицам, уже
упомянутым ранее, то есть в данном случае – ко Христу; то есть,
поскольку « Бог» не упоминается вплоть до конца стиха, было бы
странно читать эту доксологию как относящуюся к комулибо, помимо
Христа. Более того, если она не относится ко Христу, то причастие
«сущий» (ών) является лишним. Наконец, «по плоти» производит
впечатление фразы, для шторой у Павла обычно требуется
параллель: «по плоти» обычно стоит у него в контрасте с «по Духу»,
хотя в некоторых местах апостол противопоставляет ее Богу (напр., в
1 Кор. 1:29). Таким образом, в целом кажется вполне вероягным, что
в Рим. 9:5 Павел называет Христа Богом (ό θεός), но это единственное
подобное место в его посланиях [95].
За пределами материалов, принадлежащих перу Павла и Иоанна, в
Новом Завете есть только три случая, где Иисус Христос с
определенной степенью вероятности именуется «Богом» (ό θεός).
Первый фрагмент – это Евр. 1:8, хотя здесь мы имеем дело с цитатой
из Псалма 44:7 в переводе Септуагинты: «А о Сыне: престол Твой,
Боже (ό θεός), в век века». О том, что Христос – Бог, не говорится
больше нигде в данном послании, хотя в нем содержится призыв
поклоняться Христу (Евр. 1:6; 13:21), и в таком контексте отнесение
указанного стиха Псалма ко Христу, в качестве аспекта данного
поклонения, кажется вполне естественным. В рассматриваемом
фрагменте автор ставит перед собой задачу показать превосходство
Христа перед ангелами, то есть его упоминание о божестве Христа не
является намеренным, но опосредовано еловами Псалма. Два других
фрагмента, Тит. 2:13 и 2 Пет. 1:1, содержат упоминание «Бога (Тит.:
великого Бога| и Спасителя нашего Иисуса Христа (του [μεγάλου| θεοΰ
ημών καί σωτηρος Ιησού Χριστού)». В данном случае вопрос состоит в
том, подразумевается ли перед словом «Спаситель» артикль так,
чтобы речь о Боге и о Спасителе шла по отдельности. Отсутствие
второго артикля и наличие лишь одного притяжательного
местоимения в значительной мере указывают на то, что слова «Бога и
Спасителя» следует понимать как относящиеся к Иисусу Христу.
Второе послание Петра принято относить к позднему периоду, может
быть, даже к началу 11 в., а для этого периода подобное
употребление уже не является исключительным. В послании к Титу
(тоже позднем по времени) Бог и Христос оба по отдельности
получают имя «Спаситель» (ср. Тит. 1:3-4), что, по всей видимости,
объясняет также причину переноса титула «Бог» на Христа [96].
Что касается синоптических Евангелий, термин «Бог» (ό θεός) не
употребляется в них в отношении Иисуса Христа, в то время как в
Евангелии от Иоанна, напротив, категорически утверждается и
одновременно открыто отрицается применимость этого термина, что
вновь подтверждает тезис о глубоком антитетическом напряжении,
присутствующем в данном тексте. Самое поразительное
употребление термина «Бог» обнаруживается здесь в словах Самого
Христа: «сия есть вечная жизнь, да знают Тебя, единого истинного
Бога (τόν μόνον αληθινόν θεόν), и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Ин. 17:3). Несмотря на то, что тем самым устанавливается
ассоциация между познанием Иисуса Христа и познанием Бога в
отношении вопроса о том, чем является вечная жизнь (а как могло
быть иначе у Иоанна, в тексте которого постоянно утверждается
отсутствие иного пути к Отцу, кроме как через Сына?!), только Отец
здесь заслуживает прямого наименования «Бог» (ό θεός). Иоанн часто
называет Бога «Отцом», Иисус постоянно говорито Боге како Своем
«Отце». И хотя в споре с Иисусом иудеи заявляют: «одного Отца
имеем, Бога» (Ин. 8:41), – Иисус лишь однажды называет Бога «ваш
Отец», а именно когда запрещает Марии Магдалине прикасаться к
Своему телу: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу ко Отцу
Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). В
этом фрагменте титул «Бог» опять же задействован Иисусом таким
образом, что это дает Ему возможность указать на отличие Отца от
Себя. Также возможно, что здесь проводится дополнительное
различие между тем, в каком смысле Бог является Отиом И исуса и
Отцом всех христиан, – различие, которое особо подчеркивается
Иоанном благодаря использованию титула «Единородный», когда он
говорит об Иисусе как о Божием Сыне.
С другой стороны, Иоанн также применяет титул «Бог» как в начале,
так и в конце своего Евангелия по отношению к Тому, Кто всегда с
Богом. Уже в первых стихах Пролога Слово названо Богом (και θεός
ην ό λόγος, Ин. 1:1 с). И хотя перед «Бог» (θεός) отсутствует
определенный артикль, его, скорее всего, следует подразумевать:
слово «Бог» стоит в начале фразы, неся тем самым смысловую
нагрузку, а в силу того, что оно является предикативным
существительным и поставлено перед глаголом, оно может стоять без
артикля; таким образом, Ин. 1:1с действительно может иметь в виду,
что Слово есть Бог. В окончании Пролога мы сталкиваемся с
проблемой различных вариантов текста. Согласно некоторым ранним
рукописям (например, р [75], нач. Ill в.), исправленному варианту
Синайского кодекса и большинству ранних Отцов, стих 18 звучит как
«Единородный Бог (ό μονογενής θεός), сущий в недре Отчем, Он
явил». В других рукописях мы находим в этом месте «Единородный
Сын», либо «Бог» или «Сын» без артикля, либо только
«Единородный». Если принять, что в Ин. 1:1 слово «Бог» должно
читаться как если бы перед ним стоял определенный артикль, стих 18
должен звучать как «Единородный Бог», в качестве более понятной
здесь инклюзивной конструкции. Дополнительная инклюзия
создается тем фактом, что в конце Евангелия, и больше нигде, Иисус
вновь именуется Богом, когда Фома отвечает Ему: «Господь мой и Бог
мой!» (ό κύριόςμου και ό θεός μου, Ин. 20:28). Эта фраза Фомы –
наиболее категоричное и прямое утверждение божественности
Иисуса Христа, данное в наиболее полном (артикулированном) виде
на страницах Нового Завета. Однако и его следует воспринимать
лишь совместно с утверждением о том, что единственный истинный
Бог – это Отец Иисуса Христа; лишь на таком основании о Иисусе
можно сказать, что Он столь же божественен, что и Его Отец, и
следовательно, может Сам именоваться Богом. И все же для Нового
Завета в целом более характерным и более важным является другой
титул, употребленный Фомой, а именно первый титул «Господь».
Будучи применен по отношению к Иисусу Христу в его наиболее
полном значении, данный титул делает возможным также атрибуцию
Иисусу титула «Бог», также в наиболее полном значении последнего.
Титул «Господь» (κύριος) – достаточно широкий термин, способный
передавать различные оттенки значения: притяжательные
(например, «господин дома»); вежливые выражения уважения (но без
заискивания: «сэр»); придворные по отношению к царю или к князю;
в то время как на Ближнем Востоке термин имел широкое хождение в
религиозном контексте как одна из форм обращения к богам [97].
Некоторые ученые (такие, как Буссе [98]) отстаивают точку зрения,
согласно которой Иисус Христос впервые был назван Господом
(κύριος) в Антиохии, и произошло это под влиянием эллинистической
культуры или восточных мистериальных религий; что данный титул
не употреблялся ни Самим Иисусом, ни верующими первоначальной
Церкви. Буссе и др. указывают на гот факт, что первый записанный
случай молитвенного обращения ко Христу и именования его
Господом мы находим в молитве Стефана, христианина из язычников,
во время мученической кончины последнего:
И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи
Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воекликнул фомким
голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил
(Деян. 7:59-60).
В данном фрагменте мы имеем дело с первым письменным
свидетельством молитвенного обращения ко Христу, и поскольку это
молитва, то
Христос в ней, естественно, именуется Господом. Это, в свою очередь,
подразумевает, что к Нему обращаются, признавая Его в качестве
полноценного Бога, а не просто из вежливости – как к учителю или
лидеру определенной группы людей. Трудно переоценить значение
этого, в других отношениях одиночного, фрагмента. Тем не менее
было бы серьезным заблуждением использовать его в качест ве
исторического подтверждения предположения, что обратившийся в
христианство язычник должен обязательно привнести в последнее
нечто из своей собственной религиозной практики.
Термин «Господь», безусловно, имел широчайшее хождение по всему
Средиземноморскому ареалу, однако чрезвычайное значение,
которое он имеет для писаний Нового Завета, а также его связь с
Единым Богом Израиля становятся понятны лишь исходя из его
употребления в Писании”. В течение длительного периода термин
«Бог» употреблялся в качестве имени собственного, несмотря на то,
что первоначально «Бог» представлял из себя нарицательное или
родовое существительное (common or generic noun). Чтобы возникло
значение имени собственного, потребовался монотеизм, то есть
убеждение в том, что существует только одно существо, по
отношению к которому данный родовой термин вправе
употребляться. В то время как эксклюзивный монотеизм, по всей
видимости, являлся достаточно поздним явлением в жизни Израиля,
сам Израиль в течение долгого времени был привержен (по крайней
мере, в принципе) верному служению только одному богу. Богу
Израилеву. Начиная с древнейших времен израильтяне отличали
своего Бога от всех чужих богов при помощи имени собственного
YHWH – того самого, которое Бог открыл Моисею и которое в истории
о горящем кусте этимологически связывается с глаголом «быть»: «Я
есмь Сущий», или просто «Сущий» (Исх. 3:14). Отличительной фразой
израильской религии, таким образом, становится утвердждение «
YHWH-наш Бог» (ср. 3 Цар. 18:39), гдеYHWHвыступает в качестве
имени собственного, а «Бог» – в виде сказуемого. То же самое
относится к классическому утверждению монотеизма «Шма, Исраэл»
из Втор. 6:4: «Слушай, Израиль, У7/И///(есть) наш Бог, YHWH– (есть)
один/ единственный». Как видим, данное утверждение можно
переводить поразному, но, возможно, единственный вариант
перевода, в строгом смысле недопустимый, это тот, который мы
находим в Септуагинте (κύριος ό θεός ημών κύριος εις έστιν), и, вслед
за ним, в современных переводах на английский язык (AV, RV, RSV,
NRSV, и т.д.: The Lord our God is one Lord, Господь Бог наш – единый
Господь). Имея в виду, что YHWH – имя собственное. такой перевод
представляется бесмысленным [100], однако ему придает смысл то
обстоятельство, что, будучи чересчур священным, имя собственное
YHWH в речи (но не в письменном тексте) заменялось нарицательным
существительным «Господь»: ’adonay/Kvp10qm. Данная замена,
вероятно, стала общеупотребительной приблизительно в эпоху
вавилонского плена, а свое окончательное утверждение она нашла к
концу 111 в. до Р.Х, став отражением общей тенденции того периода
все более подчеркивать трансцендентность Бога, втом числе путем
введения реальных или поэтических посредников. Таким образом,
часто используемое в древнееврейских Писаниях двойное имя Бога,
YHWH Elohim, читалось как'adonay Elohim, и оно, соответственно,
переводилось как κύριος θεός, «Господь Бог». Тем не менее между
«Бо! »־и «Господь» наблюдается одно важное различие: YHWH – это
попрежнему имя собственное, в то время как ’adonay и κύριος –
описательные существительные (descriptive nouns). Дело в том, что к
моменту, когда в Израиле, наконец, окончательно устанавливается
эксклюзивный монотеизм, так что становится общепризнанным,
чтосушествует только один Бог, – термин «Бог» начинает
функционировать в виде имени собственного, вто время как термин
«Господь» (замена имени собственного при устном произнесении)
употребляется в роли описательного существительного; при этом
последний термин уникальным обра-30м применяется к
единственному существу, которое одно лишь признается за Бога.
Таким образом, наряду с притяжательным, вежливым, придворным и
религиозным употреблением, как об этом было сказано выше, термин
«Господь» может отныне употребляться в абсолютном смысле по
отношению к единому Богу. Соответственно, когда Иисус Христос
описывается как «Господь» в Новом Завете, это, вполне возможно,
несет в себе тот же смысл, что и при употреблении полноценного
Имени Бога.
Что касается Павла, количество случаев, когда апостол называет
распятого и воскресшего Иисуса «Господом», не нуждается в
какомлибо учете. Нет сомнения также в том, что, употребляя термин
«Господь», Павел подразумевал всю полноту значения Божия имени
YHWH. Это видно, например, из того, как он использует цитату Иоил.
3:5: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13), то
есть Христос есть Господь, Который спасает всех прибегающих к
Нему. Однако наиболее важный случай обращения к имени Божию
мы встречаем, конечно, в послании к Филиппийцам:
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца (Фил. 2:5-11).
Таким образом, имя, которое превыше всякого имени, имя Божие,
даровано распятому, воскресшему и вознесенному Иисусу, что
опятьтаки подчеркивает центральное значение Страстей. Следует,
тем не менее, помнить, несмогря на то, что Павел последовательно
применяет к Иисусу Христу титул «Господь», а также идеи и цитаты,
изначально относившиеся исключительно к YHWH, это не означает
прямого отождествления YHWHи Иисуса Христа. Иисус являет Собой
все то, чем является YHWH, то есть Он вполне божественен, не
будучи, однако, самим YHWH. ибо YHWH – Его Отец: «У нас один Бог
Отец... и один Господь Иисус Христос» (1 Кор. 8:6). Двойное имя Бога
в Писаниях («Господь Бог») оказывается разделенным: в качестве
имени собственного «Господь» относится к Сыну, в то время как имя
собственное «Бог» (ό θεός) обычно употребляется в отношении Отца;
и уже не как собственные, а как нарицательные оба этих термина
применяются к Отцу и Сыну.
В сравнении с Павлом, синоптики употребляют термин «Господь» по
отношению ко Христу всего в нескольких случаях, причем в их
Евангелиях существует также ряд мест, где этот термин
подразумевает Бога Отца (напр., Мк. 5:19). Несмотря на частое
употребление слова «Господь» (в особенности у Луки, в
повествовательных разделах его Евангелия), сушествует всего два
высказывания Иисуса, из которых следует, что ученики обращались к
Нему именно таким образом: это Мф. 7:21 («Не всякий, говорящий
Мне: «Господи! Господи!», войдетв Царство Небесное») и Лк. 6:46
(«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я
говорю?»). Из этих фрагментов, однако, не видно, чтобы Иисус
приписывал какоелибо специальное
значениеданномутермину.такчто, вероятно, под ним следует
понимать выражение уважения в значении «учитель». Наиболее
существенным является место в Евангелиях, где Иисус приводит
цитату из Псалма 109:1 (по Септуагинте), одного из ключевых
текстов Писания для Нового Завета в целом:
Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам
Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему? (Мк.
12:35-7; ср. Мф. 22:41-6; Лк. 20:41-4).
Титул «Сын Давидов» не является адекватным описанием для Христа,
поскольку Он является также Господом для Давида; Христос – не
только потомок Давида, Он более велик, нежели тот: Он – его
Господь. «Господь» здесь, повидимому, подразумевает большую
степень авторитета, чем у просто «учителя». Рассказ синоптиков,
похоже, намекает на то, что ученики первоначально обращались к
Христу по имени «Господь», как дань вежливости или в знак
уважения, однако позднее им стало ясно, что в этом титуле
заключается нечто большее.
Более интересен в этом отношении рассказ книги Деяний,
описываюший умонастроения апостолов в период после Страстей
(вне зависимости от вопроса о том, правдив этот рассказ сам по себе
или нет). Достойным внимания здесь является то, что в Деян. 3,4, 5 и
6 термин «Господь» не употребляется по отношению к Иисусу ни в
одной из приводимых речей. С другой стороны, в своей речи в Деян. 2
Петр все же упоминает о «Господе», но поначалу не в полном
значении имени Божия. Петр начинает с цитаты из Иоил. 3:1-5,
которая заканчивается уже рассмотренным выше стихом: «И будет:
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21); целью
данного цитирования является не подчеркнутое именование Иисуса
Господом, но объяснение факта говорения на иныхязыках
–какдараДуха. Вкониеречи Петр вновь называет Иисуса Господом,
приводя цитату из все того же Пс. 109:1 (по Септуагинте):
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв
вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел
на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли (Деян. 2:32-36).
В данном случае термин «Господь» означает нечто большее, чем
просто дань уважения, пускай это даже уважение к Царю. Иисус
превозносится как высочайший Господь, однако при всем этом Он
остается объектом действия Бога. Данный фрагмент также говорит
нам о том, что Иисус стал Христом через распятие, точно так же, как
Павел говорит об Иисусе как о «поставленном (όρισθέντος) Сыном
Божиим в силе, по Духу святости, в воскресении из мертвых» (Рим.
1:4; рус. пер. еп. Кассиана. – Прим. пер.).Иисус в речи Петра – это
человек, засвидетельствованный Богом (Деян. 2:22); после распятия
Он не был оставлен в аду, но был воскрешен в славе как Христос и
Господь, в Духе. То, что ученики узнали в Иисусе Господа и Христа
именно в результате событий Страстей, является очевидным на
протяжении всего Нового Завета; и именно этого распятого Иисуса
дом Израилев должен признать Господом и Христом,
предначертанным Сыном Божиим. Вопрос, ставший столь
болезненным для христианства в дальнейшем, а именно был ли Он
Господом и Христом ранее, коль скоро говорится, что Бог «соделал»
его таковым, совершенно неверен, ибо временные категории нельзя
применять к вечному Иисусу Христу. Именно распятого и
воскресшего Иисуса Христа Евангелие провозглашает вечным Сыном
Божиим, толкуя Писание с точки зрения проповеди о кресте.
То, что Христос – Господь, подчеркивается весьма отчетливым
образом у Иоанна в высказываниях, в которых Иисус употребляет
словосочетание «Я есмь» (здесь мы имеем дело с аллюзией на
этимологию имени YHWH,предложенную в Исх. 3:14: «Я есмь
Сущий»), Наиболее поразительным случаем является утверждение
Христа: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). Данное
утверждение очевидным образом не является временным, иначе, как
это отмечает Иоанн Златоуст, Христос должен бы был сказать «Я
был» [102]. Подобным образом, приближаясь к напуганным ученикам
по воде, Он ободряет их словами: «Я есмь (έγώ είμι), не бойтесь» (Ин.
6:20); RSV [как и Синод. пер.| переводит это высказывание как «Это
Я», хотя здесь, без сомнения, присутствует аллюзия на имя Божие
[103]
. Данное утверждение Христа стоит в центре хиастической
конструкции Евангелия как нового Исхода: Христос провозглашает:
«Я есмь» – и ведет новый Израиль на другой берег моря [104]; как уже
говорилось, у Иоанна содержатся наиболее развернутые утверждения
божественности Иисуса Христа.
Наконец, опять же у Иоанна, Иисус Христос впервые назван
«Словом». В отвлеченном богословии данный термин нередко
заменяет имя Иисуса; также и у Иоанна, в его Евангелии, мы
встречаем наиболее ясный набросок модели, объясняющей данное
Христом откровение и совершенное Им искупление в терминах Его
сошествия и вознесения. Откровение и искупление Христа
представлены здесь драматическим образом как сошествие и
вознесение, и хотя сами моменты сошествия и вознесения нигде в
Евангелии не описаны: они постоянно подразумеваются как
указывающие на то, что Христос – выше всех [105]. Выражаясь точнее,
дело не в том, что моменты нигде не описаны, но в том, что они
неотделимы друг от друга: момент уничижения одновременно
является моментом славы: оба они вместе совершаются на кресте. В
связи с этим, когда Иисус говорит о предстоящей Ему славе, мы
также слышим слова о том, что это станет Его возврашением к
вечному существованию вместес Отцом (Ин. 17). Сама личность
(identity) Иисуса Христа становится настолько единой с керигмои о
Христе, со Словом Божиим, проповедуемым Павлом (Кол. 1:25-6), что,
согласно Иоанну, Иисус Христос Сам является воплощенным Словом
Божиим. Термин «Слово» (λόγος) содержит по меньшей мере две
взаимосвязанные идеи: идею откровения и представление о том, чьим
посредством это откровение совершается; их не следует разделять
друг от друга слишком поспешно. Христос есть Слово Божие, которое
как таковое существует до мира и с Богом; употребляя более
позднюю систему образов, это Слово говорится Богом к миру, оно
есть способ, каким Бог выражает Себя в мире. Функция того, кто
несет божественное откровение, настолько тесно переплетена с
самой личностью Иисуса, что Он является фактически воплощением
этого откровения: Он есть Слово, ставшее плотию. В Его словах не
только содержится откровение, но и Он Сам представляет Собой
откровение, сходящее в мир свыше; в Нем Бог открывает Сам Себя.
Отождествление распятого со Словом Божиим продолжается в книге
Откровения, авторство которой также приписывается Иоанну. В
Откровении Христос и зображен в виде всадника, скачущего на белом
коне: «Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему:
«Слово Божие» (Откр. 19:11-13).
Понимание Христа как «Слова Божия» приобретает у Иоанна
дополнительную глубину за счет утверждения того, что Иисус Сам
есть Бог (ό θεός, Ин. 20:28), а также благодаря подчеркиванию Его
уникальности в качестве «Единородного» Сына Божия. Строго
говоря, титул «Единородный» (μονογενής) не несет в Новом Завете
коннотации «рождения», но указывает на уникальность того, кто
описывается с его помощью как «единственный в своем роде» [106]. В
старолатинском это елово переводилось как unicus, и лишь позднее, в
контексте арианских споров, Иероним заменил его на unigenitus, что
и приобрело характер стандартного перевода [107]. Своим
происхождением титул «Единородный» связан с эпитетом
Исаакаyahid, переведенным Септуагинтой как «возлюбленный»
(αγαπητός, Быт. 22:2, 12, 16), хотя в Евр. 11:17 мы видим, что Исаак
обозначен как monogenes Авраама. Термин, таким образом, не имеет
прямого отношения к акту рождения, поскольку у Авраама имелся
другой сын, Измаил (ср. Быт. 21:12-13); он указывает на особое
качество, которое делало этого сына уникальным (или, как говорится
в Септуагинте, «возлюбленным») в глазах отца. Итак, будучи
применены к Иисусу Христу, титулы «Сын», «Слово» и «Бог» имеют
разное значение, однако все они описывают одного и того же
субъекта, понимаемого благодаря этому в качестве
предсуществующего, находящегося по ту сторону времени и мира как
Бог в Боге, посредник Бога в тварном мире, а также в качестве того,
кто несет откровение Бога в мире через Свое явление во плоти – как
воплощенное Слово Божие.
Множество попыток предпринималось для того, чтобы найти
источники этого уникального богословия Иоанна. Поиски велись в
самых разных местах, однако в большинстве своем они шли в сторону,
прямо противоположную наиболее очевидному локусу, которым
является Писание и более ранние по времени написания части
Нового Завета. Тема Слова Божия, безусловно, постоянно возникает в
Писании: Слово есть орудие Божия откровения, а также проявление
Его силы и мудрости. Книги Премудрости также обнаруживают
параллели с Евангелием от Иоанна: Божия Премудрость существует
от начала, обитая с
Богом (напр., Прит. 8:22-5); сказано также, что она приходит к людям
(Сир. 24:7-22; Прит. 8:31) и обитаете ними (Сир. 24:8-9); будучи
«книгой заповедей Божиих», она является на земле и живет посреди
людей (Вар. 3:37-4:1). Другие писания Нового Завета, в свою очередь,
используют образы, заимствованные из книг Премудрости – такие,
как «образ», «сияние» и само понятие «премудрости», объясняющее
то, кем является Христос (ср. Кол. 1:15; 2 Кор.4:4; Евр. 1:3; Прем.
7:26). Термин «Слово», возможно, получает свое преимущественное
употребление в христологии в качестве реакции на все возрастающее
употребление понятия «премудрости» в писаниях гностиков или же в
связи с апологетическим подходом к греческой культуре в целом.
Более вероятным, однако, представляется вывод о том, что в
именовании Христа «Словом» мы имеем дело с продолжением
традиции «Слова Божия» в смысле Евангелия Иисуса Христа, то есть
с тем фактом, что агент откровения и само откровение тождественны
друг другу [108].
Представление о том, что через привлечение данного термина автор
пытался достичь неких апологетических или миссионерских целей по
отношению к эллинам, опровергается самим Иоанном. Обозначение
Христа как «Слова» для него неразрывно с утверждением о том, что
«Слово стало плотью», а это, с точки зрения любого греческого
философа того времени, две взаимоисключающие вещи. В то время
как «Слово» почти исключительно употребляется для указания на
божественность Христа, у Иоанна этот термин неразрывно связан с
другим термином, который находится на противоположном полюсе от
божественности, с «плотью». Слово становится плотью; Слово Божие
– это плоть, конкретный человек: Иисус Христос, распятый и
воскресший. Иоанн выделяет данный контраст сильнее, чем кто бы то
ни было из авторов Нового Завета. Слово для него вечно и
божественно в своем вечном пребывании с Богом, но оно столь же
реально является плотью. И мея в виду поразительное единство
подобных антитетичных описаний, неудивительны постоянные
попытки ослабить единство плоти и Слова через обращение к
различным изводам докетизма. Последнее обстоятельство делает
наследие Иоанна наиболее стимулирующим для будущей
богословской рефлексии и одновременно говорит о его наибольшей
опасности. В начале XX столетия Ф.С. Конибеар заметил, что «если
бы у Афанасия не было четвертого Евангелия как источника
авторитетных цитат, он никогда бы не смог победить Ария», на что
Поллард несколько позже возразил: «если бы у Ария не было
четвертого Евангелия как источника авторитетных цитат, побеждать
было бы некого» [109].
^ ЧАСТЬ II
СЛОВО БОЖИЕ
Размышления, которые будут представлены далее, коренным образом
связаны с вопросами, получившими рассмотрение в первой части. В
качестве предмета нами был выбран вопрос Христа: «А вы за кого
почитаете Меня?». Мы говорили о контексте и интерпретационных
рамках, внутри которых данный вопрос был поставлен и исходя из
которых на него может быть получен ответ – об особой связи между
преданием и каноном Евангелия по Писаниям, представление о
которой стало отчетливым к концу второго столетия, однако
основывалось на том, что было передано апостолами от начала.
Исходя из этого мы смогли изложить, пускай вкратце, определенное
понимание Иисуса Христа, которое нашло отражение в текстах,
заявляющих о своем апостольском происхождении и получивших
признание внутри православного, кафолического, или нормативного,
христианства в качестве канонического Нового Завета. В данной
части мы повторим путь, начерченный в части 1, и окинем своим
взором ключевые фигуры рассматриваемой здесь традиции – Отцов
Церкви, труды которых несколько позже будут признаны, хотя и не
Писанием, но тоже «каноническими» [110]; как и в предыдущей части,
нас будет интересовать вопрос о том, как и что эти авторы учили о
Христе. Принимая во внимание значительную степень, в какой
дебаты данного периода касались природы и границ Писания, не
стоит удивляться, что Отцам пришлось глубоко размышлять над
вопросом о том, в каком смысле и почему Иисус Христос назван
«Словом Божиим». Как мы видели, данное наименование
одновременно обозначает то. Кем Он является, слово, которое Он
говорит, а также слово, которое говорится о Нем. Слово несет с собой
откровение Бога и Само является откровением Божиим –
посредником и посланием; отделив одно от другого, мы лишь обедним
оба. В последующие периоды акцент начнет все больше смешаться в
сторону рассмотрения Самого Христа как истинного Бога и
истинного человека в одном лице, однако и это будет происходить на
фоне продолжаюшейся проповеди Евангелия, единство которого
также сочетает в себе два начала, Слово Божие в словах
человеческих (ср. 1 Фес. 2:13).
В апостольских сочинениях, представляющих Христа при посредстве
Писания, читаемого через призму керигмы, имевшиеся устные
предания о Христе просеивались и переосмыслялись в контексте
Страстей. В сложившейся в результате этого процесса мозаике Иисус
Христос предстает в большом разнообразии образов: как Пророк,
Царь, Мессия, Первосвященник, Агнец и Страдаюший Раб – называя
лишь некоторые. Каждый из этих образов, как и многие другие,
содержит в себе глубокое проникновение в смысл личности и деяний
Христа, который Сам – больше. чем любой из этих частных элементов.
В богословских поисках послеапосгольского периода задача
интерпретации, поставленная Христом перед учениками, не утратила
своего значения, в то время как разнообразные аспекты
изображающего Его полотна были, безусловно, сохранены и
продолжали служить в качестве стимула. Например, когда данные
авторы пытаются разъяснить дело спасения, они продолжают
говорить о жертвенной природе смерти Христа, примирившего людей
с Богом Своей кровью, или об учительном аспекте Его жизни,
благодаря чему люди получили спасительное знание Бога. Писание
продолжает читаться ими во всей его полноте, и вся полнота
представленного в Писании образа Христа, равно как и каждый
составной элемент этого образа, попрежнему стимулируют их мысль.
И все же, чтобы знать с уверенноетью, что представленный образ
Христа – истинный и что он согласуется с преданием и каноном
Евангелия по Писаниям, необходимо, чтобы гипотеза Писания и
канон истины были четко сформулированы, – сушествование
«канонического Нового Завета» невозможно, пока данная работа не
проведена. Провозглашению Христа (Фил. 1:18), Его познанию (Еф.
4:20) и отображению в верующем (Гал. 4:19) внутренне присуша
потребность специального осмысления отношения Иисуса Христа к
единому Богу, Его Отцу, и к Святому Духу, говорившему о Нем через
пророков; и, конечно же, необходимо осмысление самого Иисуса
Христа – есть ли Он и Бог и человек, и если так, то каким образом Он
един? В этом продолжающемся размышлении все больше внимания
начинаетуделяться ключевым или спорным фрагментам Писания, к
которым прибегают за доказательством, поскольку целью становится
не экзегеза самого Писания, а прояснение гипотезы и канона, на
основании которых Писание говорит об Иисусе Христе. Такой все
более отвлеченный богословекий дискурс не является простым
продуктом переноса Евангелия с родной семитской почвы в якобы
чуждое эллинистическое окружение – подобное противопоставление
настолько же обманчиво, насколько оно анахронично [111]. Не было в
этом и попытки дать описание предельным структурам «реальности»
в процессе построения некоей фундаментальной онтологии, будь то
онтология «Бытия» («Being») или «общения» («communion»), чтобы
вслед за этим можно было перейти к определению содержания
самого откровения, подменяя, таким образом, объяснением то, что
должно было быть объяснено. Скорее, целью богословского проекта,
призванного дать ответ на вопрос Христа, являлось формулирование,
перед лицом появляющихся отклонений от истины, наиболее точного
канона истины, причем в качестве условия ставилось непременное
возвращение к «Слову, переданному в начале», как в начале II в.
напоминал своим читателям Поликарп Смирнский [112].
Наиболее влиятельной сотериологической моделью, питавшей такое
все более фокусирующееся богословие, являлась модель исцеления и
спасения через участие, общность и взаимообмен. Ее основы можно
обнаружить во многих фрагментах Писания, например, в словах
Павла: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что
Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его
нищетою» (2Кор. 8:9). Данная сотериологическая парадигма исходит
из унижения и вознесения Христа на кресте и затем расширяется до
охвата всего пройденного Им пути – от Его вхождения в человеческое
бытие до возвращения, уже в нашей человеческой природе, к Отцу.
Две базисные аксиомы определяют эту модель, а также ход
богословского размышления тех столетий, которые будут охвачены
данной серией книг. Первая аксиома заключается в том, что только
Бог может спасти. Именно Бог действует во Христе, в то время как
Христос являет Собой СловоБожие, подобно тому, как Евангелие
тоже Божие, а не человеческое (Гал. 1:11; Рим. 1:1). Вторая аксиома
утверждает, что, только став человеком, Бог может спасти людей. В
то время как прощение может быть даровано издалека, последнего
врага, смерть, невозможно было одолеть иначе, как через
добровольную смерть Христа за всех. Через это была явлена Его
божественная сущность (Рим. 5:6-8), обеспечившая победу над
смертью и преображение самой смерти для тех, кто умирает вместе с
Христом, в смерть, дающую жизнь. Если бы божество Бога не
открылось таким образом во плоти, то, по причине тварности
человеческой природы, оно осталось бы непостижимым, а потому
неприкосновенным и недоступным. Но Христос, разделив нищету
человеческого состояния, даетлюдям возможность участвовать в
богатстве Его божественной жизни, стать «причастниками Божеского
естества» (2Пет. 1:4). Взаимодействие этих двух аксиом можно
наблюдать во многих известных святоотеческих изречениях,
например, в утверждении Афанасия: «Он стал человеком, чтобы
человек мог стать богом» [113] и в возражении, которое Григорий
Назианзин сделал Аполлинарию: «Что не принимается, то и не
исцеляется» [114]. По мнению отцов, подобное исцеляется и спасается
подобным.
П рисутствующая в этих двух аксиомах логика неумолимо ведет к
Халкидону, вто время как попытки истолковать личность и миссию
Христа, основываясь на иных сотериологических парадигмах, были
постепенно отброшены, чему временами (начиная с IVb.)
способствовала в том числе политическая власть. При этом важно
осознавать, что фигуры, выпавшие в ходе этого процесса за рамки
того, что было признано православием, как правило,
руководствовались тем же самым желанием сохранить некоторые
элементы общей картины Христа из Писания. Например,
раннехристианские мыслители, которые были подвергнуты критике и
осуждены за учение о том, что Иисус был «просто человек», которого
Бог усыновил в качестве Христа в момент крещения, ссылались на
определенные места в Новом Завете – такие, как начало Евангелия от
Марка, где Иисус просто появляется и принимает крещение, в то
время как голос с небес провозглашает: «Ты Сын Мой возлюбленный,
в котором Мое благоволение» (Мк. 1:11), или на места, где об Иисусе
говорится, что он был «соделан» Христом (напр., Деян. 2:36), или
«был открыт Сыном Божиим» (напр., Рим. 1:4). И все же такие
отдельные выражения представляются маргинальными на фоне более
целостного свидетельства Писания с его обилием образов Христа, в
которых и через которые вырисовывается Его конкретный облик. По
мере того как все большее внимание начало уделяться формулировке
гипотезы самого Писания в каноне истины, такие эпизоды все более
и более отодвигались в сторону или даже, как это случалось в самый
ранний период, переделывались в свете канона" [5].
В течение 11 и III вв. – периода, о котором пойдет речь во второй и
третьей частях нашей книги, – существовало огромное разнообразие
моделей осмысления Иисуса Христа. Поскольку данные модели не
являются предметом специального рассмотрения данной части, стоит
отметить лишь некоторые общие, но наиболее бросающиеся в глаза
моменты. Помимо людей, про которых говорилось, что они учат о
Христе как об «обычном человеке», который был усыновлен Богом" [6],
в это время были и те, кто пытался ослабить антитетическое
напряжение, присутствующее в исповедании Иисуса Христа
одновременно Богом и человеком, через отрицание человеческого
элемента. Первое послание Иоанна и послания Игнатия
Антиохийского направлены против оппонентов, которые, по всей
видимости, заявляли, что Христос не был понастоящему «во плоти»,
но только казался таковым – данная позиция получила прозвище
«докетизма» (от греч. δοκειν, «казаться»). Как утверждается,
Маркион тоже учил, что Христос не был в действительности
существом из плоти и крови, но «служебным духом», который сошел с
неба в пятнадцатый год правления Тиберия Цезаря, уже будучи
взрослым" [7]. Считается, что, в свою очередь, Василия проповедовал
особую форму докетизма, в соответствии с которой божественный эон
Нус, также называемый Христом, был послан Отцом к живущим на
земле, чтобы освободить их от творца мира. Этот эон только казался
человеком и потому имел возможность перед распятием обменять
свою человеческую оболочку на оболочку Симона Киринеянина, так
что Симон был распят вместо него, в то время как сам Иисус стоял
неподалеку и смеялся, – потому всякий, кто продолжает исповедовать
распятого, тем самым свидетельствует, что Иисус попрежнему – раб
[118]
. Эта идея Василида, возможно, обыгрывала неоднозначность
рассказа, как он приводится у Марка, где вслед за упоминанием
Симона Киринеянина, имя «Иисус» не употребляется вплоть до
самого момента, когда распятый, обозначенный лишь местоимением,
оказывается висящим на кресте (Мк. 15:21-34). Третья общая
тенденция состояла в том, чтобы сохранять и божество, и
человечество, но по отдельности и в виде двух различных существ:
божественного Христа и человекаИисуса. По сведениям, которые
дошли до нас благодаря их оппонентам, некоторые гностики учили о
том, что Христос был божественным существом, сошедшим из
божественного царства Плиромы и временно обитавшим в человеке
Иисусе. Это существо наставляло духовных людей, то есть тех, кто
был избран для спасительного знания, а затем покинуло Иисуса
перед самым распятием, хотя и послало ему силу, чтобы воскреснуть
в духовном теле, в котором он затем пребывал восемнадцать месяцев,
наставляя духовных и избранных, которые одни были способны к
принятию знания истины [1]״.
Насколько разными ни были бы эти подходы, их объединяют
несколько важных черт. Первая черта состоит в том, что во всех
делается попытка обойти причастность Бога кресту. Вместо
обращения к керигме - проповеди, что распятый и воскресший есть
Господь, Бог и Спаситель, – прибежище ищется в некоем тайном
учении, для преподания которого приходится переделывать само
библейское повествование о Христе; в случае с гностиками последнее
заменяется той или иной космологической драмой. Сила и
премудрость Божии, таким образом, оказываются заключенными в
чем угодно, только не в слабости и безумии креста. Вторая черта
заключается в том, что ни в одном из указанных выше подходов Бог
не пребывает действительно «с нами» (ср. Мф. 1:23). Как указывал
Ириней, ни в одной из этих систем Слово Божие в действительности
не становится плотью (ср. ПЕ3.11.3). Под сотериологией здесь
понимается прежде всего откровение тайного знания, либо она
трактуется в терминах образцовой праведности, а потому речь не
идет ни о каком обмене свойств между Богом и человеком, гак что
для Христа нет нужды разделять нашу человеческую нищету, чтобы
мы могли стать соучастниками Его богатств. Наконей, третий общий
элемент состоит в том, что во всех этих подходах присугствует
достаточно грубое, в некотором смысле материалистическое,
понимание личности Христа. Христа пытаются объяснить путем
аналитического расчленения Его бытия, как если бы Его Божество и
человечество представляли собой «части» некоего составного бытия,
а их «местоположение» можно было бы точно определить. Поэтому,
согласно более поздней формулировке, разделяющее представление
о том, что Христос является полностью человеком, «целостным» или
«совершенным человеком» (τέλειος άνθρωπος), без какой бы то ни
было «остаточной части» в Его бытии, могущей быть божественной, –
должны также учить, что Он – «просто человек» (ψιλός άνθρωπος).
Докеты, похоже, выбрали альтернативный путь, отрицая любую
подлинную человечность во Христе – в их случае Христос полностью
и только божествен. Третья тенденция состояла в попытке сохранить
оба элемента, однако через отрицание единства Христа. По
высказыванию Иринея, такие люди «разделяют Господа, сколько от
них зависит, говоря, что Он произошел из различных субстанций»
(ЛЕЗ. 16.5): это не Христос страдает во плоти (1Пет. 4:1), но человек
Иисус, вто время как божественный Христос остается в стороне.
Такая составная христология и порождаемые ею проблемы
проявляются на разных отрезках богословских дискуссий ранних
веков, к примеру – на Соборе в Антиохии 268/9 гг., на котором был
осужден Павел Самосатский, но наиболее драматично – сто лет
спустя, в связи с появлением учения Аполлинария Лаодикийского.
Как мы видим, размышление о Христе и толкование Его личности
фокусировались на том или ином частном объяснении. Подобно тому,
как апостолы и евангелисты при создании своего образа Христа по
Писаниям, прочитанным в свете Страстей, избирательно
пользовались устно переданными сведениями о Христе, – так и
сочинения, претендующие на апостольское происхождение,
количество которых все более возрастало, были ограничены каноном
Писания [120], гипотеза которого, как это было сформулировано в
каноне истины, говорила, что один и тот же Иисус Христос является в
полном смысле Богом и в полном смысле человеком. Однако, прежде
чем более пристально посмотреть на развитие этой богословской
модели, следует кратко коснуться еще одного момента. Суммарным
эффектом от приложения разнообразных библейских имен (titles) ко
Христу в свете Страстей стало переосмысление значения и
содержания самих этих имен, в результате чего сложился четкий
образ Христа по Писанию. Но поскольку в патриотической рефлексии
получил продолжение процесс селекции, - продолжился ли также
процесс переосмысления и трансформации? И если так, то не
привели ли такие богословские усилия к появлению образа Христа,
который отличается от образа, представленного в Новом Завете?
Разумеется, развитие имеет место, в том смысле, что керигма
окончательно кристаллизуется в каноне истины, который составляет
предпосылку существования «канонического Нового Завета».
Несмотря на искушения к обратному, патриотическая мысль не
имела никакого другого материала для приложения своих усилий,
кроме материала керигмы – как она содержится в Писании, как в
Ветхом, так и в Новом Завете, и как она выражена, кроме того,
например, в Евхаристии, в особенности в анафоре, которая в ее
классической форме представляет собой перечисление библейских
событий, кульминирующих в причастии тела и крови Христа; а также
в крещении. совершаемом во имя Отца, Сына и Святого Духа, что
является понторением трех составляющих канона истины. Принимая,
что керигма можег быть выражена в Евхаристии и значение
Евхаристии для христологии иногда представляло из себя проблему
[121]
, основным источником для керигмыявлялось, конечно же,
Писание. Как поясняет Ириней: «Когда апостольское предание таким
образом существует в Церкви и сохраняется у нас, я возвращусь к
доказательствам из писаний апостолов, написавших также
Евангелие, в которых они изложили учение о Боге, поставляя при сем
на вид, что Господь наш Иисус Христос есть Истина» (ПЕ 3.5.1).
Богословие развивалось через размышление над Писанием, но, как
говорилось выше, это размышление проходило избирательно. В своих
попытках остаться вернымкеригме, богословие все более жестко
фокусировало внимание на особоважных и спорных текстах Писания,
которые приводились в качестве доказательств (proof-texts), а не как
объекты экзегетического анализа. В гаком переходе от керигмы к
догме имело место определенное перетодкование полученного
материала, но вовсе не обязательно оно влекло за собой искажение
последнего. Подобно переводчикам Септуагинты и авторам Нового
Завета, Отцы привлекали язык и понятия, которые были свойственны
их культурному окружению, получая тем самым возможность
говорить на интересующие их темы. Они обращались к языку
философии, причем во все большей мере, что было связано с
возрастающим значением христодогии и тех вопросов, которые в ней
обсуждались. Во всем этом присугствовала опасность того, что
привлекаемый философский язык начнет затемнять
богословскуюкеригму, которую он пытался четче обосновать, или что
произойдет растворение мышления в мифологии. Однако опасность
эта более угрожает нам самим – их читателям и исследователям.
Если кониентрировать свое внимание лишь на абстрактных моментах,
которых в богословии становилось все больше, легко потерять из виду
сам предмет, о котором пишут Отцы. Необходимо помнить, что
подобно тому, как апостольская керигма о Господе Христе имеет в
виду не кого-то иного, а земного Иисуса, – так и патриотическое
богословие, даже на вершине абстракции, всегда имеет в
видукеригму, которую оно пытается защитить и утвердить, как это и
подразумевалось с самого начала.
^ ГЛАВА 3
ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ
В начале II в. Игнатий был доставлен под стражей из Антиохии в Рим,
где его должны были предать мученической смерти. На пути в Рим, в
Смирне, его посетил епископ Поликарп, а также христиане
окрестных районов, и здесь же в Смирне он написал свои послания
церквям в Ефесе, Магнезии и Тралле. В посланиях он увещевал и
укреплял христиан твердо стоять в единстве веры со своими
епископами, в то время как четвертое письмо, адресованное церкви в
Риме, содержало просьбу не препятствовать приближающемуся суду
над ним. После Смирны Игнатий был переправлен в Троаду, где он
написал еще несколько посланий: церквям Филадельфии, Смирны, а
также личное -Поликарпу. Послания Игнатия являются одним из
наиболее важных свидетельств, за пределами собственно Нового
Завета, о том, как развивались структура ранней церкви и ее
богословие [122]. Говоря о структуре, Игнатий делал значительный
упор на важности и центральности места епископа вместе с
помогающими ему пресвитерами и диаконами; без присутствия этих
трех чинов община вообще, по его мнению, не может называться
«церковью»(Тралл. 3.1). Христиан Смирны, к примеру, он наставляет
следовать за епископом, как Христос за Отцом, и не делать без
епископа ничего, что имеет отношение к церкви; без епископа не
следует ни крестить, ни совершатьагапы, и только та Евхаристия
должна считаться подлинной (βέβαια), которую совершает либо сам
епископ, либо уполномоченное им лицо; в целом же, «где будет
епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос,
там и кафолическая Церковь» (Смирн.8). Из существования только
одного Христа вытекает, что может быть только одна Евхаристия,
один алтарь, один епископ(Филад. 4). Тем не менее акцентирование
роли епископа – моноепископат – не следует ни преувеличивать, ни
понимать его в терминах более позднего «монархического»
епископата [123]. Послушание, которое смирняне должны иметь по
отношению к своему епископу, подобает также иметь в отношении, к
примеру, пресвитеров (Смирн.8.1). Подобным же образом Игнатий
наставляет христиан Магнезии и Ефеса ничего не делать без
епископа и пресвитеров; они должны слушаться и тех, и других, а
также друг друга (Магн. 7.1, 13.2; Ефес.2.2, 20.2). Что еще более
важно, для Игнатия епископ не является преемником апостолов, и
сами апостолы не считаются первыми епископами. Скорее, в
типологической параллели, которую Игнатий проводит между Отцом,
Христом и апостолами, с одной стороны, и епископом, диаконом и
пресвитерами, с другой (Тралл. 3.1; Магн.
6.1), апостолы всегда размещаются на вечном, универсальном уровне
Церкви, вместе с Христом и Отцом, в то время как положение чинов
духовенства определяется их историей и географией (historically and
geographically specific). Игнатий неоднократно утверждает, что,
будучи епископом, он сам не обладает властью отдавать
распоряжения, подобные тем, которые давали апостолы (διατάσσομαι,
Римл. 4.3; Ефес. 3.1; Тралл. 3.3), в то время как церковь живет,
соблюдая установления апостолов (διαταγμάτων των αποστόλων,
напр. Тралл.7.1). Поскольку Христос был подчинен Отцу, а апостолы –
Христу и Отцу, говорится даже о том, что наставления и учение
(δόγμα) исходят одновременно от Господа и апостолов (Магн. 13.1)
[124]
. И обратно: когда христиане поддерживают или укрепляют
(άναψύχειν) епископа, это происходит в честь Отца Иисуса Христа и
апостолов (Тралл. 12.2). Роль апостолов в Божием деле во Христе (ср.
Магн. 7.1) имеет, с точки зрения Игнатия, фундаментальное
значение для Церкви во все времена и повсюду, в отличие от
ограниченной роли епископа [125].
Как таковое, единение христиан со своим единственным епископом, в
одной Евхаристии, совершаемой на одном алтаре, основывается на
единстве в апостольской вере. Поэтому в своих посланиях, которые,
за исключением послания Поликарпу, адресованы церквям в целом,
Игнатий постоянно наставляет тех, кому он пишет, крепко держаться
единства истинной веры. Он призывает не слушать «когда кто будет
говорить вам не об Иисусе Христе» (Тралл. 9.1) и даже не слушать
«никого, кроме Иисуса Христа, проповедующего истину» (Ефес. 6.2).
Он говорит, что вокруг полно «лицемерных волков», в связи с чем
предупреждение: «чада света и истины, бегайте разделения и злых
учений, но куда пастырь, туда и вы, как овцы, идите» (Филад. 2).
Однако способность к узнаванию приобретается только благодаря
знанию истинного учения об Иисусе Христе, и потому Игнатий
стремится исполнить свой долг пастыря через постоянное
утверждение того, что он почитает за истинную веру. Так, в письме к
смирнянам непосредственно после вступительного приветствия он
обращается к изложению ключевых элементов веры:
Славлю Иисуса Христа Бога, так умудрившего вас. Ибо я узнал, что
вы непоколебимо тверды в вере, как будто пригвождены ко кресту
Господа Иисуса Христа и плотью, и духом, утверждены в любви
кровью Христовой; и преисполнены веры в Господа нашего, Который
истинно из рода Давида по плоти, но Сын Божий по воле и силе
Божественной, истинно родился от Девы, крестился от Иоанна, чтобы
исполнить всякую правду, истинно распят был за нас плотью при
Понтии Пилате и Ироде четверовластнике (от сего-то плода, то есть
богоблаженнейшего страдания Его, и произошли мы), чтобы через
воскресение навеки воздвигнутьзнамение для святых и верных своих,
как между иудеями, так и язычниками, совокупленных в едином теле
Церкви Своей (Смирн. 1).
Представляя собой воспоминание о различных событиях,
возвещенных в Евангелии, кульминацией которых явилось распятие и
воскресение, данный фрагмент содержит все наиболее существенные
элементы веры в Иисуса Христа, которые позже приобретут форму
символа веры. В согласии с книгой пророка Исайи (5:26; 49:22; 62:10)
и посланием к
Ефесянам (2:16), именно крест Христа, воздвигнутый в качестве
знамения или знамени, представлен здесь в виде объединяющего
принципа для всех верующих: они утверждаются в своей вере, как бы
пригвождаясь к Его кресту, что делает их, как плод Его страстей,
частью единого тела Его Церкви. Во фрагменте также нашла
отражение идея двойной родословной Христа: от Давида и от Бога,
что мы обнаруживаем уже у Павла (напр., в Рим. 1:3-4). С другой
стороны, повтор слова «истинно» применительно к фактам жизни
Христа, весьма вероятно, представляет собой реакцию на учение
докетов, о которых Игнатий упоминает в других местах посланий
(Тралл. 10; Смирн. 2-4). Таким образом, некоторые аспекты керигмы,
которые прежде могли считаться само собой разумеющимися
(например, что Иисус Христос действительно был человеком), теперь
должны получить утверждение в явном виде. Примечателен здесь и
тот момент, как Игнатий называет Христа Богом, используя для этого
форму с артиклем (ό θεός), причем весьма подчеркнутым образом.
Данное обстоятельство является характерным для Игнатия и может
свидетельствоватъ о его близости Иоанну. Однако, как и у Иоанна,
использование артиклевой формы слова «Бог» в отношении Иисуса
основано на признании Его Сыном (единого истинного) Бога, Его
Отца.
Законченные и выкристаллизовавшиеся исповедания веры, подобные
только что приведенному, также встречаются в сочинениях Нового
Завета (напр. Рим. 1:3-4; 1 Кор. 8:6; 1 Тим. 2: 5-6; 1 Пет. 3: 18-22) [126].
Тем не менее у Игнатия они используются уже не только для
разъяснения содержания Евангелия, то есть в виде керигмы, но и
выступают в качестве проверочного критерия истинной веры (ср.
Тралл. 9-10), подобно тому, как в Первом послании Иоанна критерием
различения истинных и ложных духов является исповедание Христа,
пришедшего во плоти (1Ин. 4:2-3). Но исповедание Игнатия более
развернуто, поскольку оно является реакцией на заблуждения,
возникшие за истекший период. По его мнению, адресаты должны
придерживаться именно такой веры, если они желают остаться в
границах правильного вероучения. Смыслом установления подобных
границ является как защита от конкретных угроз, так и утверждение
нормы христианской веры. То, как Игнатий формулирует данные
положения, сходно с более поздним
обращением к канону истины у Иринея. Как и последний, Игнатий
следует новозаветному образцу, когда соединяет вероучительные
нормы с этическими (напр., Ин. 13: 35; 1 Ин. 2:7-10): исповедание
веры для него непременно должно подкрепляться делами. Согласно
Игнатию, судящие иначе (έτεροδοξοΰντας) о благодати Христовой
являются противниками воли (τη γνώμη) Божией: «У них нет
попечения о любви, ни о вдовице, ни о сироте, ни о притесняемом, ни
об узнике или освобожденном от уз, ни об алчущем или жаждущем»
(Смирн. 6:2).
Несмотря на все это, Игнатий только в редких случаях дает знать об
источнике своих утверждений. Ему знакомы послания Павла, и он
даже ссылается на них во множественном числе (Ефес. 12:2), то есть,
возможно, имеет в виду некое собрание писем апостола [127]. Не
оставляет сомнений и то, что его сочинения проникнуты идеями и
лексикой как Павла, так и Иоанна, чего, собственно, и следовало
ожидать, поскольку он проповедовал то же самое Евангелие. И все
же Игнатий никогда не цитирует писания данных апостолов в
качестве подтверждения своих собственных богословских положений.
Христос, которого он проповедует, является для него в то же самое
время самим локусом откровения: «Иисус Христос – неложные уста,
которыми истинно глаголал Отец, – откроет вам, что я говорю
истину», – пишет он (Рим!. 8.2). В фокусе внимания Игнатия
нахолятся Несущий откровение и само откровение, а не орудия,
посредством которых последнее было донесено. Игнатий, конечно,
недвусмысленно утверждает значение апостолов в создании Церкви,
а также их трудов, вместе со Христом, в распространении
наставлений или учений (ср. Магн.
13.1), но он не прибегает к авторитету апостолов, тем более к их
текстам, для подтверждения того, о чем пишет сам. Почти наверняка
у него не было самой возможности обращаться к Писанию или
писаниям апостолов, пока он находился под стражей по дороге в Рим,
однако он нигде не говорит и о том, что ощущает необходимость
подтверждать свое учение о вере таким путем[128]. Он просто
продолжает возвещать Евангелие – проповедуя и наставляя, точно
так, как Павел повелел Тимофею (1Тим. 4:13). Что касается
различных исповеданий веры, которые он обращает к читателям
своих писем, чтобы те научились различать истинное учение от
ложного, они выступают в роли того самого «образца здравого
учения» (ύποτύπωσιν ύγιαινόντων λόγων), которое Тимофей слышал
от Павла и которому последний должен был следовать (2Тим. 1:13).
Подобные формулировки даются им в виде точек отсчета, то есть
выполняют ту же самую функцию, что и канон истины, который
появится на свет несколько позднее. Кроме того, Игнатий стоит
перед необходимостью прояснить некоторые конкретные аспекты
учения, которые не получили четкого оформления ранее; этого от
него требует современная ему ситуация. В этом контексте стоит
отметить, что несмотря на выделение центральной роли епископа
Игнатий нигде не увязывает последнюю напрямую с учением; скорее,
как и у Климента Римского, епископ оказывается у него связан
прежде всего с богослужением и таинствами [129]. Более того,
подобная роль не выводится им и из какоголибо установления
апостолов, но он дает ей собственную летитимацию, пророчески
произнося: «Находясь между вами, я громко возвешал, сильным
голосом говорил: «внимайтеепископу, пресвитерству идьяконам»»
[130]
.
Хотя Игнатий и не апеллирует в скольнибудь значительной мере к
Писанию, тем не менее в его изложении христианского учения
Христос, о Котором он пишет, оказывается глубинным образом
связанным с Писанием и Евангелием, которое было возвещено
апостолами. В сочинениях, которые позже будут составлены в Новый
Завет, отношение между Христом, Евангелием и Писанием, несмотря
на присутствие этого отношения в качестве постоянного ((юна и
безусловную укорененность в проповеди Христа «по Писаниям»,
нигде не обсуждается напрямую (не считая 2 Кор. 3:12 – 4:6, где оно
раскрывается только отчасти). Но из посланий Игнатия видно, что
вопрос об этом отношении стал предметом горячих дебатов между
ним и некоторыми членами христианской обшины Филадельфии.
Данная тема появляется у Игнатия в пятой главе одноименного
послания. Он говорит об «узах» Христа, которые он носит, и умоляет
филадельфийцев молиться за него, дабы он сделался совершенным
для Бога и обрел жребий, по которому смог бы удостоиться милости:
Будем прибегать к Евангелию, как к плоти Иисуса, и к апостолам, как
к пресвитерству Церкви. Будем любить так же, как и пророков, ибо и
они возвещали то, что относится к Евангелию, на Христа уповали и
Его ожидали и спаслись верой в Него, посредством единения с
Иисусом Христом соделавшись достовозлюбленными и досточудными
святыми, Иисусом Христом свидетельствованными и
сопричисленными к Евангелию общегоупования (Филад. 5.1-2).
Пророки возвестили Евангелие, которое соотносится у Игнатия с
плотью Христа, подобно тому, как апостолы представлены им в виде
прототипа собрания пресвитеров (Тралл. 3.1; Магн. 6.1). Пророки
ожидали Христа, потому что именно в Нем они обрели спасение, в
Евангелии общего упования. Как это следует из фрагмента, и
пророки, и апостолы проповедовали Христа, и потому они имеют
одинаковый авторитет. Более того, существует только одно
откровение Божие, данное в Иисусе Христе и посредством Иисуса
Христа, откровение, предошущение которого, по Игнатию,
содержалось уже в Писании.
Далее в послании Игнатий упоминает о своих разногласиях с
филадельфийцами. После увещевания слушателей не делать ничего
такого, что не соответствует учению Христа (κατά χριστομαθίαν),
Игнатий сообщает следующее:
Я слышал от некоторых слова: если не найду в древних писаниях (έν
τοίς άρχείοις [131]), то не верю написанному в Евангелии. А когда я
говорил им, что написано (γέγραπται). то отвечали мне: надо доказать
(άπεκρίθησάν μοι ότι πρόκειται) (Филад. 8.2).
То, что Игнатий говорит о Евангелии в единственном числе, и то, как
он использует этот термин в других частях послания (Филад. 5.1;
9.2), а также в других письмах (Смирн. 5.1; 7.2), свидетельствует о
том, что под Евангелием, вероятнее всего, имеется в виду устное
возвешение, а не письменный документ [152]. Адресаты Игнатия,
очевидно, были готовы принимать христианскую проповедьлишь
настолько, насколько она согласовывалась с тем, что уже
существовало в письменном виде, то есть с Писанием. Утверждая в
ответ, что то, о чем говорится в Евангелии, «написано», Игнатий
опять же ссылается не на апостольские писания, а на свою
убеждение, что в древних писаниях (то есть в «Ветхом Завете»)
действительно содержится откровение о Христе. Его собеседники
оказались не согласны с таким подходом: христологическая
интерпретация Писания не удовлетворяла их запросам. Осознав суть
проблемы, Игнатий выражает свое мнение уже более отчетливо:
Но для меня древние писания – Иисус Христос (έμοί δέ άρχεΐά έστιν
Ιησούς Χριστός), непреложно древнее – крест Его, Его смерть и
воскресение, и вера Его: вот чем желаю оправдаться при вашей
молитве. Хороши священники, но превосходнее Первосвященник,
Которому вверено Святое святых. Которому одному вверены тайны
Божии. Он есть дверь к Отцу, которою входят Авраам, Исаак и Иаков,
пророки и апостолы и Церковь. Все это для единения с Богом. Но
Евангелие имеет в себе нечто превосходнейшее (έξαίρετον δέ τι εχει):
это пришествие (τήν παρουσίαν) Господа Нашего Иисуса Христа, Его
страдание и воекресение. Ибо возлюбленные пророки только
указывали на Него, а Евангелие есть совершение нетления (Филад.
8.2 – 9.2).
Утверждение, стоящее в начале данного фрагмента, может
показаться несколько двусмысленным: являются ли для Игнатия
писания Иисусом Христом, или, напротив, Иисус Христос –
писаниями? [153] Игнатий намеревается убедить своих оппонентов по
спору, что Писание действительно говорит о Христе и что в нем
действительно «написано» то, о чем он утверждает. Исходя из этого,
представляется маловероятным, чтобы он теперь делал разворот на
180 градусов, делая заявление о том, что всегда утверждал нечто
иное, а именно: что для него самого писанием является «Иисус
Христос», в противовес «древним писаниям» его иудействующих
оппонентов[134]. Безусловно, только Иисус Христос, Его страсти и
воскресение являются единственным локусом откровения Бога; и
только через эту дверь, Иисуса Христа, пророки, апостолы, и все, кто
услышал их зов, то есть Церковь, входят к Отцу. Но для Игнатия
пророки уже говорили об Иисусе Христе. Поэтому, когда он заявляет:
«Для меня древние писания – Иисус Христос», – он не подразумевает,
что Иисус Христос обладает большим авторитетом, чем Писание
(«Ветхий Завет»). Напротив, будучи адекватно поняты, древние
писания говорят для него об Иисусе Христе; более того, они и есть
Иисус Христос в том смысле, что Он – это воплощение Писания,
Слово, ставшее плотью. Все, что Писание говорило про откровение
Бога, то есть все Писание целиком, тождественно откровению,
данному во Христе.
В свою очередь все, что отныне провозглашается Евангелием, было
уже записано: в Евангелии не содержится никакого нового слова или
нового откровения. Отличие Евангелия от Писания заключается
только в том факте, что оно содержит и, таким образом, заново
представляет то, о чем заранее было объявлено (ср. Филад. 5.2):
пришествие Христа, Его страсти и воскресение. Данное
обстоятельство нисколько не умаляет значения откровения Самого
Христа: как выражается Игнатий, в Евангелии есть значительное
превосходство, поскольку оно содержит в себе пришествие (παρουσία)
Христа. Его страсти и воскресение, – в то время как пророки лишь
предсказывакгг эти события. Как отмечает Игнатий в другом месте,
пророки видели Христа и говорили о Нем, ибо они «жили о Христе
Иисусе» и «были вдохноаляемы Его благодатью», чтобы возвещать,
что «Един есть Бог, явивший себя чрез Иисуса Христа, Сына Своего,
Который есть слово Его вечное, происшедшее не из молчания, и
Который во всем благоугодил Пославшему Его» (Магн. 8:2). Что
касается связи между Христом и Евангелием, еледует заметить, что
Игнатий наставляет своих читателей быть внимательнымик пророкам
и в особенности к Евангелию, «в котором открыто нам страдание
Христа и совершен но ясно Его воскресение» [115]. Нераздел ьность
Христаи Евангелия подтверждается его фразой о том, что «Бог наш
Иисус Христос является в большой славе, когда Он во Отце» (Рит.
3.2): то есть именно благодаря апостольской проповеди распятого и
воскресшего Христа, воплотившего Писание (или «по Писаниям»,
хотя Игнатий и не употрсбляет этой фразы), мы видим и понимаем
Иисуса Христа больше, нежели благодаря «земному» общению с Ним
или благодаря восприятию традиций, претендующих
на.происхождение от Него. Именно в керигме, то есть в проповеди
распятого и воскресшего Христа, мы можем видеть и понимать. Кто
такой Иисус Христос.
Несмотря на то, что в своем изложении христианской веры Игнатий
не делает ссылок на Писание или сочинения апостолов, образ Христа,
который он предлагает читателям, находится всецело внутри
апостольской модели толкования Писания: Иисус Христос, видимый
во плоти в Евангелии, которое было проповедано апостолами, есть
воплотившееся Писание. Имея в виду данную матрицу его
богословия, а также очевидное знакомство с богословским наследием
Иоанна (или даже с сочинениями последнего), несколько удивляет,
что Игнатий редко называет
Иисуса Христа Словом Божиим. Один из таких фрагментов был
приведен нами выше, однако он заслуживает теперь более
пристального рассмотрения. Согласно Игнатию, пророки жили в
согласии с Иисусом Христом и старались убедить непокорных людей,
что «Един есть Бог, явивший себя чрез Иисуса Христа, Сына Своего,
Который есть слово Его вечное, происшедшее не из молчания, и
Который во всем благоугодил Пославшему Его» (Магн. 8.2). Игнатий
настаивает, что Бог –один и что Его являет Сын, что также
подразумевает, что Сын столь же божественен, как и Отец. Образ
Сына, появляющегося из молчания, обычно трактуется либо в
качестве отголоска гностического восприятия Христа, Который
должен являть неведомого Бога[136], либо как указание на упадок и
отсутствие пророчества в период перед пришествием Христа: Бог,
казалось бы, перестал говорить через пророков, в результате чего
возникло молчание, на смену которому приходит Слово. Однако
более прямое и простое объяснение состоит в том, что если для
Игнатия Иисус Христос – единственный локус откровения Бога,
«неложные уста, которыми истинно глаголал Отец» (Римл. 8.2),
«дверь к Отцу» (Филад.9.1), предвозвещенные пророками, – то все,
что помимо Него, представляет собой молчание. Здесьеще раз
подчеркивается тождество между тем, кто совершает откровение, и
самим откровением: Тот, через Кого говорит Отец, Кто несет нам
Слово Божие, Сам является Словом Божиим.
Параллельно с углублением представления о том, как следует
понимать Иисуса Христа, Игнатий размышляет над двойственным
характером Его происхождения, на который указали послания Павла.
При этом особое внимание уделяется двум аспектам,
обнаруживаемым им во Христе: божеству и телесности, что,
вероятно, в который раз объясняется влиянием, которое оказывал на
Игнатия Иоанн, и, в частности, привычка последнего рассматривать
члены указанной оппозиции в единстве, но без ослабления
напряжения между ними. Один из наиболее поразительных примеров
подобного рассуждения содержится в послании Игнатия к Ефесянам
(7.2):
Есть только один врач, телесный и духовный, рожденный (γεννητός) и
нерожденный (αγέννητος), во плоти Бог,
в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный
(страданию), а потом не подверженный
страданию,
Иисус Христос наш Господь.
Первое противопоставление, вероятно, восходит к Рим. 1:3-4, как и
пятое, в котором говорится о происхождении от Марии (то есть от
Давида) и от Бога (ср.: Смирн. 1, пит. выше). Второе
противопоставление стало причиной большой путаницы спустя
несколько столетий после Игнатия. Если иметь в виду, как данные
термины стали употребляться к этому моменту, слово «рожденный»
(γεννητός) использовалосьдля описания Сына, которое отличает Его
от Отца, Который один является «нерожденным» (αγέννητος); в связи
с чем «нерожденный» более не могло употребляться в смысле
указания на вечность Христа. Феодорит изменил данный текст на «и
от нерожденного» (κάι έξ αγέννητου), разрушив тем самым
терминологический баланс, присутствовавший у Игнатия. Сам
Игнатий, однако, не использует данные термины в их более позднем
техническом тринитарном смысле, но, напротив, подчеркивает, что
Христос принадлежит и временному миру, как рожденный, и сфере
божественного, то есть вечного. Точно так же третье
противопоставление («во плоти Бог» – έν σαρκί γενόμενος θεός) не
следует трактовать в аполлинаристском духе, характерном для IV в.,
где божественное Слово обитает во плоти, занимая место души.
Скорее, Игнатий просто повторяет утверждение о том, что в этом
единственном враче, Иисусе Христе, Бог действительно стал плотью.
Наконец, несмотря на то, что Иисус Христос был подвержен
страданию (παθητός) и всему тому, что относится к тварному бытию, в
том числе изменению и смерти, Он, тем не менее, через смерть явил
истинную жизнь и неподвластность страданию. В приведенном
фрагменте Игнатий наиболее близко подходит к христологии «двух
природ». Очевидно, что он утверждает все ключевые позиции,
которые позже будут приняты Церковью и станут ее учением: один
Господь Иисус Христос, Который одновременно и Бог, и человек, со
всеми свойствами, присущими той и другой природе; причем во всем
этом Игнатий остается верным Евангелию. Он не приуменьшает ни
божественного, ни человеческого во Христе, не разделяет Его на
составные части: для Игнатия Принявший страдание не подвержен
страданию и являет жизнь в смерти.
В других фрагментах посланий Игнатий исследует проблему
страдания Бога, увязывая ее со своим собственным страданием, о
приближении которого ему было известно. Для примера:
Потому не слушайте, когда кто будет говорить вам не об Иисусе
Христе, Который произошел из рода Давидова от Марии, истинно
родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно
был распят и умер, в виду небесных, земных и преисподних, –
Который истинно воскрес из мертвых, так как Его воскресил Отец
Его, Который подобным образом воскресит и нас, верующих во
Иисуса Христа, ибо без Него мы не имеем истинной жизни. А если
иные, как некоторые безбожники, то есть неверующие, говорят, что
Он страдал только призрачно (τό δοκέΐν), – сами они призрак, – то
зачем же я в узах? Зачем я пламенно желаю бороться с зверями?
Зачем я напрасно умираю? Значит, я говорю ложь о Господе? (Тралл.
9-10).
Здесь Игнатий вновь акцентирует центральные аспекты христианской
проповеди о Христе, хотя и обходится без описания Его двойного
происхождения. Особенно интересно здесь то, что исповедание веры
оказывается для него глубоко связанным с моментом свидетельства о
Христе, – для него самого этот момент реализуется чрезвычайно
личностным образом, в приближающейся мученической кончине.
Подобно тому, как сама вера есть вера в смерть и воскресение
Христа, так и принятие этой веры нами является нашей смертью и
воскресением с Ним: а наша вера в Него есть наша жизнь – здесь
вновь ощущается влияние Иоанна. Принятие смерти во свидетельство
о Христе, Который «соделался человеком совершенным» (Смирн. 4.2),
или «новым человеком» (Ефес. 20.1), означает рождение к новой
жизни, восстание, подобное восстанию Самого Христа, к новому
бьггию как полноценному человеку:
Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею
землею (ибо какая польза человеку, если он приобретает целый мир,
а душе своей повредит?). Его ищу, за нас умершего. Его желаю, за
нас воскресшего. Я имею в виду выгоду: простите мне, братья! Не
препятствуйте мне жить, не желайте мне умереть. Хочу быть
Божиим: не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету:
явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть
подражателем страданий Бога моего (той πάθους του θεοϋ μου)
(Римп.6).
Процитированный фрагмент представляет собой одно из наиболее
сильных утверждений, дошедших до нас от ранних веков
христианства, реальности того, что Бог вовлечен вдела мира, вплоть
до страдания и смерти – «теопасхитское» утверждение о том, что
претерпевший страсти есть действительно Бог. Тем не менее
исповедуемый таким образом есть в то же самое время человек, и
Ему можно уподобиться, последовав примеру Христа (ср. Еф. 4:13).
Более того, для Игнатия связь между страстями Христа и Его
именованием «Словом Божиим» распространяется также на
исповедующих Христа через мучения. Игнатий умоляет римлян не
препятствовать его мученичеству, но хранить молчание: «Если вы
будете молчать обо мне, я буду словом Божиим (έγώ λόγος θεού); если
же окажете любовь плоти моей, то я буду лишь воплем» (Римл. 2:1).
Принимая такую же мученическую смерть, как Христос, –
страдающий Бог, – он надеется обрести истинный свет, истинное
человечество под стать Христу и, таким образом, стать словом
Божиим, а не просто нечленораздельным воплем.
^ ГЛАВА 4
ИУСТИН МУЧЕНИК
Говоря об Иустине Мученике, мы попадаем в мир, весьма отличный
от мира Нового Завета и апостольских Отцов, таких как Игнатий. В то
время как писания последних были адресованы «внутрь»
христианских общин, дошедшие до нас сочинения Иустина
направлены «вовне», то есть к язычникам (так это, по крайней мере,
вырисовывается из сто Апологии и «постскриптума» к ней, так
называемой Апологии II, которые были написаны приблизительно в
середине правления императора Антонина Пия (ок. 150-5 гг.)), и к
иудеям (на основании Диалога с Трифоном иудеем, созданного
несколькими годами позже). В первых главах Диалога Иустин
описывает, как он искал истину в разного рода философских школах,
а также свое обращение в христианство под влиянием Писания,
приступить к изучению которого ему посоветовал некий безымянный
старец. В конечном итоге Иустин оказывается в Риме, где, подобно
Маркиону и Валентину, собирает вокруг себя группу учеников, одним
из которых, по сведениям Иринея, был Татиан' [37]. ВМученичестве
Иустина описываются его встречи с учениками, происходившие «над
банями Мартина», где он «сообщал слова истины» всем пожелавшим
прийти [138]. Эти собрания не подменяли катехизаторской
деятельности церкви: в отношении товарищей Иустина утверждается,
что своей верой они были обязаны «доброму исповеданию» своих
родителей [139]. Скорее, собрания, которые проводил Иустин, были
одной из многочисленных христианских групп, существовавших в то
время в Риме, причем в жизни этих групп присутствовали все
аспекты церковной жизни, в том числе литургические [140]. Сам
Иустин оставил намдрагоценное описание того, как в его обшине
совершались крещение и Евхаристия, как еженедельно по
воскресеньям они все вместе собиралисьдля чтения Писания,
слушания учения и наставления предстоятеля (ό προεστώς), для
совершения молитв и Евхаристии, а также для сбора и
распределения пожертвований (Ап. 61, 65-7).
Сочинения Иустина значительно сложнее сочинений Игнатия и по
манере изложения, и по содержанию. В них продолжается традиция
размышлений океригме, с тем отличием, что практически все свои
выводы Иустин пытается строить исходя из Писания, а также
ссылаясь время от времени на сочинения апостолов. Писание
интересует его в первую очередь по причине его пророческого
характера, поскольку оно говорит о Христе: первым проком был
Моисей (Ап. 32.1), но и все Писание в целом может именоваться
кратким словом «пророки». Иустин часто ссылается на «Дух
пророческий», говорящий словами Писания, однако ввиду того, что
все эти пророчества относятся ко Христу, вдохновленные пророки
говорят не сами от себя, «но от движущего их Слова Божия» (Ап.
36.1). Во время написания Апологии Иустин, вероятнее всего, был
знаком с какимнибудь из изводов христианской книги свидетельств –
сборника фрагментов Писания, в котором фрагменты
сопровождались экзегезой того, каким образом они указывают на
Христа, а возможно, даже были расположены в соответствии с
основной структурой керигмы [141]. С другой стороны, работая над
Диалогом, Иустин все же, повидимому, обращался к полному тексту
Писания, поскольку ссылки на те же самые фрагменты Писания
приводятся им в более полном виде и в переводе Септуагинты.
Временами унаследованная им экзегеза не вполне согласуется с этим
более длинным текстом, который в действительности мог
представлять собой продукт гебраизированной редакции, как на это
часто жаловался Иустин[142].
В свою очередь, и сам Иустин в двух упомянутых произведениях
использует Писание неодинаково. Поскольку Апология была
написана им для язычников, в этой работе он не апеллирует к
Писанию как к авторитетному источнику истины, но приводит вместо
этого свидетельства из Писания, пытаясь доказать, что Евангелие, в
которое верят христиане, – это не некое недавнее изобретение, а
серия древних пророчеств, которые были зафиксированы в публично
доступных книгах и теперь исполнились во Христе:
Чтобы кто не возразил нам: что препятствует и называемому у нас
Христу быть человеком из человеков, который творил то, что мы
называем чудесами, посредством магии и потому показался Сыном
Божиим? – я теперь представлю доказательство, не полагаясь на
словесные уверения, но по необходимости убеждаясь теми, которые
предсказывали будущее прежде, нежели оно сбылось, так как мы
собственными глазами видим, что события совершились и
совершаются, как было предсказано; такое доказательство, думаю, и
вам покажется величайшим и истиннейшим (Ап. 30).
Такой метод использования Писания часто называется
«доказательством из пророчеств», то есть речь шла о попытке
соотнести утверждаемое о Христе с древними текстами. Привлекая
на помощь последние, христиане пытались отвести обвинения в
новизне своей проповеди за счет придания ей ореола древности и
присваивания данного корпуса литературы путем своего рода
«культурного захвата» [143]. И все же сам Иустин не рассматривал
обращение к Писанию как обычную попытку сиюминутного создания
точек соприкосновения между последним и событиями жизни
Христа, ибо для него именно Писание служит первоисточником
знания о самих этих событиях. Так, объяснив, кем были пророки и
каким образом их писания оказались переведенными на греческий
язык, Иустин переходит к изложению того, что же именно
предсказывали пророки:
В этих-το книгах пророков находим мы предсказания о том, что
Иисус, наш Христос, придет, родится от Девы и возрастет, будет
исцелять всякую болезнь и всякую немощь и воскрешать мертвых,
подвергнется зависти, и будет не узнан, и распят, умрет и
воскреснет, и на небеса взойдет, и будет, и наречется Сыном
Божиим; также, что некоторые будут Им посланы проповедать это во
весь род человеческий, и более из язычников уверуют в Него (Ап.
31.7).
Утверждение о том, что все эти моменты содержатся в Писании,
может показаться натянутым, а доказательство из пророчества,
соответственно, не более чем ходом, примененным ad hoc–исходя из
канонов, принятых в современной герменевтике, толкование текста
Писания, которое мы только что видели, неправдоподобно. Однако
речь здесь идет именно о толкованииХриста, толкования, которое
достигается путем экзегезы Писания в перспективе керигмы. И
менно керигма задает базовую структуру изложенной у Иустина
последовательности событий, центральное место в которой (если
обратить внимание на порядок слов в оригинале) занимает распятый
Иисус Христос [144]. Что же касается материала для подобного
возвещения, то его попрежнему предоставляет Писание,
прочитанное из перспективы Христа. Это означает, что, с одной
стороны, апостольская проповедь является одновременно и ключом к
пониманию пророческого характера Писания и подтверждением
исполнения его пророчеств, хотя, с другой стороны, само Писание
выступает в качестве матрицы, внутри которой христианское
откровение приобретает свой внешний вид. То, что Иустин, по его
утверждению, находит в Писании, представляет собой весть о Христе,
уже пересказанную на понятийном языке Писания. Несомненно,
здесь мы имеем дело со своего рода замкнутым крутом, однако круг
замыкается именно на библейском Христе, представленном «по
Писаниям», и в рамках этого описания Христос Сам открываетдля
нас, каким именно образом Писание говорит о Нем [145]. Значение и
содержание Писания здесь – не человеческий конструкт, а Сам
Христос. Слово Божие, скрыто присутствующее в записанном тексте
Писания, но и явно проповедуемое в Евангелии в виде Благой Вести
Бога.
Слабость такого подхода становится очевидной при прочтении
Диалога с Трифоном иудеем. Составив этот текст в форме разговора с
иудеем, Иустин не испытывает необходимости отстаивать саму
правомерность обращения к Писанию, однако вместо этого для него
возникает проблема демонстрации того, что Писание в самом деле
говорито Христе, – например, что фрагмент Исайи. 7:10-17, имеет
отношение ко Христу, а не к Езекии (Диал. 77). Поскольку Иустин и
Трифон используют Писание двумя различными способами: первый –
чтобы через посредство Писания «познать Христа Божия» (Диал. 8.2),
в то время как второй для того, чтобы установить изначальное (или,
по крайней мере, традиционное для того времени) понимание,
подтверждающее, в свою очередь, истинность религии предков[16]'׳, -
прийти к какомулибо решению в этом споре невозможно. Предмет
спора здесь составляет предпосылка, или гипотеза, на основании
которой постигается значение данных текстов, а она, как и все
первоприниипы, в конечном счете основывается на вере. Хотя
Иустину не удается сформулировать данный принцип с той же
философской утонченностью, какую мы находим у Климента
Александрийского [147], его утверждение сводится к тому же самому,
то есть к тому, что он сам называет «благодатью разумения».
Подобно тому, как Павел провозглашал (в 1 Кор. 12:3), что «никто не
может назвать И исуса Господом» (то есть присвоить Христу И мя
Божие, которое было открыто при посредстве Писания) «как только
Духом Святым», – гак и Иустин указывает, что для истолкования
Писания как говорящего о Христе требуется «благодать разумения»
(ср. Диал. 92:1; 119.1)[148]. Писания стали понятными только тогда,
когда Христос после Своего воскресения научил апостолов
исследовать пророчества (Ап. 50:12) и устранил «неясность»
последних; когда Он убедил апостолов, что пророки действительно
прямо говорили о Его страданиях и что Он – Господь (Диал.76.6).
Таким образом. Сам Христос «открыл нам все. что мы по благодати
Его узнали и из Писаний»: что Он – первородный Сын Божий и
потомок патриархов, что Он родился от Девы, что Он был человеком
без вида и славы и что Его подвергли страданиям (Диал. 100.2).
Подобная «благодать разумения», другими еловами, представляет
собой ничто иное, как апостольский способ аргументации из
Писания: именно ее сообщает Христос Писания и ее проповедуют
апостолы. Но, хотя она и получена в результате откровения,
благодать становится отправной точкой аргументации, которую сам
Иустин, по всей видимости, считает ясной и убедительной; в связи с
этим его слова о том, что благодати можно научить: «мне дана от
Бога только благодать разуметь Его Писания: этой благодати я
убеждаю всех сделаться причастниками свободно и обильно», то есть
последовав за предложенным им толкованием (Диал.
58.1). Поэтому, когда Трифон отказывается принять убедительность
апостольской аргументации, это происходит либо в силу его
жестокосердия (напр., Диал. 53.2), либо из-за страха смертной казни,
которой христиане подвергались в то время (Диал. 44.1). Более того,
продолжая упорствовать в своем непонимании христианского
толкования Писания. Трифон тем самым утрачивает само право на
Писание, ибо, как говорит Иустин, данное понимание «находится в
ваших писаниях, или лучше, не в ваших, а в наших, потому что мы
веруем им, а вы читаете и не понимаете смысла их (τόν νουν)»(Диал.
29.2). Еще одним следствием позиции, которую занимает Иустин в
отношении толкования Писания, является то, что он представляет
Писание в виде единого гомогенного целого. Более того, учитывая
исключительностьоткровения Бога во Христе, о Котором
свидетельствует Писание во всей его полноте, для Иуетина
совершенно невозможно, чтобы в Писании имелись какиелибо
противоречия или чтобы какаялибо его часть не имела значения. В
связи с этим, когда Трифон указывает на очевидное противоречие,
содержащееся в его аргументах, Иустин запросто признает свою
неспособность полностью понять текст, о котором идет речь [149].
Помимотого, что Писание говорит о Христе, согласно Иустину,
онотакже предсказало, что Евангелие о Христе будет возвещено
апостолами (ср. Ап.31.7, цитир. выше). Авторитет апостолов тем
самым основывается у него на авторитете Писания, и они в свою
очередь становятся персонажами Писания. Согласно Иустину, слова
Исайи (2:3-4): «От Сиона выйдет закон, и слово Господне – из
Иерусалима», – относятся к двенадцати необразованным мужам,
которые «силою Бога возвестили всему роду человеческому, что
посланы Христом научить всех слову Божию» (Ап. 39.3). Слово Божие
распространяется из Иерусалима через апостолов: вслед за Христом
и по Его велению они становятся источником и орудием
христианской веры в мире, и именно через них голос славы и
благодати Божией наполняет землю. Более значительным
представляется то, что апостолы – это не только представители и
посланники Христа, но что Сам Христос говорит через них:
Но наш Иисус Христос, будучи распят и умерев, воскрес и воцарился,
восшедши на небо; и то, что Им возвещено через апостолов во всех
народах (καί έπί τοίς παρ' αύτοΰ διά των αποστόλων έν τοίς πάσιν
έθνεσι κηρυχθεισιν), служит радостью для ожидающих обещанного от
Него нетления (Ап. 42.4).
Подобно тому, как Слово Божие или Дух Божий говорили через
Моисея и пророков в Писании, Христос теперь проповедует через
апостолов. Эту параллель Иустин выстраивает в Диалоге:
Ибо как он [Авраам) поверил голосу Божию и это вменилось ему в
праведность, так и мы, поверив голосу Божию, говорившему вновь
через апостолов и предвозвещенному нам пророками, отреклись,
даже до смерти, от всего в мире [150].
Апостолы могут быть поставлены рядом с пророками как глашатаи
Божии, потому что они передавали ту же самую весть, подтверждая
то, что было возвещено прежде.
Иустин не только более глубоким образом осмысливает роль
апостолов, но и намного более часто и конкретным образом
обращается к их писаниям, в особенности к текстам синоптиков [151].
Сочинения последних он называет «воспоминаниями» (τά
απομνημονεύματα), то есть использует то же обозначение, что
Ксенофонт (Воспоминания о Сократе; Иустин цитирует этот текст в
2Ап. 11) и Филострат (собранные этим автором «воспоминания» из
жизни софистов состояли главным образом из изречений последних).
ВДиалоге Трифон упоминает о «гак называемом Евангелии», которое
содержит христианские наставления (Диал.
10.2), в то время как сам Иустин ссылается на «Евангелие», в
котором записаны (γέγραπται, Диал. 100.1) слова Христа, и более
того, замечает, что составленные апостолами «воспоминания» также
называются «Евангелиями», причем здесь он впервые употребляет
это слово во множественном числе (Ап.66.3). Кроме того, Иустин
упоминает, что «воспоминания апостолов или писания пророков»
читались во время воскресного богослужения в его общине[152] и что
именно в этих воспоминаниях апостолы передали предписания
относительно совершения Евхаристии (Ап. 66.3). Ассоциации,
порождаемые словом «воспоминания», которое любил употреблять
Иустин, иногда приводят к заключению, что для него Евангелия были
ценны прежде всего как документальные свидетельства,
подтверждающие историческую достоверность рассказов о Христе
[153]
. Однако аргументация Иустина разворачивается в
противоположном направлении: доказательства из книг пророков
приводятся им именно для того, чтобы не приходилось полагаться на
одни голые утверждения [154]. Иустина не интересует историчность
апостольских сказаний о Христе, а, скорее, преемственность
апостольской проповеди по отношению к Писанию. При этом,
несмотря на то, что проповедь теперь можно воестановить по
дошедшим от апостолов письменным источникам, сами источники
остаются корпусом текстов, который отличается от Писания, пусть
даже они и связаны с Писанием самым глубинным образом. Чтобы
показать, что содержание Писания и апостольских текстов
одинаково, Иустин ссылается на слова Христа, записанные в
воспоминаниях апостолов, одновременно соотнося это с тем, что
благодать Христа позволяет понять из Писания Диал. 100.1-2). Он
признает, что воспоминания не обязательно все вышли изпод пера
апостолов, утверждая, однако, что тексты неапостольского
происхождения были составлены их последователями (Диал. 103.8).
Авторитет принадлежит именно апостолам, в связи с чем все,
имеющее отношение к христианскому откровению, должно
проистекать только от них [155].
Хотя основной задачей Иуетина (по крайней мере, в Диалоге)
является установление связи между Писанием и апостольской
проповедью, он также уделяет внимание самому содержанию
проповеди о Христе и пытается определить существенные
составляющие христианской веры. Например, вДиалоге (46-7) Трифон
спрашивает у Иуетина, спасется ли человек, желающий исполнять
данные Моисеем заповеди и одновременно верующий в распятого
Иисуса, признающий Его Христом Божиим, получившим право судить
всех людей, Царству Которого не будет конца. После тщетных
попыток убедить Трифона в бесполезности соблюдения заповедей
Моисея, Иустин допускает, что верующий в Иисуса, подобно тому,
как это описал Трифон, будет спасен, если только он не будет
настаивать на исполнении заповедей Моисея другими людьми. Таким
образом, справедливо заключить, что перечисленные в этом
фрагменте моменты составляют для Иуетина сущность христианской
веры, по крайней мере, в данном конкретном контексте. Вопрос о
ключевых положениях христианской веры вновь возникает по ходу
Диалога, когда Иустин, возражая людям, которые «только носят
название христиан», утверждает веру в Бога Авраама, Исаака и
Иакова и воскресение мертвых (в отличие от представления о
посмертном переселении душ на небо). Он также допускает
сушествование таких христиан, которые, как он выражается,
обладают «чистым и благочестивым настроением», то есть
принимают только что названные аспекты веры, не разделяя, однако,
учения о тысячелетнем царстве, которое принято «другими
здравомыслящими во всем христианами» (όρθογνώμονες κατά πάντα
Χριστιανοί, Диал. 80). По всей видимости, в сознании Иуетина
наличествует представление о некоем стандарте, или каноне
христианской веры, которого необходимо держаться, пусть даже
внутри последнего существуют некоторые допустимые вариации.
Однако он все же не делает никаких попыток четко определить
данный канон, как он не пытается соотнести его с Писанием или с
Евангелием [156].
Принимая во внимание, насколько важна для Иуетина аргументация
от П исания, неудивительно, что Христос в его сочинениях предстает
прежде всего как учитель (διδάσκαλος) [157], Который позволяет
раскрыть смысл Писания как говорящего о Нем. Иисус Христос – это
«учитель и толкователь (έξηγητής) пророчеств», которые оставались
непонятными до Его появления (Ап. 32.2). Подобно Новому Завету и
сочинениям апостольских Отцов, учение Христа включает как
богословские, так и нравственные составляющие: «Если же найдутся
такие, которые не так живут, как учил Христос (ιός έδίδαξε), то да
будет известно о них, что они – не христиане, хотя и произносят
языком учение (διδάγματα)» (Ап. 16.8). Об этом учении, как и о
Самом Христе, стало известным через апостолов: люди всех племен
«уверовали в Него посредством учения апостолов» и оставили свой
прежний образ жизни, обратившись к Христу (Ап. 53.3).
Помимо этого учительного смысла деятельности Христа, Иустин
нередко останавливается на отношениях между Ними Отцом и на
роли Христа в исполнении полноты Божия замысла. Подобно
Игнатию, такие фрагменты зачастую приобретают форму кратких
исповеданий веры [158]. Для примера:
...мы говорим, что Слово, Которое является первородным (γέννημα)
Божиим, Иисус Христос, Учитель наш, родился без смешения, и что
он был распят, умер и, воскреснув, вознесся на небо... (Ап.21.1).
Акцент в этом предложении попрежнему падает на Слово Божие,
Иисуса Христа; именно Он – перворожденный от Бога, родившийся
без соединения полов, распятый, умерший, воскресший и
вознесшийся на небо. Тем не менее, в соответствии с тем, как Иустин
строит данное предложение, первым у него упоминается Слово,
Которое, таким образом, предстает в виде порождения Бога. Этот
почти незаметный сдвиг в фокусе подразумевает более глубокие
изменения, о которых пойдет речь ниже. Хотя Иустин известен своим
«богословием Логоса», в его текстах используются также многие
другие библейские термины для описания Христа, которые нередко
присутствуют у него все вместе:
Под именем Духа и Силы от Бога должно не иное что разуметь, как
Слово, Которое есть и перворожденный у Бога, как указал
вышесказанный пророк Моисей; и этот Дух, сошедший на Деву и
осенивший ее, не совокуплением, но силою сделал ее имеющей во
чреве. (Ап. 33.6).
То есть Слово, Которое само есть Дух и Сила Божия, созидает Себе
тело во чреве Девы силою Бога [159]. Начиная с Иустина термин
«Слово», безусловно, становится центральным термином,
применяющимся для описания Иисуса Христа, но он ни в коем случае
не является исключительным; Иустин использует его наряду с
другими терминами, которые вскоре выйдут из богословского
употребления, – такими как «Ангел» и «Апостол» (Ап. 63.5). Более
того, для Иустина все еще возможно проводить различие между
Христом и Словом Божиим. Например, описывая литургию своей
общины, он следующим образом объясняет, почему Евхаристия не
является открытой для всех:
Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или
обыкновенное питье: но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим
воплотился (διά λόγου θεού σαρκοποιηθείς Ίησοης
Χριστός) и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же
образом пиша эта, над которой совершено благодарение через
молитву слова Его (τήν δΓ ευχής λόγου τοΰ παρ' αύτορ εύχαριστηθεΐσαν
τροφήν) и от которой через уподобление получает питание наша
кровь и плоть, есть – как мы научены – плоть и кровь Того
воплотившегося Иисуса. (Ап. 66.2).
Христос сделался плотью и кровью посредством Божия Слова, и
посредствомЕго же слова мы претворяем хлеб и вино в Его плоть и
кровь. Подвижность данных терминов, все еще наблюдаемая на
примере Иустина, выражается в том числе в том, как он излагает
заповеди, которым учил Христос: «Поучения Его были кратки и не
обширны (βραχείς δέ καί σύντομοι λογοί): ибо Он был не софист, но
слово Его (ό λόγος αύτου) было сила Божия» (Ап. 14.5). То есть
краткие слова Христа, слово Того. Кто Сам является Словом Божиим,
– представляют собой Силу Божию. В результате устанавливается
тождество между Тем, Кто несет откровение, и самим Откровением,
между Христом «по Писаниям» и Писанием в интерпретации Христа –
эти понятия невозможно разъединить, поскольку нельзя ограничить
роль «Слова Божия», сказав, что оно является исключительно
агентом сообщения либо исключительно самим сообщением (either
the medium or the message exclusively).
Более частое употребление термина «Слово», без сомнения,
соответствует апологетической задаче Иустина, которая
определяется им как диалоге языческими философами. Но и сам
диалог в свою очередь сказывается набогословии Иустина, причем по
нескольким направлениям. Первая модификация проистекает из
факта применения им «среднеплатонических» представлений.
обрашаясь к которым, он пытается описать отношение между
Христом и Отцом [160]. И хотя Иустин говорит в традиционной манере
об Иисусе Христе как о Слове, открывающем Бога, он разделяет
общую философскую предпосылку той эпохи, в соответствии с
которой Бог, будучи всецело трансцендентным по отношению к
тварной реальности, нуждается в посреднике – в Слове, которое
действует за Него и выступает в виде промежугочного звена между
Ним и творением. Так, комментируя богоявление, описанное в гл. 3
Книги Исхода, Иустин утверждает:
...Бог, Который говорил Моисею, что Он Бог Авраама и Бог Исаака и
Бог Иакова, будет не Творец вселенной, но Тот, Который, как было
показано, явился Аврааму и Иакову, Который служит воле Творца
всего... Поэтому, хотя бы было там двое, как вы говорите, и ангел, и
Бог, однако никто, и даже и малоосмысленный, не осмелится
утверждать, что Творец всего и Отец оставил все, сущее выше неба, и
явился на малой частице земли Диал. 60.2).
Схожим образом в отношении слов Писания, что «Господь говорил с
Моисеем» и «Бог укрыл Ноя в ковчеге», Иустин утверждает:
Вы не должны думать, что Сам нерожденный Бог сходил или
восходил с какогонибудь места. Ибо неизреченный Отец и Господь
всего не приходит в какоелибо место, не ходит, не спит и не встает,
но пребывает в Своей стране, какая бы она ни была, ясно видит и
слышит, не глазами или ушами, но неизглаголанною силою, так что
Он все видит и все знает и никто из нас не скрыт от Него; Он
недвижим и не объемлем какимлибо местом, ни даже целым миром,
потому что Он существовал прежде, нежели сотворен мир(Диал.
127.1-2).
Итак, не Сам Бог являлся и говорил с людьми, но Слово Божие
совершало все это: «есть и упоминается, кроме Творца всего, другой
Бог и Господь (έστί καί λέγεται θεός καί κύριος έτερος ύπό τόν ποιητήν
των όλων), Который называется и ангелом, потому что он возвещает
людям то, что угодно Творцу всего, выше Которого нет другого Бога»
(Диал. 56.4). Тот, Кто являлся Аврааму, Иакову и Моисею и Кто также
зовется Богом, отличен от Творца всего сущего «по числу, а не по
воле», потому что Он совершал только то, чего желал Творец мира
(Диал. 56.11). Здесь Иустин, очевидно, пытается найти способ, чтобы
объяснить, каким образом Иисус Христос является Богом, несмотря
на Свое отличие от Бога и Творца всяческих, Своего Отца. Однако
предлагаемый им способ, исходящий из абсолютной
трансцендентности неописуемого Отца, которая исключает для Него
всякую возможность быть видимым на земле, в действительности
подрывает само откровение Бога во Христе. Божественность Иисуса
Христа, «другого Бога», уже не та же, что божественность Отца: она
имеет подчиненный характер, это некая меньшая божественность, в
связи с чем проводник такой теофании более не в состоянии с
полным правом заявлять, подобно Христу, что «видевший Меня видел
Отца» (Ин. 14:9). Данная позиция позже будет подвергнута критике
Иринеем, хотя последний и не упоминал никого конкретно по имени.
Для Иринея указанный подход означает разрушение
домостроительства Божия во Христе: если Сам Бог не сделался
видимым в Своем Сыне, в Иисусе Христе, то между Богом и
человеком не было установлено никакого реального общения. Спустя
пару столетий спор как раз по этому поводу разгорится между
православными и арианами. Ариане будут пытаться оградить
трансцендентность Бога за счет введения посреднической
деятельности Сына как низшего божества, в то время как Афанасий
предложит формулу единосущия
Сына с Отиом («истинный Бог от истинного Бога»), что и станет
гарантией того, что Бог действительно вошел в контакт с миром
настолько тесно, насколько это было возможно [161].
Вторая модификация, вводимая Иустином, является продолжением
первой. Ее можно заметить, если принять за основу только что
прозвучавшую критику Иринея в отношении тенденции к
суборционализму. Согласно Иринею, сказанное пророками о видении
Бога на земле говорилось пророчески и не означает, «как полагают
некоторые, что раз Отец всего сущего невидим, значит Тот, Кого
видели пророки, был другим | Богом[. Однако это и заявляют те, кто
крайне невежествен в отношении пророчеств» [162]. И для Иринея, и
для Иуетина именно Слово открывает Бога. Однако в понимании
первого пророки ожидали Христа в качестве единственного локуса
откровения, в то время как для второго откровение Бога в
воплощенном Слове является последним, пусть даже и самым
важным, в ряду других самостоятельных откровений. Комментируя
все тот же текст Исх. 3, но на этот раз при помощи Мф. 11:27, Иустин
обращается к Императору со следующими словами:
А слова эти сказаны в доказательство, что Иисус Христос есть Сын
Божий и апостол, Который прежде был Слою (πρότερον λόγος ών) и
являлся иногда в виде огня, иногда в образе бесплотных, ныне же
(νυν δε), по юле Божией, сделавшись для рода человеческого
человеком, претерпел и страдания, каким Он по действию демонов
был подвергнут безумными иудеями....И так иудеи, которые всегда
думали, что всегда Отец всего говорил с Моисеем, тогда как
говоривший с ним есть Сын Божий, Который назывался и ангелом, и
апостолом, справедливо обличаются пророчественным Духом и
Самим Христом, что они не знают ни Отца, ни Сына. Ибо те, которые
Сына называют Отцом, ясно показывают, что они и Отца не знают, и
не знают также, что у Отца всего есть Сын, Который, будучи
первородное Слою Божие, есть также Бог. И Он прежде (πρότερον) в
виде огня и в бестелесном образе являлся Моисею и другим
пророкам, а ныне (νυν δε), ю времена владычества вашего, как я
выше сказал, сделался человеком от Девы, по юле Отца, для спасения
верующих Ему, и претерпел уничижение и страдание, чтобы смертью
и воскресением Сюим победить смерть (Ап. 63.4-16).
Иными словами, существует целый ряд событий, составляющих
откровение, в течение которых Слово являло Себя в различных
формах, но, несмотря на это, заключительное событие данной
последовательности несколько отличается от других, поскольку
Слово не просто являет Себя человеком, но становитсячеловеком.
Хотя Иустин уточняет, что Слово стало человеком, чтобы победить
смерть Своей собственной смертью, данный аспект миссии Христа,
похоже, не является для него настолько центральным, как для
Игнатия и Иринея: для Иустина Христос – это прежде всего Учитель.
Последовательность событий, в том виде, как ее приводит Иустин, не
является завершенной: некоторые пророчества Писания он относит к
«первому пришествию» Христа: в них о Христе проповедуется, что Он
придет без славы, останется незамечен и будет подвластен смерти;
другие пророчества составляют, по его мнению, содержание «второго
пришествия» (термин введен Иустином), когда Христос явится в
славе (ср. Диал. 14:8). В свете продолжающегося откровения, которое
осуществляется Словом, Писание предстает здесь в виде тщательно
спланированного домостройтельства Бога, у которого есть начало,
цель и конец. Однако изменение перспективы, вызванное такого рода
попыткой изобразить биографию Слова, в конечном итоге и с
некоторой долей иронии (если иметь в виду причину появления
субординаиионизма, о которой было упомянуто выше) делает этого
второго Бога обитателем вселенной: подчиняет Его ее временным
характеристикам и подвергает Его изменениям, то
естьтемпорализует Бога [163]. В дошедших до нас сочинениях сам
Иустин не оставил последовательного изложения этой истории – это
было впервые сделано за него Иринеем в Доказательстве
апостольской проповеди. Однако Ириней при всем этом вернулся на
позиции Нового Завета и Игнатия, поместив в фокус своего
изложения центральность и уникальность откровения Бога во Христе
как в Том, Кого ожидали пророки и о Ком были написаны Писания.
Третья, не менее богатая своими последствиями идея, в которой
чувствуется влияние философской мысли того времени и которая
нашла свое отражение в размышлениях Иустина по поводу Слова
Божия, – это идея «семенного Слова» (λόγος σπερματικός) и «семени
Слова» (σπέρμα τοΰ λόγου), которое сеется в результате деятельности
последнего [164]. В качестве контекста, повлиявшего на появление
данного аспекта богословия Слова, обычно полагают эклектическую
смесь стоицизма, среднего платонизма и идей Филона. При этом
формулируется данная идея чаше всего следующим образом:
будучиLogos spennatikos, Сын Божий внедряет в людей некое семя,
sperma, которое и дает им возможность мыслить и жить в согласии с
Логосом. Семя Слова сообщает людям некое смутное восприятие
«цельного Слова», то есть Сына, в связи с чем некоторые люди –
например, Платон и Сократ – обладали, благодаря своему
естественному устроению (то есть по причине обладания семенем
Логоса), способностью жить и мыслить, или, по крайней мере,
пытаться жить и мыслить, в согласии со Словом. Поэтому Иустин
может говорить о том, что Христа «отчасти познал и Сократ, – ибо Он
был и есть Слово, Которое находится во всем» (2 Ап. 10:8), и что «все,
что сказано кемнибудь хорошего, принадлежит нам,
христианам....Все те писатели посредством врожденного семени
Слова могли видеть истину, но неотчетливо» (2 Ап. 13:4-5).
По мере того, как христиане начали обращать свою проповедь вовне,
в окружавший их мир, данная позиция стала приобретать явную
апологетическую ценность. На идею «семенного Логоса» часто
ссылались, причем одни делали это в попытке сохранить место для
некоего незамутненного «естественного богословия», в то время как
другие -чтобы доказать тезис о том, что ранние христианские
мыслители исказили чистоту евангельской проповеди, привнеся в нее
элементы языческой мысли. Однако это не последнее слово самого
Иустина по данному вопросу. В Апологии (59-60) Иустин утверждает,
наряду со сказанным выше, что греческие философы читали Моисея
и заимствовали из него. Несмотря на данное указание, мало кто
пытался совместить «богословие Логоса» с позицией, заявленной
вДиалоге с Трифоном иудеем, где внимание Иустина почти
исключительно посвящено толкованию Писания. Создается
впечатление, что есть два Иустина: Иустин Апологии, обращающийся
к греческому миру и готовый видеть в греческой философии способ
частичного познания Бога, и ИустинДиалога, проникнутый
исключительно еврейским образом мысли и доказывающий на основе
Писания, что Христос действительно Сын Божий[165].
Сам Иустин, однако, нигде не говорит о наличии в своих сочинениях
двух несопоставимых теорий познания Бога: одной – через
естественное родство со Словом, и другой – через посредство
Писания. В действительности он напрямую отрицает возможность
существования естественного родства между Богом и человеком,
которое делало бы возможным некое интуитивное познание Бога. В
прологе к Диалогу Иустин рисует образ старца. который обращает
молодого философа к древним библейским истинам христианства.
Отсргнув свой прежний платонизм, философ заканчивает
признанием, по которому разум не обладает врожденным
естественным общением или сродством с Богом, посредством
которого можно было бы прийти кбогопознанию Диал. 4) [166].
Альтернативное понимание того, в каком смысле все люди обладают
семенем истины или Слова, дается Иустином вАпологии, где мы
обнаруживаем следующий фрагмент, совмешающий две упомянутые
и, на первый взгляд, несовместимые эпистемологии:
...во всем, что философы и поэты говорили о бессмертии души, о
наказаниях по смерти, о созерцании небесном и о подобных
предметах, пользовались они от пророков (παρά των προφητών τάς
άφορμάς λαβόντες), – через них могли они понять и излагать это.
Поэтому у всех, кажется, есть семена истины (Ап. 44.9-10).
Если семена истины присутствуют в людях, то это – результат их
знакомства с Писанием. И какие бы мнения ни существовали по
поводу самой возможности чтения древнееврейских Писаний
греческими философами и поэтами (а именно такой аргумент
приводился апологетами с целью показать, что Моисей был древнее и
потому обладал большим авторитетом, нежели все философы, вместе
взятые [167]), данный момент достаточно важен для Иуетина: именно
он становится принципом, на основании которого Иустин объясняет
наличие разного рода истин в сочинениях последних. Комментируя
этот фрагмент, Эдвардс пишет следующее:
По крайней мере, в этом месте теория сеяния является также
теорией плагиата: мы имеем дело не с двумя соперничающими
теориями, но с дополняющими друг друга утверждениями одной и
той же. Не природа, а написанный текст является двигателем
!умственного] просвещения, так что смысл данной метафоры лежит
не столько в какихлибо скрытых свойствах семени, сколько в самом
факте его сеяния [168].
Эдвардс имеет в виду характерное использование метафоры семени в
платонической и стоической философии, важность семени для
которых связана с возможностью его созревания: предвосхищая
растение, семя уже содержит в скрытом виде то, чем оно станет [169].
Однако этимология словаsperma (однокоренного глаголу speiro,
«сеять») связывает его не столько с ростом того, что в нем уже есть,
сколько с самой деятельностью сеяния, то есть с сообщением того,
чего раньше не было, о чем, собственно, и говорил Иустин.
В связи с этим для Иуетина, если люди и обладают «семенем Слова»,
то это не является неким естественным свойством, заложенным в
них. Скорее, уточняет он, через встречу со словами, которые
сообщают Logos spermatikos, Христа, некоторые из людей обрели
семена. Таким образом, когда Иустин доказывает на основании
Писания, что Христос есть Сын Божий, то Слово, на Которое он
ссылается и к Которому он апеллирует (а это Слово чаще всего
выступает в виде подлежащего при глаголе, поскольку Оно
адресовано к пророку или через пророка, указывая на авторство
произносимых пророком слов), всегда подразумевает конкретный
текст [170]. В конечном итоге именно Слово является автором
написанного, равно как и значением написанного в случае, если
последнее истолковано верно. Чтобы адекватно понять, как Иустину
удается в одно и то же время оперировать двумя различными
значениями термина logos, требуется, как это замечает Эдвардс,
«объединить изначальный акт божественного обращения к человеку
с его материальным выражением и с тем смыслом, который
вкладывает в текст проницательный комментарий»[171]. Такая
неотделимость божественного Слова от слов Писания и от их
значения – не просто софистическая игра в случайную
неоднозначность, а нечто, имеющее отношение к самой сущности
божественного откровения, как мы не раз наблюдали выше:
нерасторжимое единство Того, Кто несет в Себе откровение, и самого
откровения.
Следует отметить еще один, заключительный, момент того, как
Иустин использует термин «Слово». В Апологии //он утверждает, что
преимущество христианства заключается в том, что христиане
получили знание Слова во всей Его полноте, а не отчасти, как это
было у философов. По ходу своего рассуждения Иустин говорит
следующие слова о Христе:
Итак, наше учение, очевидно, возвышеннее всякого человеческого
учения, потому что явившийся ради нас Христос по всему был Слово,
и по телу, и по разуму, и по душе (διά τό τό λογικόν τό όλον τόν
φανέντα δι’ ήμας Χριστόν γεγονέναι, και σώμα καί λόγον καί ψυχήν). И
все, что когдалибо сказано и открыто хорошего философами и
законодателями, все это ими сделано соответственно мере
нахождения ими и созерцания Слова, а так как они не знали всех
свойств Слова, Которое есть Христос, то часто они говорили даже
противное самим себе (2Ап. 10.1-3).
Субъект предложения, «Слово», стоит здесь в среднем роде, что,
вероятно, следует понимать по аналогии с некоей присущей космосу
разумности, как у стоиков, или как вселенскую душу Платона, хотя в
свете того, что мы видели в отношении богословия Иустина в целом,
речь может также идти о Писании, которое сообщает о Слове Бога и
которое нашло Свое воплощение во Христе, как Его проповедовали
апостолы. И у стоиков, и у Платона эта разумность, или вселенская
душа, есть то, что поддерживает и упорядочивает космос; у Иустина
же речь идет об их тождественности Христу, Который явился ради
нас «и по телу, и по разуму (λόγος), и по душе». Данная фраза,
приводящая на память традиционные трехчастные
антропологические формулы, скорее акцентирует полноту бытия
Христа, нежели представляет собой попытку анализа отношения, в
котором находится Слово с телом, разумом и душой, которые Христос
взял на Себя или которыми Он стал. В случае Иустина речь еще не
идет об анализе бытия Христа, однако обширное привлечение
терминологии «Слова», особенности толкования Писания и попытки
вывести из последнего некую историю откровения, – продвигают нас
еще на один шаг в этом направлении.
^ Глава 5
ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ
В первой половине II в. в Риме переплелись всевозможные
богословекие пути, представленные именами Игнатия, Маркиона,
Валентина, Иустина и многих других, но распугать образовавшийся
клубок было суждено не в Риме, а намного дальше к западу, вЛионе.
Именно из этого города вскоре после жестоких гонений, которые
имели место в Лионе и в Вене в 177 г., Ириней был направлен в Рим в
качестве посланника мира между церквями. В его миссию входила
передача послания, адресованного лионскими мучениками римскому
епископу Елевферию; в послании они призывали последнего
совершить акт примирения с асийскими и фригийскими христианами
[172]
. Сам Ириней был родом с Востока, причем в юности ему удалось
видеть и слышать Поликарпа Смирнского – легендарного человека,
который получил знание о Господе «от видевших Слово жизни», и
сообщил это «согласно с Писанием» [173]. Именно на таком основании
– Евангелии «по Писаниям», которое было от начала передано
апостолами, -зиждилось то, как Ириней понимал возможность
единства между течениями раннего христианства, само разнообразие
которых не могло не приводить в замешательство. И именно такое
основание оказалось впоследствии принятым за основу в среде
нормативного христианства, по крайней мере, в течение периода,
рассматриваемого в данной серии книг. Эго событие явилось
важнейшей сменой вех в истории раннего христианства. С тех пор
христиане стали придерживаться общего корпуса Писания,
включившего в себя также апостольские сочинения (хотя его полный
состав еще долгое время будет оставаться предметом обсуждения), а
также канона истины, апостольского предания и преемства – то есть
всего комплекса тем, которые были подробно рассмотрены нами в
главе 1. Так образовалось то самое единство веры, которое отделило
«Великую Церковь» от разнообразных сект. Однако единство веры, на
котором основывалась «Великая Церковь», сочеталось не только с
терпимостью по отношению к разнообразным практикам, но и видело
в последних повод для торжества. Для примера, когда Ириней
вмешался в спор по поводу празднования христианской Пасхи,
который имел место между Виктором (189-98) и жившими в Риме
асийскими христианами, он указал Виктору на то, что «разногласие в
посте не разрушает согласия в вере» [174].
До нас дошли всего два сочинения Иринея, а именно Доказательство
апостольской проповеди и пять книг трактата Против ересей [175],
третья книга которого была составлена, когда Елевферий занимал
Римский престол (174-89). Несмотря на отсылку к Против ересей в
заключительных главахДоказательства, последний текст,
предположительно, является более ранней работой. Предположение
исходит из того, каким образом в Доказательствецитируется Писание
[176]
: в этой книге Ириней дает ясное, связное и сжатое изложение
проповеди апостолов, не прибегая, однако, к сколь бы то ни было
широкому цитированию апостольских сочинений. Предмет его
доказательства составляет тот факт, что проповедь апостолов
«согласна с Писанием», в связи с чем Ириней стремится
продемонстрировать, что все содержание апостольской проповеди
вытекает непосредственно из Писания, через посредство которого
апостолы поняли и возвестили Христа. Вслед за кратким изложением
содержания веры, перенятой от старейшин, лично знавших апостолов
(эта вера формулируется им при помощи трех членов «канона веры»:
единый Бог и Отец; единый Господь, распятый и воскресший Иисус
Христос; и единый Дух Святой, Которым совершается возрождение
человека в таинстве святого Крещения \ДАП 3-7|), Ириней переходит
к двум другим, связанным между собой, частям своего труда.
Вначале он вспоминает библейскую историютого, как Бог спасал
свой народ – наподобие того, как это имеет место в речах апостолов,
приведенных в книге Деяний (ДАП 8-42а); вслед за чем переходит к
доказательству того, что в Писании в действительности было
предсказано все то, исполнение чего апостолы увидели во Христе и
[1]
по они возвещали, руководствуясь опять же Писанием (ДАП 42-97).
В начале этой второй части Ириней замечает, что, хотя для Бога Сын
существовал уже в начале, до творения, нам Он открылся только
теперь (в проповеди апостолов), а потому «прежде этого Он не был
для нас, так как мы не знали Его» (ДАП43). По этой причине лишь
после пересказа библейской истории, кульминацией которой
является апостольская проповедь Христа, проповедь, которая
приобрела свои четкие очертания через посредничество Писания, –
Ириней во второй части Демонстрации может, оглядываясь назад,
описать, каким образом Иисус Христос присутствовал в этой истории
всегда: ожидая Его, Его видели патриархи (ср., в особ., ДАП44-5)и о
Нем же говорили пророки. Апостольская проповедь, говорящая и
предсгавляющая Христа согласно Писанию, является ключом к
пониманию Писания во всей глубине его смысла. Во всем этом
Ириней шел уже проторенным путем, и действительно, многие
используемые им тексты и толкования встречаются уже у Иуетина.
Тем не менее, в отличие от Иуетина, который в Диалоге с Трифоном
излагает Писание вне скольнибудь определенного порядка или
структуры, Ириней в своем труде дает хотя и краткое, но все же
исчерпывающее и связно построенное изложение.
Если в Демонстрации Ириней не использует апостольские писания в
скольнибудь значительном объеме, то в отношении трактата Против
ересейверно обратное. Здесь не только утверждается
преемственность Писания и апостольской проповеди, но и сами
апостольские сочинения обширно используются именно в качестве
Писания. Ириней в прямой форме отвечает на вызов, брошенный
учениями Маркиона и гностиков, причем делает это, опираясь на те
самые тексты Павла и Иоанна, которые гностики привлекали для
обоснования своих собственных учений и которые другие авторы
середины II в., например, Иустин, касались лишь с неохотой. Ириней
знает и использует в своих сочинениях практически весь корпус
апостольских текстов, которые на сегодняшний момент признаны
каноническими (за исключением послания Филимону и 3-го послания
Иоанна). Более того, он настаивает, что может существовать только
четыре Евангелия, или, точнее, – одно Евангелие в четырех видах (то
εύαγγέλιον χετράμορφον, /7Е3.11.8). Приводимые Иринеем
обоснования, такие как существование всего четырех ветров или
четырех стран света, вряд ли способны убедить человека, не
принявшего этого факта заранее, однако здесь важно подчеркнуть,
что Ириней пытается придать смысл тому, что уже является
состоявшимся фактом (ограничение числа Евангелий четырьмя), а не
вводит это ограничение своей собственной волей. В трактате Против
ересей (в особенности в ПЕ 1.8-10 и 3.1 -5), посвященном спору с
гностиками. Ириней рассматривает отношение между гипотезой
Писания и каноном истины, роль предания и апостольской
преемственности и лишь затем переходит (в Книгах 3-5) к изложению
апостольских доказательств от Писания. На основе этих
взаимосвязанных канонов, детально рассмотренных выше (в главе 1),
им намечаются контуры того, что позже станет классической формой
богословской рефлексии.
Ириней делает шаг назад по сравнению с Иустином, по которому
Слово – это второй Бог, способный явить Себя, и возвращается к
более раннему утверждению, что Сын являет Отца. Характерная для
него позиция заключается в фразе, что «Отец есть невидимое Сына, а
Сын есть видимое Отца» (ПЕ 4.6.6). Предположение, как это имеет
место в случае Иустина, что Сын отличается от Отца как «другой
Бог», Который, в отличие от Бога Отца, способен входить в контакт с
сотворенной реальноетью, означало бы для Иринея подрыв всей его
богословской конструкции. В таком случае Христос уже более не
являл бы Отца, истинный Бог оставался бы невидимым для нас и
общение с Ним – недостижимым. Отец всяческих, разумеется,
невидим и бесконечно недоступен для человеческого восприятия, а
потому, считает Ириней, если людям должно увидеть Его и, таким
образом, вступить в с Ним общение, а не просто слышать сообщения
о Нем, потребуется «мера» «безмерного Отца» (//jE4.4.2); этой мерой
как раз и является Сын, »человеческой природе Которого, а не по ту
сторону ее, мы можем лицезреть невидимого Отца [177]. Но в то же
самое время Сын ограждает невидимость Отца, чтобы люди никогда
не могли подумать, будто они достигли предела познания и через это
стали бы пренебрегать Отцом; чтобы они не отвратились от
источника своей жизни и, как результат, не стали бы подвержены
смерти – для людей всегда должна оставаться возможность к
продвижению вперед, чтобы слава Божия могла продолжать являть
себя, ибо, как заключает Ириней, «слава Божия есть живой человек,
а жизнь человека состоит в созерцании Бога» (Я£4.20.7).
Схожим образом, возражая противтех, кто неверно понимал сущность
пророчеств, Ириней возвращается на позиции Игнатия, по которым
откровение Бога совершается только в Иисусе Христе. Все теофании
и видения, содержащиеся в Писании, являются для Иринея
пророческими, то есть предуказывающими Христа: «Таким образом,
Авраам был пророком и видел будущее, которое должно было
произойти человеческим образом, видел Сына Божия, как Он
беседовал с людьми и ел с ними и потом должен совершить над ними
суд Отца... И все подобные видения указывают на Сына Божия, как
Он беседовал с людьми и жил с ними [178].
В этом и в похожих фрагментах Ириней не утверждает прямо, что
Иисус из Назарета был видим прежде Своего воплощения и что Его
человеческая природа каким-то образом существовала прежде Его
рождения в мире. Подобные видения осмысляются им как
пророческие именно потому, что они предрекают то, чему надлежит
произойти в будущем. В пространном разделе(ПЕ4.20.1 -22.2) [179],
специально посвященном им пророчеству, Ириней формулирует свою
идею следующим образом:
Таким образом, и они видели Сына Божия в виде человека,
говоряшего с людьми; они пророчили то, чему предстояло произойти,
говоря, что Тот, Который еше не пришел, уже присутствует (еит qui
nondum aderat adesse), и объявляя неподверженное страданию
подверженным, заявляя, что Тот, Кто находится на небе, сошел «к
персти смертной» [Пс. 21:16[ (ЯЯ4.20.8).
Христос пока еще не пришел, но Его спасительное Страдание,
возвешаемое Евангелием, уже является объектом пророческих слов и
видений. Схожим образом «пророк Авраам», которому Евангелие
было возвещено заранее (когда, как говорится в Писании, ему бьшо
сказано, что все народы благословятся в нем (ср. Гал. 3:8)), «видел в
Духе День пришествия Господня и Божий промысел о Его
Страдании», чтобы те, кто последует Его примеру, веруя в Бога и взяв
свой крест подобно тому, как Исаак нес на себе дрова, могли быть
спасены (Я£4.5.4-5). Иисус Христос–это не только объект, о котором
повествует все П исание, от начала последнего и до конца, но, в
конечном итоге, Он является его автором. Именно Иисус Христос, к
примеру, заключает заветы с Авраамом и Моисеем:
Один и тот же Господин дома заключил оба завета – Слово Божие,
наш Господь Иисус Христос, говоривший и с Авраамом, и с Моисеем,
заново восстановивший нас к свободе и умноживший благодать,
источником которой Он является (Я£4.9.1).
Слова Христа «Моисей писал обо Мне» (Ин. 5:46) означают для
Иринея, что «написанное Моисеем является Его [Христа| словами»,
что в более широком смысле относится им также к «словам других
пророков» (ПЕ 4.2.3). Этот пророческий элемент, очевидно, является
важным для Иринея, ибо он придает особую динамичность его
описанию домостроительства Божия, которое открывается взору в
библейской истории спасения [180].
Ключ к пониманию механизма пророчества следует искать в деталях
того, как Ириней соотносит Евангелие с Писанием. В центре его
внимания не последовательная история Слова Божия от «Ветхого
Завета» к «Новому Завету» в смысле постоянства личного субъекта,
который действует на протяжении этого времени различным.образом
и несет откровение Бога в различных формах, а, скорее, в
неизменной и вечной тождественности Слова Божия распятому и
воскресшему Иисусу Христу. Хотя личность Слова Божия, то есть
распятый и воскресший Иисус Христос, впервые открывается только
в Евангелии, которое, как мы увидим, является для Иринея
рекапитуляцией Писания, именно Слово заключает заветы с
Авраамом и Моисеем (как это указывается в приведенном выше
отрывке из /7£4.9.1), и именно Оно в действительности является
автором всего Писания, равно как и предметом повествования
последнего. С учетом такого тождества Ириней увещевает Маркиона:
...прочитай с искренним вниманием то Евангелие, которое было дано
нам апостолами, прочитай с искренним вниманием пророков, и
обнаружишь, что весь образ жизни, и все учение, и все страдания
Господа нашего были предсказаны через них (//£4.34.1).
Тем же, кто в ответ на это спрашивает: «Что же тогда нового принес
Господь Своим пришествием?», он просто отвечает: «Самого
Христа!». Ириней проводит параллель с возвещением о прибытии
царя и фактическим прибытием последнего: в то время как прибытие
царя возвещается заранее, чтобы встречающие его люди могли
приготовиться, само прибытие не приносит ничего нового, кроме
самого царя: тем не менее радостное исполнение того, что было
возвещено прежде, уже является новостью: «Знай, что Он принес
всякую новизну, принеся Самого Себя, о Котором бьшо возвещено»
(ПЕ 4.34.1). Поэтому, поскольку пророки предсказали все, что
случится с Христом и через Христа, Закон является нашим
детоводителем ко Христу, втом смысле, что Закон приводит людей к
вере в Него:
Ибо Закон никогда не препятствовал им верить в Сына Божия, но,
напротив, увещевал их к тому, уча, что люди никак не могут быть
спасены от древней раны змия, иначе как через веру в Того,
Кто, в подобии грешной плоти, вознесен с земли на древо
мученичества, и все привлекает к Себе и оживляет мертвых
(Я/Г4.2.7).
Именно благодаря Его вознесению на древо, то есть благодаря
Страстям, Христос все привлекает к Себе. Будучи прочитан исходя из
перспективы креста, Закон уже указывает на Евангелие Христа, в чем
и заключается истинный смысл Писания.
Рассуждая таким образом, Ириней попросту идет в направлении,
которое уже было намечено Игнатием и Иустином. Однако он
формулирует и обратные выводы, что позволяет нам углубиться в его
понимание механизма пророчества. Поскольку проповедь апостолов
целиком основывается на Писании, то писавшие его люди сеяли
семена Евангелия. Развивая эту идею, Ириней модифицирует
содержащийся у Иустина образ семян Слова, которые сеются во всех
людях, когда они читают Писание. С точки зрения Иринея, сеется
Сам Христос – именно Он посеян в Писании. Ириней развивает эту
идею в двух фрагментах, ПЕА. 10 и 4.23-26, где продолжается
обсуждение природы пророчества. В первом из них он комментирует
слова Христа из Ин. 5:46 («Моисей писал обо Мне»):
[Он сказал это], без сомнения, потому, что Сын Божий присутствует
везде в Своих писаниях: то Он, действительно, говорит с Авраамом, то
с Ноем, указывая ему размеры (ковчега]; в другой раз Он ишет
Адама; в следующий – вершит суд над жителями Содома; вот Он
становится видимым и указывает путь Иакову; а вот говорит из
купины с Моисеем. Не счесть случаев, когда Сын Божий
изображается как Моисей (ЛЕААОЛ).
В этом фрагменте свидетельство Моисея о присутствии Сына Божия
дается при помощи образа Сына, Который оказывается посеянным в
Писании на всем его протяжении: inserninatusestubiquein
Scripturiseius Filius Dei. To есть предсуществование Христа, Слова
Божия, неразрывно увязывается с Его присутствием в Писании, слове
Божием, как семени [181].
Начиная с ПЕ4.23 Ириней рассматривает эти темы уже более
пространно и глубоко. Свой разбор он начинаете цитирования Ин.
4:35-8, где Христос говорит ученикам, что поля готовы к сбору
урожая, и посылает их жать то, что было посеяно другими. Сеятели,
согласно Иринею, – это те, кто «споспешествовал домостроительству
Бога»:
Ясно, что речь идет о патриархах и о пророках, которые являли собой
прообраз нашей веры и рассеивали по всей земле [знание о]
пришествии Сына Божия, [сообщая,] Кем и каким Он будет: чтобы,
имея страх Божий, потомки могли с легкостью принять пришествие
Христа, будучи наставлены через Писания (ПЕ4. 23.1).
Исходя из этого, люди, которые знакомы со словом Божиим (в
качестве примера Ириней приводит Иосифа и эфиопского евнуха),
уже готовы к тому, чтобы принять весть о пришествии Сына Божия,
то есть к пониманию истинного смысла текста (ПЕ4.23.1 -2). Те же,
кто не знает слова Божия, то есть язычники, представляют собой
более сложную проблему, и поэтому, как объясняет Ириней. Павел
мог по праву говорить: «Я более всех их потрудился» (1Кор. 15:10).
Таким образом, заключает Ириней:
Патриархи и пророки сеяли Слово о Христе, в то время как Церковь
жала, то есть собирала плоды. Вот по этой причине эти самые люди
молятся об обретении пристанища в ней [ Церкви], как говорит
Иеремия: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников!» (Иер.
9:2), – «так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин.
4:36) в Царстве Христа, Который соприсутствует всем тем, кому Бог с
самого начала благоволил. чтобы им соприсутствовало Слово
(ПЕ4.25.3).
То есть Христос соприсутствует всем, кто сеял Слово в Писании,
приготовляя тем самым людей к Своему пришествию.
Продолжая это рассуждение, Ириней увязывает свое объяснение Ин.
4 с экзегезой Мф. 13. Этот объемный фрагмент заслуживает того,
чтобы быть процитированным полностью:
Следовательно, если ктолибо читает Писания таким образом, то он
найдет в них Слово о Христе и предвешение нового призвания. Ибо
Христос [182] – это «сокровище, скрытое на поле» (Мф. 13:44), то есть в
этом мире, поскольку «поле есть мир» (Мф. 13:38), [сокровище],
скрытое в Писании: ведь содержашиеся в нем образы и притчи,
указывавшие на Христа, не могли быть поняты людьми прежде
свершения всего того, что было предсказано, то есть прежде
пришествия Господа. Поэтому было сказано Даниилу пророку:
«Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени;
многие прочитают ее, и умножится ведение... и по совершенном
низложении силы народа святого, все это совершится» (Дан. 12:4,7).
Также и Меремия говорит: «В последующие дни вы ясно уразумеете
это» (Иер. 23:20). Ибо всякое пророчество, до своего исполнения, для
людей есть ничто иное, как загадка или неясность; но когда
наступает время и предсказание сбывается, тогда обретает точное
толкование (έξήγησις). И по этой причине в настоящее время, когда
Закон читается иудеями, он подобен мифу, ибо они не обладают
объяснением (έξήγησις) всего того, что относится к пришествию Сына
Божия как человека; но, читаемый христианами, он (оказывается]
сокровищем, сокрытым в поле, которое обнаруживается в свете
креста Христова, и обретает объяснение – как для обогащения
человеческого понимания, так и для обнаружения мудрости Божией,
Его домостроительства в отношении человека, и предвозвещения
Царствия Христова, и заблаговременной проповеди Благой вести о
наследовании святого Иерусалима, и возвещения о том, что
боголюбивый человек придет к тому, что даже узрит Бога и услышит
Его Слово, и будет прославлен благодаря слышанию Его речи, до
такой степени, что другие не смогут выдержать лицезрения
сияющего славой лица его (ср. 2 Кор. 3:7(. Как сказано Даниилом: «И
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде, – как звезды, вовеки, навсегда» [Дан. 12:3(. Так именно, как я
показал, и будет, как увидит всякий, читающий Писание (ПЕ4.26.1).
Образ сокровища, сокрытого в поле, или в мире, приведенный
Христом, Ириней относит к Самому Христу: до Воплощения, или,
точнее, до креста, Христос сокрыт, в виде сокровища, в Писании. Он
сокрыт в Писании в пророчествах и прообразах, в словах и событиях
из жизни патриархов и пророков, которые предызображают должное
произойти во Христе и через Христа, во время Его пришествия в
образе человека, как проповедовали апостолы. Патриархи и пророки
посеяли эти пророчества и образы по всему миру в книгах Писания,
готовя читающих Писание к пришествию Самого Христа. Однако это
лишь пророчества и образы; то, что они предуказывали, еще не было
известно. И потому для читающих Писание без объяснения того, на
что они указывают, то есть без объяснения Слова, которое
содержится в них, и Евангелия, которое предвещается ими, –
Писание остается лишь мифом и басней. Лишь будучи прочитаны в
свете креста и Страстей Христовых эти сочинения обретают
заложенный в них смысл, и одновременно проясняется, в каком
именно смысле они являют собой Слово Божие. Таким образом, по
Иринею, распятый Иисус Христос и Евангелие, как его
проповедовали апостолы, имели место еще до Страстей. Они
присутствовали в виде скрытого содержания Писания как Слово
Божие, сокрытое в словах Писания.
В отношении того, что Христос был посеян в Писании и именно Его
предвидели патриархи и пророки, в особенности важно отметить, что
механизм этого заключен в кресте: именно в свете креста становится
возможным правильное толкование образов и пророчеств Писания.
Как говорит
Ириней в продолжении приведенного только что отрывка, образ
прочтения Писания открывается только после Страстей, когда
воскресший Христос показывает ученикам из Писания, как
«надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою» (/7Е4.26.1; Лк.
24:26,47). Подобно этому, когда пророки говорят, что «Тот, Кто еше
не пришел, уже присутствует», они «объявляют неподверженное
страданию подверженным, заявляя, что Тот, Кто находитсяна небе,
сошел «к персти смертной» (ПЕ4.20.8). В ПЕ5Л7А. Ириней вновь
подчеркивает, что Слово открывается через крест. Вспоминая чудо
Елисея из 4 Цар. 6:1 -7, Ириней истолковывает образ топора в свете
слов Иоанна Крестителя (Мф. 3:10) и дает следующий комментарий:
Этим поступком пророк указал, что истинное Слово Божие, которое
мы, по небрежению утратив посредством дерева, не нашли, мы
должны обрести заново через домостроительство древа... Слово это,
которое было сокрыто от нас, домостроительство древа, как мы уже
сказали, сделало явным. Ибо, как мы потеряли Его посредством
дерева, посредством него же Оно стало явным для всех, показывая
собою и высоту, и длину, и ширину; и, как сказал один из наших
предшественников, «распростерши руки [Христос) собрал вместе два
народа к Единому Богу» [183].
Ударение на то, что Слово открывается именно через крест, означает,
что Слово Божие всегда соотносится с крестом и как таковое
крестообразно. Подобно тому, как написанное Слово Божие насквозь
проникнуто образом креста, украсившее и упорядочившее небо и
землю Слово Божие тоже крестообразно, отмечает Ириней, следуя И
устину [1]* [4].
Утверждение, что распятый Христос, проповеданная апостолами
Благая Весть, распечатывает скрытое сокровище Писания, является
обратной стороной того факта, что апостольская проповедь
Евангелия с самого начала есть проповедь «по Писаниям»,
истолковывающая Писание для понимания Христа. Как было указано
в главе 1, апостолы и евангелисты, а также следовавшие за ними
авторы придерживались традиции, принятой в древнем Израиле: они
использовали Писание для понимания и объяснения настоящего при
помоши прошлого, задавая тем самым типологическую связь между
прошлым и настоящим. Что касается уникальности Евангелия, то,
сточки зрения Иринея, она заключается в апокалиптическом
качестве последнего: только через деяние Бога во Христе, как оно
было проповедано апостолами, Писание может рассматриваться в
виде образов и пророчеств, относящихся к единому и единственному
Слову Бога, а не просто как собрание мифов или басен [185]. ВПЕ 4.20.2
Ириней обращается к этой апокалиптической образности напрямую:
поскольку Христу все предано Отцом (Мф. 11:27), то только Он, как
Судия живых и мертвых, имеет ключ Давида, и только Он один
отворяет и затворяет (Откр. 3:7). Цитируя текст Откр. 5, Ириней
продолжает:
«И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть
сию книгу» Отца, «ни посмотреть в нее», за исключением Агнца,
который «был заклан, и Кровию Своей искупил нас», получив от того
же Бога, Который все создал Словом и украсил [Своей[
Премудростью, власть надо всем, когда «Слово стало плотью» (Ин.
1:14) (Я£4.20.2).
Только закланный Агнец принял всю силу, богатство, премудрость и
крепость (Откр. 5:12), а потому только Он способен открыть книгу,
которая, как уточняет Ириней, есть книга Отца. Раскрытие
содержания книги Отца, то есть Слова, закланным Агнцем Ириней
ассоциирует со Словом, Которое становится плотью, ибо Оно есть
воплощенное, явленное Слово, Которое делает известным, или
истолковывает (έξηγήσατο), Отца, как об этом говорится в концовке
Пролога Евангелия от Иоанна (Ин. 1:18). Подобно тому, как только
Евангелие распечатывает сокровище Писания, только в Сыне, как Его
проповедует Евангелие, невидимый и неизмеримый Бог становится
видимым и постижимым, настойчиво повторяет Ириней. Крест
являетсярешающим событием божественного откровения, которое
совершается в пределах земной истории, но несет в себе значение
вечности, и единственная перспектива, исходя из которой можно
говорить о Слове Божием, – это перспектива Креста. Именно такой
взгляд в прошлое, основанный на «эсхатологическом апокалипсисе
Креста» [186], делает возможным новое, евангельское, прочтение
Писания и проповедь Христа, которая, как мы видели, и является
единственным локусом откровения Бога.
Для Иринея субъектом всегда является распятый и воскресший И
исус Христос, как Он был проповедан апостолами, и именно в
отношении Христа им применяются разнообразные божественные
титулы – подобно тому, как именование «Слово Божие» в книге
Откровения дается «облеченному в одежду, обагренную кровью»
(Откр. 19:13). Опровергая составленное Птолемеем валентинианское
толкование пролога Евангелия от Иоанна, Ириней настаивает на том,
что объектом данного повествования является никто другой, как
Иисус Христос:
Иоанн возвещает единого Бога вседержителя, и единого
Единородного Христа Иисуса, о Котором говорит, что все произошло
через Него, что Он Сын Божий, Он – Единородный, Он – Творец всего.
Он–свет истинный, просвещающий всякого человека (Ин.
1:9), Он Творец мира, Он пришел к Своим (Ин. 1:11), Он Самый стал
плотью и обитал с нами... (Гност ики извращают это понимание,
утверждая, что «Единородный», «Слово», «Христос», и т.д. -это все
разные «эоны»|. Но что апостол говорил не об их сочетаниях, а о
Господе нашем Иисусе Христе, Которого признает также Словом
Божиим, это он сам сделал очевидным. Ибо, сводя свою речь о Слове,
о котором говорил выше в начале, прибавляет объяснение: «и Слош
стало плотью и обитало с нами» ( ПЕ 1.9.2).
Итак, все Божии титулы приложимы к Христу Иисусу, в то время как
выражение «Слово стало плотию» сводит их все воедино [187].
Евангелие Распятого представляет собой призму, глядя через
которую, как мы могли убедиться, становится понятным, что Писание
говорит именно о Христе – сводя воедино все, что было написано
ранее, и возвещая пребывание Слова Божия на земле.
Сточки зрения Иринея, указанная связь между Писанием и
Евангелием, связь, основанная на проповеди креста, описывается
термином «рекапитуляция, сведение воедино» (άνακεφαλαίωσις).
Данный термин, как и многие другие ключевые слова, используемые
этим автором, такие как hypothesis и economic!, происходит из теории
литературы или риторики [188]. Согласно римскому ритору
Квинтилиану (40-90 гг. по Р.Х.),
Повторение и группирование фактов, которое греки именуют
άνακεφαλαίωσις, а некоторые из наших писателей «перечислением»,
служит одновременно для освежения памяти судьи и для
представления всего дела целиком перед его глазами – так что, даже
если факты произвели на него мало впечатления в деталях, их общий
эффект оказывается значительным [189].
Иными словами, рекапитуляция излагает вкратце весь случай
целиком, представляя его или данную историю вновь и подводя итог –
сводя воедино все рассуждение в виде конспекта, так что, если даже
частные детали производят небольшое воздействие, цельная картина
представляется более яркой. Таким образом, формулируется резюме,
которое в силу своей краткости яснее, а потому и эффективнее
действует на слушателя. Принцип рекапитуляции как литературного
резюмирования используется также у Павла, когда он говорит, что
все заповеди Писания «заключаются в сем слове (έν τφ λόγω τούτφ
άνακεφαλαιοΰται): «люби ближнего твоего, как самого себя»» (Рим.
13:9) [190]. Подобно Павлу, Ириней ссылается на то же самое место в
Писании, объясняя, как Бог даровал нам краткую формулу, или
резюме, Закона в Евангелии:
И что люди будут жить не в многоглаголании Закона, а в краткости
веры и любви, об этом Исаия говорит так: «Краткое и точное слово в
праведности; ибо Бог совершит краткое слово по всей земле» (Ис.
10:22-23). И поэтому апостол Павел говорит: «Любовь есть
исполнение Закона» (Рим. 13:10); ибо кто любит Бога, тот исполнил
Закон. Также и Господь, когда Его спросили, какая главная заповедь,
ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
крепостью твоею; и вторая подобна ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь Закон и
Пророки» (Мф. 22:37-40). Он посредством веры в Него развивает
нашу любовь к Богу и ближнему, вследствие чего мы делаемся
благочестивыми и праведными и добрыми; и поэтому (сказано);
«Краткое слово Он совершил на земле, во вселенной» (ДАП 87).
Многословие Закона, которое делало Слово Божие неясным,
невидимым и недоступным для восприятия, было «сокращено»,
результатом чего стало «краткое слово»; представляя собой ясное и
действенное резюме, оно усиливает нашу веру в Бога, нашу любовь к
Нему и ближнему, обеспечивая тем самым наше спасение. Тем не
менее, даже будучи «сокращенным», Слово Божие остается тем же
самым: представляя собой рекапитуляцию Писания, Евангелие
является исполнением последнего.
Рекапитуляция Писания в Евангелии дает Иринею ключ к
пониманию личности и дела Иисуса Христа. Наиболее полно
последние рассматриваются им в ПЕ 3.16-18. В этом разделе Ириней
анализирует противоречивые тенденции гностических христологий и
приводит то, что он полагает за «все учение апостолов о Господе
нашем Иисусе Христе» (ПЕ
3.16.1). В одной из предшествующих глав Ириней утверждал, что его
оппоненты отделяют Слово от плоти, ибо все они отрицают, что
Спаситель действительно стал плотью или страдал (ПЕ3.11.3).
Однако, говорит Ириней, апостолы учили иначе. Иоанн «одного и
того же признавал Словом Божиим, Единородным, воплотившимся
для нашего спасения. – (именно) Иисуса Христа Господа нашего»
(ЛЕЗ. 16.2). Данная формула – «одно и то же» (εις και ό αυτός) – часто
используется Иринеем, а впоследствии она станет одним из основных
утверждений единства Иисуса Христа; в качестве примера, она не
один раз повторяется в определении Халкидона. Продолжая, Ириней
указывает, что Матфей также признавал одного и того же Иисуса
Христа, «излагая рождение Его по человечеству от Девы... Конечно,
Матфей мог сказать; рождество Иисуса бшо так, но Дух Святой,
предвидя исказителей и заранее ограждая против их обмана, говорит
через Матфея: рождество Христа бшо так, и что Он есть Эммануил,
чтобы мы не почитали Его только человеком, ибо не от хотения
tuomu, ни от хотения мужа, но от хотения Божия, Слово стало плотию
(Ии. 1:13-14). и чтобы мы не думали, что один был Иисус, а другой
Христос, но признавали Одного и Того же (Иисуса
Христа)»(ПЕ3.16.2). Далее Ириней указывает, что Павел также знал
только одного Бога и одного Сына, Иисуса Христа, – сводя воедино
слова Павла, что Христос открылся Сыном Божиим через
воскресение (Рим. 1:1 -4), о Его происхождении по плоти (Рим. 9:5) и
о Его рождении по наступлении полноты времен (Гал. 4:4-5). Сходная
позиция отмечается им у Марка и Луки. Затем, в связи с Евангелием
от Луки, он делает следующее заключение:
Итак, Евангелие не знает другого Сына Человеческого, кроме
рожденного от Марии, Который и пострадал, и не Христа, Который
оставил Иисуса пред страданием: но оно знает родившегося Иисуса
Христа Сына Божия, и что Сей Самый пострадал, воекрес, как
подтверждает Иоанн, ученик Господа, говоря:сие же написано, дабы
вы веровали, что Иисус есть Христос Сын Божий, и веруя имели
жизнь вечную во имя Его( Ин. 20:31), провидя эти богохульные
учения (regulas), которые разделяют Господа, сколько от них зависит,
говоря, что Он произошел из различных субстанций (ex altera et
altera substantia dicentes eum factum) (ПЕ 3.16.5).
To есть существует один Иисус Христос, один Сын Божий: это Он был
рожден, пострадал и воскрес; в Нем нет никаких «двух
составляющих», одна из которых будто бы подверглась страданию и
была видима, в то время как другая бьша вне страдания и невидима.
Отличие между Богом и сотворенной реальностью, которое осознает
Ириней, не воспринимается им как оппозиция между двумя
обособленными субстанциями, существующими параллельно и
потому являющимися равнозначными друг другу [191]. Напротив,
данное отличие осмысляется у него прежде всего в терминах
отношения друг ко другу: «Тем Бог отличается от человека, что Бог
творит, а человек сотворен»(ПЕ4.11.2). Для Иринея Иисус Христос,
без какихлибо сомнений, являет Собой все, что значит быть Богом, и
все, что значит быть человеком. С одной стороны. Он – Тот, Кто
творит, устрояя нас по образу и подобию Божию; с другой стороны.
Он делает это, будучи Сам послушен Богу, исполняя и являя Слово
Божие – будучи Словом Божиим, Он делается человеком. Как Бог,
Иисус Христос придает нам образ и подобие, Сам становясь
человеком и принимая страдание [192]. Ириней в явном виде
предвосхищает ключевой момент, возникший спустя несколько
столетий в связи с христологическими спорами, которые привели к
определению Халкидона: один и тот же Иисус Христос являет Собой,
что значит быть Богом и что значит быть человеком. В халкидонском
определении данный момент, конечно же, был сформулирован на
языке двух природ, однако эти две природы вместе с их природными
свойствами – есть природы одного субъекта, одного и того же Иисуса
Христа, Который умер на кресте и Своей смертью разрушил смерть,
всем даровав жизнь. То есть хапкидонское понятие двух природ – это
способ отнесения как божества, гак и человечества к одному и тому
же Иисусу Христу, а не некий гностический способ, при помощи
которого подверженное страданию отделялось бы от
неподверженного, оставляя тем самым Слово непричастным плоти.
Как уже отмечалось, пара «видимое/невидимое» применяется И
ринеем не для описания двух разных аспектов одного и того же
Иисуса Христа, а для раскрытия отношения между Отцом и Сыном,
где Сын является видимым ликом невидимого Отца. Тем не менее эта
пара возникает втом числе в его рассуждениях по поводу двух
состояний, или способов бытия одного и того же Слова, Иисуса
Христа, Который, как мы видели, был сокрыт в образах и
пророчествах Писания, но открылся в Евангелии. В качестве
разъяснения Ириней попрежнему ссылается на «рекапитуляцию»,
совершенную Иисусом Христом. Возражая гностикам, которые не
только отделяли Отца Христа от Творца мира, но и пострадавшего
Иисуса от бесстрастного Христа, он еше раз утверждает единого Бога
и единого Господа:
!Гностики] уклоняются от истины, потому что мысль их
удалиласьотТого, Кто есть истинно Бог, не зная, что Его Единородное
Слово, всегда присущее роду человеческому, соединилось со Своим
созданием по воле Отца и сделалось плотию и есть именно Иисус
Христос Господь наш. Который и пострадал за нас и воекрес ради нас
и опять имеет прийти во славе Отца, чтобы воскресить всякую плоть
и явить спасение и показать правило суда праведного всем. Им
сотворенным. Итак, один Бог Отец, какя показал, и один Христос
Иисус Господь наш, приходящий на протяжении всего
домостроительства и все восстановляющий в Себе (veniens per
universam dispositionem et omnia in semetipsum recapitulans). Во всем
же есть и человек, создание Божие; поэтому, и человека
восстановляя в Себе Самом, Он, невидимый, сделался видимым,
необъемлемый сделался объемлемым и чуждый страдания
страждущим, и Слово стало человеком, все восстановляя в Себе; так
что как в пренебесном, духовном и невидимом (мире) начальствует
Слово Божие, так и в видимом и телесном Оно имеет начальство и,
присвояя Себе первенство и поставляя Себя Самого Главою Церкви,
все привлечет к Себе в надлежащее время (ПЕ3.16.6).
Утверждение единого Иисуса Христа происходит у Иринея
одновременно с утверждением единого Бога Отца. Подобно тому, как
богословский дуализм гностиков приводит к дуализму
христологическому, так и упорство Иринея в вопросе о единстве Бога
влечет за собой утверждение единства Сына. Еше одним следствием,
вытекающим из различения гностиками двух сущностей в Иисусе
Христе, является то, что они забывают о Его постоянном присутствии
посреди людей. В противовес этому Ириней говорит о полном
тождестве между Словом Бога в Писании (в «Ветхом Завете») и Тем, о
Ком говорится в Евангелии: это Иисус Христос, Который являет Себя
на протяжении всего домостроительства, Христос, «грядущий в мир».
И более определенно: подведя итог всему, включая человека, в
Самом в Себе невидимое, непостижимое и неподверженное
страданию Слово становится видимым, постижимым, подверженным
страданию – становится человеком. Рекапитуляция
домостроительства, разворачивающегося в Писании, объектом
которого на всем протяжении является Евангелие Христа, в краткой
форме делает видимым и постижимым то, что прежде скрывалось за
многословием Закона. Рассмотренные ранее положения о том, что
Христос привлекает «все к Себе в надлежащее время», взойдя на
крест [193], и что Страсти Христовы – это та самая линза, преломляясь
через которую, Писание фокусируется в краткое резюме, вновь
привлекают внимание Иринея уже в следующем параграфе. В этом
фрагменте он дает толкование диалогу Марии и Христа в Кане
Галилейской (Ин. 2:3-4), когда Мария просит сына совершить чудо,
потому что, как говорит Ириней, она «прежде времени хотела
участвовать в чаше, содержащей всебе всевсжатом виде» (compendii
poculo, ЛЕЗ. 16.7): то есть чаша, которая представляет собой
результат Страстей Христа, содержит в себе в сжатом виде весь
процесс, дарующий спасение.
Тема рекапитуляции продолжается в ПЕ 3.18. Предложенное в ПЕ
3.16.6 описание Слова, «соединенного со своим созданием», при
помощи которого Ириней подчеркивает постоянное присутствие
Слова среди рода человеческого, повторяется им в ПЕ3.18.1: Слово,
бывшее в начале с Отцом и постоянно пребывающее посреди рода
человеческого, «в последние времена согласно с временем,
предопределенным Отцом, соединилось со Своим созданием и
сделалось человеком, могущим страдать» [194]. Озвучив возможное
возражение, Ириней продолжает:
Ибо я показал, что Сын Божий, вначале сущий у Отца, не начал
существовать тогда, но, воплотившись и сделавшись человеком, Он
подвел в Себе итог длительному повествованию (expositionem) о
людях и в сжатом виде (in compendia) даровал нам спасение, так что
потерянное нами в Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию,
мы опять получили во Христе Иисусе (ЛЕЗ.18.1).
Становление Слова плотью, это эсхатологическое событие
«последних времен», является, таким образом, не новым эпизодом
биографии Слова, но представляет собой своего рода резюме.
Последнее подводит итог постоянному присутствию и
тождественности Слова, Которое и есть Иисус Христос, являющийся
(согласно ПЕ3.16.6) на протяжении всего домостроительства, или
подытоживающий (согласно ПЕЗ. 18.1 )длительное повествование,
содержащееся в Писании [195]. Подводя в Самом Себе итог
повествованию о домостроительстве, Иисус Христос доставляет
людям спасение посредством сжатого изложения, то есть формулы,
которая делает все более густым и концентрированным, то есть тем
самым делает видимым и постижимым то, что таким не являлось.
Воплощение Слова и рекапитуляция, произведенная таким образом
Иисусом Христом, Который «приходит на протяжении всего
домостройтельства» и подытоживает это «длительное повествование
о людях», развернутое в Писании, невозможно отделить от
литературной рекапитуляции, произведенной Богом через Своих
апостолов посредством их «краткого слова». Как мы видели,
апостольская проповедь Иисуса Христа была составлена на основе
материала Писания, которое провозглашается уже не в неясности
образов и пророчеств, а ясно и кратко, как резюме: бывшее
многословным становится сжатым, невидимое – видимым, Слово
становится плотью. И потому вместо представления (подобно тому,
как это делал Иустин) биографии Слова как последовательности Его
деятельности, начиная систории, зафиксированной в Писании (в
«Ветхом Завете»), и заканчиваяисторией воплощенного Слова в
Евангелиях, – Ириней делает акцент натождестве Слова Божия,
содержащегося в Писании и ставшего известным благодаря
последнему, и Слова, которое кратко проповедали апостолы как
Слова, ставшего плотью. Для Иустина тождество Слова
воспринималось в виде постоянства личного субъекта, то есть в виде
«субъектности»: для Иринея данное тождество открывается в том,
каким образом субъектом всего Писания оказывается Евангелие
Христа и Сам Христос – слова пророков (содержащиеся в Законе,
Псалмах и Пророках) и слова апостолов содержат, по его убеждению,
то же самое Слово Божие, Иисуса Христа. Так Ириней, с одной
стороны, получает возможность возражать Маркиону, утверждая, что
в Евангелии не содержится ничего нового: дела Христа, как они
описаны евангельской проповедью, не отличаются от тех дел,
которые Он совершал, будучи направителем домостроительства от
начала [196]. Новый момент заключается в том, что, в то время как
прежде звучала лишь весть о Нем, теперь Он пришел наяву: краткое
Слово, то есть Евангелие, отныне ясно возвещено. С другой стороны,
ввиду того, что эсхатологический характер Евангелия отражает
божественное совершенство Христа. Ириней, возражая теперь уже
гностикам, также утверждает, что к Евангелию нечего и добавить.
Подытожив историю в Самом Себе, И исус Христос принес людям
спасение через краткое слово, или сжатое изложение, и это резюме
является для нас руководством к правильному прочтению того же
самого Слова на всем протяжении длительного повествования,
представленного в Писании [197]. Тем не менее Евангелие Христа и
Сам Христос все же относятся к последним временам. Евангелие есть
краткое и воплощенное возвещение Того, Кто пронизывает Собой все
домостроительство в целом и Кто Сам попрежнему остается
грядущим (ό ερχόμενος).
Любопытное следствие, к которому приходит Ириней, заключается в
следующем. Чтобы во Христе действительно могла открыться полная
рекапитуляция домостроительства Божия, Он должен не только
завершить творение Адама, став человеком, но и пройти через все
стадии человеческой жизни. Поэтому, утверждает Ириней, Христос
«прошел через все возрасты, – сделался младенцем для младенцев, и
освятил их; сделался малым для малых, и освятил имеющих такой
возраст, вместе с тем подав им пример благочестия, правоты и
послушания» (ПЕ 2.22.4; ср. /7 3.18.7). По словам Иринея, гностики
учили, что Христос проповедовал в течение одного года и на
двенадцатый месяц был предан смерти(/7 2.22.5). Однако, замечает
он, согласно Евангелиям, Иисусу в момент крешения было всего
тридцать лет, то есть Он был еще недостаточно взрослым и зрелым,
чтобы Самому стать учителем. К этому Ириней добавляет следующее
предание, идущее, по его убеждению, от Иоанна:
Всякий согласится, что тридцатилетний возраст есть начало
мужеского возраста, который продолжается до сорокового года; с
сороковых же и пятидесятого годов начинается уже преклонный
возраст, в котором учил наш Господь, – как свидетельствует
Евангелие и все старцы, собиравшиеся в Азии около Иоанна, ученика
Господня, что им передал это самое Иоанн (ПЕ2.22.5).
Далее Ириней указывает, что вопрос иудеев: «Тебе нет еще и
пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?» (Ин. 8:57) – на самом деле
уместен только в отношении того, кому уже исполнилось сорок лет,
но еще нет пятидесяти. Поэтому, заключает он, между крещением
Христа и Его смертью должно было пройти, по крайней мере, лет
десять (ПЕ2.22.в)т. Таким образом, связность Писания с точки зрения
того, как оно было написано (literary coherence of Scripture), а также
устная связность (rhetorical coherence), проявляющаяся в ходе
обращения к Писанию в процессе толкования Христа, – служат для
Иринея высшим критерием, который сопровождает его размышления
о вечном Слове Божием [199].
Язык, предложенный Иринеем для описания того, как невидимое
становится видимым и не подверженное страданию – подверженным,
впоследствии стал общепринятым в богословии и, в особенности, в
литургической поэзии. В риторических ходах Иринея также
подразумеваются базовые сотериологические аксиомы,
обозначенные в начале данной главы, а именно: что только Бог
может спасти и что Он спасает только как человек. Для Иринея
спасение – это не просто восстановление нашего изначального
райского состояния, утраченного людьми в Адаме, но и то, что сверх
этого ведет к нашему усыновлению в Сыне и общению с Богом:
Ибо для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий –
Сыном Человеческим, чтобы (человек), соединившись (commixtus) с
Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим.
Ибо мы никак не могли бы получить нетление и бессмертие, если бы
не были соединены с нетлением и бессмертием. Но как мы могли бы
соединиться с нетлением и бессмертием, если бы наперед нетление и
бессмертие не сделалось тем, что и мы, чтобы тленное
поглощенобыло нетлением и смертное бессмертием, дабы мы
получили усыновление? (ср. I Кор. 15:53-4; 2Кор. 5:4; Гал. 4:5]
(ПЕ3.19.1).
Или еще проще:
Слово Божие, наш Господь Иисус Христос, по Своей превосходящей
любви стал тем, чем являемся мы, чтобы сделать нас тем, чем
является Он Сам (Я£5.РгеГ).
Богословие Иринея носит весьма изысканный характер; оно в
особенности чувствительно к литературному измерению, которое
характеризует работу по истолковыванию Писания, и приводит к
достаточно глубокому осмыслению того, почему Иисус Христос
исповедуется Божиим Словом. Ириней отказывается различать два
бытия или две составляющие в одном и том же Иисусе Христе (одна
часть – человеческая и видимая, другая – божественная и
невидимая); вместо этого он предпочитает мыслить в терминах двух
состояний одного и того же Слова; невидимое и непостижимое Слово
становится видимым и постижимым. Однако, облекая свои мысли в
такую форму, Ириней не придает временного характера вечному
Слову Божию, Иисусу Христу. Проповедь апостолов. Евангелие, для
него скроена из материала Писания, которое уже не возвещается
через посредство неясных образов и пророчеств, но, преломляясь
сквозь призму креста, звучит ясно и сжато, как резюме. Поэтому,
когда Ириней говорит, что, становясь плотью. Сын рекапитулирует в
Себе длительное повествование домостроительства, он
подразумевает, что это именно та рекапитуляция, которая была
совершена Богом через апостолов посредством их краткого слова. То
же самое Слово Божие, неясно и многословно записанное в Писании,
став воплощенным, теперь проповедуется кратко и ясно апостолами в
их Евангелии, возвещающем о земной жизни Слова Божия.
Уникальное откровение Бога в Иисусе Христе, в Слове, ставшем
плотью, локализуется именно в апостольской проповеди о Нем, то
есть в Евангелии, в котором Писание преломляется через призму
креста; а Слово, сокрытое в Писании, становится видимым и
постижимым, то есть становится плотью. Слово Божие становится
плотью как Иисус Христос, единственный Сын Божий,
проповеданный апостолами. Евангелием, которое само есть краткое,
ясное ивоплощенное откровение одного и того же Слова Божия,
содержащегося в Писании. Утверждение о том, что Иисус Христос
является Словом Божиим, ставшим плотью, не основывается, таким
образом, на историзирующем сплавлении Ин. 1:14 (в котором не
упоминается о младенчестве) с повествованиями о рождестве Иисуса
(в которых нет ни слова о воплощении небесного существа).
Напротив, исповедание Иисуса Христа Словом Божиим имеет своим
основанием ту самую литературную динамику отношений между
Писанием и Евангелием, в ходе которой апостолы и их последователи
размышляют о Христе «по Писаниям». Таким образом, Ириней
возвращает наше внимание к Писанию, чтобы мы могли еще глубже
вникнуть вопрос о том. Кто такой Христос.
^ ЧАСТЬ III
СЫН ОТЦА
В последние годы II в. и втечение III в. возник целый ряд дискуссий,
вызванных различными попытками объяснить место Иисуса Христа,
Которому уже на протяжении длительного периода поклонялись как
Богу в контексте монотеистической религии. То, что есть только один
Бог и один Иисус Христос, Церковь уже утвердила ранее в дебатах с
Маркионом и гностиками, однако отношение между Иисусом
Христом и Богом требовало дальнейшего прояснения. Некоторые
связанные с этим вопросы уже проскальзывали в части II. Мы
говорили о различиях между Иустином Мучеником, для которого
Логос представляет иного Бога, способного, в отличие от абсолютно
трансцендентного Отца, открыть Себя и в свое время стать
воплощенным Иисусом Христом, – и Иринеем Лионским, согласно
которому Иисус Христос, как это бьшо проповедано апостолами в
Евангелии, представляет Собой рекапитуляцию Писания, являясь
вечным Словом Божиим, Сыном, Который открывает, или делает
понятным (έξηγήσατο, Ин. 1:18), Отца.
В последующие десятилетия в серии дебатов, имевших место в
христианских общинах Рима (в связи с заблуждениями, которые, как
правило, возводят к атиянию восточных еретиков), поставленные на
карту вопросы обрели более откровенную, подчас даже
карикатурную, форму – как результат полемики, в которой были
задействованы самые различные мотивы. Виктор (189-98) отлучил
Феодота Сапожника за то, что тот учил, что Иисус Христос был
обычный человек, – данная формулировка всплыла спустя несколько
десятилетий в связи с туманной фигурой Артемона (или Артемы).
Зефирин (198-217) и Каллист (217-22) вызвали гнев автора
Опровержения всех ересей, ошибочно приписываемого Ипполиту,
который ставил им на вид то обстоятельство, что они без лишних
сомнений приняли в свою общину лиц, изгнанных из его собственной
общины за серьезные моральные проступки, и одновременно
выдвинули против него обвинение в «дитеизме», то есть в подрыве
единства Бога через учение о Логосе; со своей стороны,
авторОпровержения находил прямую связь между Зефирином и
Каллистом, с одной стороны, и Ноэтом и Савеллием, с другой,
обвиняя всех их в том, что, по их учению, в воплощении Сам Отец
стал Сыном и что Сам Отец умер на Кресте[200]. И все же мир был
достигнут – через посредство вероятного преемника автора
Опровержения Ипполита, которому удалось изложить
тринитарное богословие в терминах, более походивших на Иринея
(сочинениеContra Noetum и другие подлинные работы Ипполита), а
также переподчинить свою общину Понтиану (230-5), который
занимал в эти годы место предстоятеля общины, к которой
принадлежал Каллист [201].
В период этих споров Рим посещал Ориген (ок. 185 – ок.254 гг.). По
своем возвращении в Александрию он начинает в более категоричной
форме утверждать реальность и вечность самостоятельного
существования Сына и Духа наряду с единым Богом, Который в связи
с этим теперь понимается им преимущественно как Отец. Подобное
утверждение не возникло на пустом месте – оно явилось результатом
серьезного изучения Оригеном Писания и глубокого размышления
над тем, каким образом Христос – и Бог, и человек – есть Божие
Слово. Богословское видение Оригена в полной мере покрывается
лишь количеством страниц его сочинений – в данной работе оно
получит самое бледное освещение, несмотря на то, что мы уделим
этому автору больше внимания по сравнению с остальными.
Богословие Оригена стало фундаментом для последующего развития;
вместе с тем оно неоднозначно и характеризуется набором
противоречий. Пока он был жив, Оригену удавалось удерживать
противоречия в рамках своего единого проекта, однако в
дальнейшем, под влиянием различных обстоятельств, единство
начало распадаться, приведя к образованию нескольких враждебных
лагерей. Указание на то, каким образом утверждение о
самостоятельном существовании Сына и Духа воспринималось в
других местах цивилизованного мира, мы находим через пару
десятилетий. В это время Дионисий Александрийский (сконч. ок. 264
г.) отправляется в соседствующий регион, чтобы противостать
появившемуся там учению Савеллия, – но сам получает обвинение в
троебожии, то есть в учении о трех отдельных богах, со стороны
своего тезки Дионисия Римского (259-68 гг.); правда, в итоге
объяснение александрийца последнего все же удовлетворило.
Помимо этого, Дионисий Александрийский получил приглашение в
Антиохию для расследования учения Павла Самосатского. Будучи
замешанным на политике в той же мере, что и на разногласиях из
области богословия, учение Павла чрезвычайно сложно для
реконструкции. Суть выдвинутых Павлу обвинений сводилась к тому,
что он якобы учил, что Христос был обычным человеком, то есть
пытался возродить ересь Артсмона. По мнению критиков, самосатец
отделял Иисуса от Слова, превращая их в два независимых существа:
вечное Слово и явленного во времени Иисуса. В качестве
альтернативы, повидимому, предлагалось понимать Слово по образу
души, обитающей в некоей составной сущности, которая и есть Иисус
Христос, – таким образом, в обиход была введена аналогия, которая
не раз даст о себе знать в сочинениях последующих богословов,
причем нередко с весьма сомнительным результатом.
Общим во всех этих дебатах 111 в. являлся вопрос о том, Кто же
такой Христос как Сын Божий и Божие Слово. Как Сын, Христос
отличен от Отца, а не является некоей новой формой или
проявлением единого Бога, хотя Он являет именно Отца, а не просто
Себя и Свою собственную божественность. Исходя из такой
постановки, проблемой становится понимание божественности и
личности Христа, Сына Божия: является ли Он божественным,
потому что божественна «часть» Его существа, а именно Слово,
одухотворяющее бездушную плоть, и конституирует ли, в таком
случае, данная «часть» Его идентичность, то есть непрерывное
тождество Его субъекта, по аналогии с душой? Или, напротив,
идентичность Христа следует понимать исходя из Его определяющих
характеристик, которые нашли ясное выражение в керигме, то есть в
провозглашении распятого и воскресшего Сына Божия, в
провозглашении, которое рекапитулирует Писание и задает контекст
для созерцания того факта, каким образом Сын Иисус Христос
исповедуется именно как Божие Слово. Обрисованный контраст
раскрывает исходную точку богословского проекта: полагается ли в
качестве цели анализ того, из чего состоит сущность Христа, и
создание модели ее появления – или же размышление над керигмой
изнутри канона и традиции Евангелия по Писанию? Формулируя
данный вопрос в более провокационной манере, при помощи
терминов, без сомнения, современных, но, тем не менее, адекватных
для нашего случая: направляется ли богословие мифологией или,
напротив, провозглашением и исповеданием?
III век ни в коей мере не стал свидетелем решения этих вопросов.
Если в этот период что-то и было достигнуто, то этим стало то
критическое состояние, которого данные вопросы достигли, будучи
готовы взорваться в последующие века. Однако некоторые моменты
получили оформление уже теперь – хотя бы через то, что была
обозначена запретная территория. Призраки Савеллия и Павла
Самосатского нависли над последуюшими тринитарными и
христологическими размышлениями; ассоииация с этими авторами
была способна навести проклятие на любого, кто рискнул бы
смешивать Отца с Сыном или заявить, что Сын был обычным
человеком, которого усыновили и сделали богом. Без какихлибо
оговорок или сомнений, Христос был не человеком, который стал
Богом, но Самим Богом, Который стал человеком – Он был «свыше»,
как и Евангелие Иисуса Христа не есть Евангелие человеков, но
Евангелие Божие (ср. Гал. 1:11-12; Рим. 1:1 и т.д.). Наиболее
позитивный вклад здесь внесли александрийцы, на достижениях
которых в дальнейшем основывались их последователи. В
особенности это относится к утверждению вечного существования
Сына и к выводу о том, что единый Бог–это Отец, а также к тому
способу, чувствительному по отношению к библейской ткани
богословия, каким александрийцы понимали личность Сына и
признавали Его Божиим Словом.
^ ГЛАВА 6
ИППОЛИТ И ДЕБАТЫ В РИМЕ
Богословские споры, развернувшиеся в Риме в последние годы Ив,–
первые десятилетия 111 в., продолжили обсуждение вопроса о месте
Иисуса Христа в монотеистической религии, а именно: можно ли
считать Его Богом, и если да, то каким именно образом Его
божественность следует описывать и каким образом объяснять Его
отношение к единому Богу? Эпицентром споров, по всей видимости,
стала община, которую последовательно возглавляли Виктор (189 –
98), Зефирин (198 – 217) и Каллист (217 – 22). Именно в контексте
этих дебатов появляются первые упоминания многих известных
еретиков, таких как Феодот, Ноэт и Савеллий. Однако все отсылки
такого рода носили непрямой полемический характер и
использовались в целях очернения оппонента, с которым в данный
момент шел спор, что, однако, не помешало усвоению всплывшей
информации последующими поколениями богословов. Так, факт
изгнания Феодота из общины Виктора за учение о том, что Христос
был обычным человеком, получил известность благодаря сочинению
Малый лабиринт. которое бьшо написано несколько десятилетий
спустя с целью помешать возрождению идей Феодота через
посредство некоего Артема (или Артемы). Описание идей Ноэта и
Савеллия дошло до нас через другой документ – сочинение, носящее
название Опровержение всех ересей,авторство которого ошибочно
приписывалось Ипполиту. Автор данного текста именует Ноэта и
Савеллия прямыми предшественниками Зефирина и Каллиста,
причем последние обвиняются им в том, что они приняли в свою
обшину людей, которые были изгнаны из его собственной общины за
серьезные нравственные проступки (Зефирин и Каллист, в свою
очередь, выдвинули автору Опровержения обвинение в «дитеизме»,
то есть в том, что его богословие Логоса разрушает единственность
Бога). Свои достаточно едкие полемические комментарии автор
Опровержения обрушивает в Книге 9, но, несмотря на эту полемику,
имеется достаточно указаний, что Зефирин и Каллист продолжали
развивать богословие в иринесвском духе, как это описывалось нами
выше в части 11. Наконец, как последний персонаж в упомянутой
серии полемических споров предстает перед нами сам Ипполит,
который в сочинении Contra Noetum и в других сочинениях,
авторство которых не подвергается сомнению, тоже развивал
богословие вдухе Иринея. Критикуя предполагаемого
предшественника Зефирина и Каллиста и будучи близок к ним в
богословском плане, Ипполит подготовил путь к окончательному
примирению, которое, согласно реконструкции Брента, бьшо
достигнуто, когда Ипполит, как преемник автора Опровержения,
подчинил свою общину тогдашнему главе общины Каллиста
Понтиану (230-5). Предметом данной главы, таким образом, станут
основные действующие лица в обозначенной череде событий,
богословекие положения, вышедшие на передний план их полемики,
а также фигуры еретиков, с учением которых данные положения
отождествлялись.
Феодот и Малый лабиринт
В центре первого эпизода римских дебатов стоит Феодот Сапожник,
информация о котором крайне скудна. Самое раннее свидетельство
обнаруживается нами в трех фрагментах анонимного трактата
(σπούδασμα), сохранившихся у Евсевия и в Опровержении всех
ересей, приписываемом Ипполиту [202]. Данный документ, как
правило, именуют Малым лабиринтомжи считают, что в нем был
сформулирован ответ на ересь Артемона, который, по всей
видимости, возродил учение Феодота по прошествии нескольких
десятилетий (помимо этого, об Артемоне ничего не известно). Как
утверждается в Малом лабиринте, имя Феодота получило известность
в связи с его учением о том, что Христос был обычным человеком
(ψιλός άνθρωπος), и именно по этой причине он был исключен из
общины Виктором Римским [204]. Согласно Опровержению, Феодот был
родом из Византия. Он учил, что, прожив какое-то время как
обычный человек, Иисус засвидетельствовал исключительное
благочестие и в момент крещения принял Духа, Который и
провозгласил Его Христом и дал Ему силу исполнить Его
божественную миссию [205]. Сам Феодот отрицал приписываемое ему
мнение, что Иисус стал Богом, хотя некоторые его последователи,
очевидно, полагали, что все произошло именно так – либо в момент
крещения, либо по воскресении (Опр.7.35). Далее Малый лабиринт
сообщает, как при Зефирине Феодот Землекоп и Асклепиодот (оба –
ученики Феодота Сапожника) убедили некоего Наталия стать их
епископом. Несмотря на жалование в 150 динариев в месяц (это
самый ранний источник, где говорится о получении платы
епископом), Наталий вскоре раскаялся в своем поступке (ЦИ
5.28.8-12). Согласно Малому лабиринту, последователи Феодота
также утверждали, что «истина проповеди», то есть учение о том, что
Христос был человек, а не Бог. разделялась всеми Его
последователями, начиная с апостолов и до Виктора, и только
преемник последнего Зефирин «исказил» ее (ЦИ 5.28.3).
Что касается непосредственно Ноэта, то о нем известно весьма мало.
АвтораОпровержения главным образом интересует «генеалогия»
оппонирующих ему лиц в Риме, учение которых он возводит к
«невежественным последователям Ноэта» [212]. Трактат Ипполита
Contra Noetum, еще один первостепенный источник сведений о
Ноэте, также начинается со слов о «некоторых других, которые
вводят чуждое учение, и на самом деле являются учениками некоего
Ноэта, родом из Смирны, который жил не так давно» [213]. Излагая
учение Ноэта, Ипполит далее говорит: «будучи обольщен чуждым
духом, он заявил, что Христос – это Сам Отец и что Сам Отец был
рожден, пострадал и умер»(ПН 1.2). Представленное в таком виде,
учение Ноэта, повидимому, отражает стремление утвердить единство
Бога (по мнению Ипполита, за счет отождествления Христа с Богом
Отцом), а также подчеркивает единство обоих, заявляя, что Сам Отец
принял смерть на кресте; данная позиция вскоре получила название
«патрипассианизма» [214]. Однако рассказ об осуждении Ноэта
предполагает также наличие других мотивов. Ноэт был осужден за
«другие поступки», что, согласно Ипполиту, было достаточным
доказательством ошибочности его учения и, соответственно,
оправдывало его «запрещение в свяшеннослужении». О характере
этих «других поступков» можно, скорее всего, заключить из ответа
Ноэта пресвитерам, на суд которых он был приведен после
сообшений о том, что он высказывается о себе как о Моисее и его
брате Аароне: отвечая на это, Ноэт заявил, что «не стремится занять
высокое положение» [215]. Призвав на помощь ряд своих
последователей, он вновь держал ответ перед пресвитерами, но на
сей раз обвинения были, похоже, более богословского толка,
поскольку, отвечая, Ноэт воскликнул лишь: «Что неправого я делаю,
прославляя Христа?» (ПН 1.6). Его вновь осудили и отлучили от
Церкви, после чего он основал отдельную «школу». Из того, что Ноэт,
будучи вопрошен по неким богословским вопросам, строил свою
защиту, фокусируясь на Христе, можно заключить, что его позиция
была в основе своей христоцентричной и, возможно, только такой.
Христоцентричный акцент получает дальнейшее подтверждение,
когдаContra Noetum обращается к рассмотрению того, как Ноэт и его
ученики использовали Писание для обоснования своей позиции [216].
Они ссылались на Закон (Исх. 3:6; 20:3) и Пророков (Ис. 44:6) с целью
«утвердить одного Бога»[217]. Исходя из этого, говорит Contra Noetum,
они утверждали: «Следовательно, если я исповедую, что Христос –
Бог, значит, Он является Самим Отцом, если Он – Бог» (ПН2.3).
Существование единого Богаутверждается в обоих упомянутых
текстах Писания, в то время как прочтение последнего
применительно ко Христу стало стандартным герменевтическим
принципом той эпохи – настолько же обычным, как и исповедание
Христа подлинным Богом и поклонение Ему как таковому. С учетом
это-го сделанный вывод представляется неизбежным. Данный вывод
далее используется в качестве предпосылки второго аргумента, хотя
для данного патрипассианистского тезиса доказательств из Писания
Ноэтом уже не предлагается: «Христос, будучи Богом, принял
страдание. Разве в таком случае не Отец принял страдание? Ибо Он
был Отец» (ПИ2.3). Приводимые далее «свидетельства» из Писания
(Вар. 3:36-8; Ис. 45:14-15) имеют целью доказать, что «Писание
возвещает одного Бога, одного зри-мо явленного», вслед за чем
следует ссылка на апостола (Рим. 9:5) для подтверждения того, что
Христос действительно есть Бог, и, наконец, Ноэт формулирует свои
доводы повторно, в еще более провокационной мане-ре (/7Я2.5-3.2).
Таким образом, содержащиеся в Contra Noetum сведения не
оставляют сомнений в том, что целью Ноэта было утвердить то, что
Иисус Христос – действительно Бог, Тот единый (и единственный)
Бог, о Котором говорится в Писании. Тем не менее спорным остается
вопрос, предполагался ли на основании этих свидетельств Писания
вывод о том, что Отца и Христа следует полностью отождествлять, то
есть звучала ли подобная мысль у Ноэта и у его учеников или же,
напротив, ее появление обязано своим происхождением той
полемической риторике, которая пришла к такому
непреднамеренному заключению благодаря своего рода reductio ad
absurdum. То же самое касается патрипассианистского тезиса, по
которому умерший на Кресте был Отец: поскольку данное
утверждение нигде не подкрепляется ссылками на Писание, но
представляется как логический вывод из других аргументов, оно,
скорее всего, также возникло как составная часть полемики [218].
Согласно Опровержению, Эпигон, «служитель (διάκονος) и ученик»
Ноэта, принес его учение в Рим и познакомил с ним некоего
Клеомена, который затем «развил это учение» во времена Зефирина
(Опр. 9.7.1). В данном тексте не содержится никаких особых сведений
о Ноэте и Эпигоне, однако существует небольшой раздел (Опр.
9.10.9-12), посвященный учениям Клеомена и его последователей, в
котором также содержится небольшой перечень изречений,
приписываемых Ноэту [219]. Описание данного круга римских христиан
авторОпровержения начинаете формулировки, которая имела, по
видимости, антимаркионистскую направленность: «Один и Тот же
Бог есть Творец всего и Огец»; вслед за чем он продолжает
утверждением, что именно этот Бог открыл Себя: «будучи
невидимым. Он соблаговолил открыть Себя праведным мужам
древности» (Опр. 9.10.9). Несмотря на слова о «древности»,
субъектом данного явления Бога, скорее всего, является Иисус
Христос, а не Ло-roc-Сын до Его воплощения, как такого рода
теофании толковались, к примеру, Иустином Мучеником. В таком
случае это совпадает с толкованием Ноэтом слов Исайи как
относящихся ко Христу, в духе традииионного христоцентричного
прочтения Писания, в соответствии с его же утверждением, что
«Писание возвещает одного Бога, одного зримо явленного»(ПН 2.6.-7;
4). Учение, по которому видимым стал Сам невидимый Бог, а не
некий второй Бог, видимый, в отличие от трансцендентного,
невидимого Отца, приписываемое Ноэту в данном разделе
Опровержения, вероятно, отражает попытку отстоять представление,
по которому во Христе явил Себя истинный Бог и что Христос есть
«видимое Отца», как это бьшо сформулировано у Иринея, но без
необходимого здесь уточнения, что Христос – это Сын, являющий
Отца [220]. Наряду с указанием на видимое явление невидимого Бога
окружение Клеомена описывало Бога как неограниченного
(άχώρητος), когда Он не желает быть ограниченным, но
«ограниченным, когда Он ограничивает Себя» (χωρητός δέ δτε
χωρεΐται, Опр. 9.10.10). Описание неограниченного Бога,
ограничивающего Себя, или постигаемого, также вторит точке
зрения Иринея, выраженной в сходных терминах [221], так что,
повидимому, речь вновь идет о Сыне, Иисусе Христе, в Котором
«содержится» Отец и Который дает нам возможность воспринимать
то, что в противном случае превышало бы наши человеческие
способности.
Оставшаяся часть Опровержения, посвященная Клеомену и его
последователям, выстроена автором данного сочинения, как он сам
формулируст, «исходя из той же логики». Его вывод состоит в том,
что Бог ноэтян необходимо является субъектом противоположных
предикатов – «ощутимым и неощутимым, нерожденным и
рожденным, бессмертным и смертным», исходя из чего защитники
подобной позиции с очевидностью являются учениками Гераклита
(Опр. 9.10.10). Набор противоположных утверждений также очевиден
втом, как Ноэтотождествлял Отца и Сына: Отец проходит через
рождение, чтобы стать Своим собственным Сыном. «Из всего этого он
| Ноэт] думает выстроить монархию Отиа», – закпючает
авторОпровержения; он утверждает, что Отец и Сын суть «одно и то
же» (εν και ιό αύτο), а различие между ними состоит исключительно в
именах, то есть в том, как они применяются по отношению к одному
и тому же Богу в различных ситуациях: Бог «исповедует Себя Сыном
перед теми, кто видел Его, в силу рождения, однако же не скрывает,
что Он – Отец, от тех, кто может это вместить (τοίς χωροΰσιν)» [222]. То.
что все это предстаалено в виде «логики» самого автора
Опровержения, позволяет предположить, что мы имеем дело с
полемическим искажением, в ходе которого первоначальное
утверждение, что Христос – это истинный Бог, подменяется
утверждением, что Христос Сам является Богом, в отношении
Которого в разные временные моменты употребляются имена Отца и
Сына. Однако одновременно с этим в пересказе признается попытка
Ноэта и его последователей различить, с одной стороны, то, что
видно всем, то есть Сына, рожденного от женщины, и, с другой
стороны, – Его божественность, которую автор полемически
представляет как отождествление Сына с Отцом. Основываясь на
такой дифференциации, понятой как стремление отстоять
«монархию» Бога, автор Опроверженияпереходит к изложению
патрипассианизма Ноэта и его последователей, причем, по
замечанию Хейне, делает это с таким сарказмом, что
«представляется невероятным... чтобы ктолибо мог действительно
строить свое учение в таком виде, как это здесь описывается» [223]. Как
продолжает Хейне, вданном описании Бога как единого субъекта,
вместо прилагательных с противоположным значением
«смертный/бессмертный»(в1׳г)1сл ׳άθάνατον), как это было бы у
Гераклита (ср. Опр. 9.9.1), автором используются причастия
«умирающий и не умирающий» (άποθανόντα και μή άποθανόντα, Опр.
9.10.12), а поскольку последние содержат указание на действия, то,
повидимому, мы имеем делос попыткой провести различие между
Тем, Кто принял смерть, и Тем, Кто ее не принимал [224].
Правдивость данного предположения усиливается тем фактом, что
именно такая позиция была вскоре недвусмысленно выражена
Зефирином. СогласноОпровержению, Зефирин был «глупым и
необразованным человеком», которого приобщил к учению Клеомена
Каллист, в то время «охотившийся за троном епископа» (Опр. 9.11.1).
В Опровержении зафиксированы всего два высказывания Зефирина,
которые представлены как публичные высказывания, сделанные (по
различным поводам) по наушению Каллиста (Опр. 9.11.3). Первое
высказывание выражает уже знакомый христоцентричный фокус
рассматриваемой здесь традиции: «Признаю единого Бога, Иисуса
Христа, принявшего рождение и страдание, и, кроме Него, никого
другого», в то время как второе напрямую отвергает обвинение в
патрипассианизме, выдвинутое в адрес этих богословов: «не Отец
умер, а Сын». Тем самым патрипассианизм в открытой форме
отрицается, и в то же самое время утверждается христоцентричный
монотеизм. Тем не менее Опровержение не проясняет, каким
образом Зефирину удалось примирить монотеизм с различением Отца
и Сына.
Преемником Зефирина стал Каллист, и именно противостояние с
Каллистом автор Опровержения рассматривает как свою
«величайшую борьбу» [225]. Как раз в этом контексте на сцене
появляется также Савеллий. Первоначально Савеллий, по всей
видимости, входил в круг, близкий автору Опровержения.Пока
последний был наставником Савеллия, тот «еще не ожесточил своего
сердца», затем же, став близким собеседником Каллиста, он начал
склоняться к учению Клеомена (Опр. 9.11.1 -2); но после того, как
Каллист заступил на место Зефирина, он изгнал Савеллия как
«неправомыслящего» (Опр. 9.12.15). Автор Опровержения заявляет,
что Каллист сделал это «из страха передо мной, полагая, что таким
путем он сможет стереть обвинение, [разосланное по] церквям (τήν
πρός τάς έκκλησίας κατηγορίαν), что в мыслях он ничем не отличается
от Савеллия» (Опр. 9.12.15). Обвинение в том, что Каллист держался
той же позиции, что и Савеллий. ставит под сомнение предыдущее
обвинение, по которому
5 Становление христианского богословия: Путь к Никсе именно
Каллист несет ответственность за «порчу» Савеллия – в данном
случае Савеллий представлен уже как глава опознаваемой
(савеллианской) ереси, с которым авторОпровержения желает
ассоциировать также Каллиста. Тем не менее учение Савеллия даже
не упоминается в Опровержении; его имя появляется на страницах
этого произведения исключительно для того, чтобы очернить
репутацию Каллиста – измазать ее дегтем, причем в качестве кисти
выступает Савеллий, к тому времени уже, видимо, окончательно
запятнавший себя. Вероятно, именно в ответ на это обвинение
Каллист дистанцировался от Савеллия, который, в свою очередь,
обвинил Каллиста в «отступлении от его первой веры» (τήνπρώτην
πίστιν, Опр. 9.12.116). К IV в. Савеллий уже повсеместно известен как
человек, который проповедовал совершенное тождество Отца и Сына
и который утверждал, что они представляют собой «одно лицо» [226].
Правливость данного описания теперь оценить невозможно – все, что
можно сказать по этому поводу. – это что фигура Савеллия, поданная
в таком виде, отбросила длинную тень на историю последующего
богословия.
Дав описание всей этой интриги, Опровержение предоставляет
краткие сведения об учении Каллиста и заключает, что временами
Каллист придерживался учения Савеллия, а временами – Феодота;
при этом On-ровержение очевидным образом не в состоянии понять
логики, которой придерживался Каллист (Опр. 9.12.19). Изложение
взглядов последнего открывается утверждением, что он «говорил,
что само Слово есть Сын, и что само Оно зовется именем Отца, но это
один неразделимый дух» (Опр. 9.12.16). Это первый и единственный
раз, когда термин «Слово» появляется в описаниях рассматриваемой
здесь богословской традиции, и, похоже, оно выдает неспособность
оппонента Каллиста понять его понимание Сына какимлибо иным
образом, кроме своего собственного [227]. Однако из последующего
становится ясно, что учение Каллиста о Сыне исходит не из некоего
абстрактного понятия «Слова», а из представления о воплотившемся
и видимом Иисусе Христе. Цитируя слова Христа, сказанные
Филиппу, что Он во Отце и Отец – в Нем (Ин. 14:10), поясняющие,
каким образом видящий Христа видит Отца, Каллист делает
следующий комментарий: «Ибо то, что видимо, то есть человек, – это
Сын, но дух, находящийся в Сыне, – это Отец»(Опр. 9.12.18), то есть
локусом откровения здесь выступает человек, Иисус Христос; Он –
Сын, и в Нем мы видим Отца. Присутствие Отца в Сыне в качестве
«духа», возможно, представляет собой отзвук Ин. 4:24;
божественность Сына, которая не иная, чем божественность Огца,
описывается им просто как «дух», что, возможно, подразумевает
необходимость осмысления Христа «по Духу» так же, как и «по
плоти», чтобы увидеть Христа как Бога [228]. На основании этого
Каллист продолжает: «Я не буду говорить о двух Богах – Отце и Сыне,
но об одном» (Опр.9.12.18), – не потому, что Сын – обычный человек,
види-
мый Иисус Христос, что было бы точкой зрения Феодота (а ее-
τοОпровержение и приписывает Каллисту), но потому, что именно
Отец открывает Себя в Нем, если смотреть на Него «по духу», а не
некий иной или второй Бог. Изложение учения Каллиста
продолжается обвинением втом, что он якобы говорил, что Отец был
рожден во плоти, так что единого Бога следует называть и Отцом, и
Сыном, ибо они оба – «одно лицо». Похоже, что автор Опровержения
вновь пользуется здесь своими собственными философскими
соображениями или же, что также возможно, пытается увязать его
учение с Савеллисм [229]. Наконец, пересказ оканчивается
признанием, что Каллист «не хочет сказать, будто Отец пострадал»,
но при этом учит, ч то «Отец сострадал с Сыном» [230]. Как и в случае с
Зефирином, Каллист, повидимому, пытается найти некий способ
высказывания, позволяющий, с одной стороны, показать реальность
того, что Бог вовлечен в страдание Иисуса на кресте, что это
страдание выражает премудрость и силу Бога, а с другой – сохранить
различие между Сыном, Который умер, и Отцом, Которого Сын явил
[231]
.
«Истинное рассуждение» в Опровержении
Богословская перспектива автора Опровержения, которую он
представляет в заключении под заглавием «Истинное рассуждение о
Божественном» вслед за своим пространным изложением ересей
(Опр. 10.32 -4; 34.1), весьма отличается от перспективы его
оппонентов. Неизвестно, в каком виде последние сами представили
бы свои богословские взгляды, будь у них такая возможность, однако
несмотря на полемический окрас становится ясно, что в центре
внимания этих богословов и вероятной отправной точкой их
размышлений был Иисус Христос, посредством страданий явивший
Бога Отца. В противоположность этому, отправной точкой
«Истинного рассуждения» выступает не толкование личности
Иисуса, которое брало бы за основу Писание, а некая философская
абстракция: для начала задаются рамки того, как следует рассуждать
в отношении Бога, Слова и творения, в то время как имя Иисуса
вообще не упоминается. «Истинное рассуждение» начинается с
описания «первого и единственного, одного Бога», Творца и
Господина всего, Который «был один, одинок и Сам по Себе» (Опр.
10.32.1). За исключением этого Бога не было ничего вечного; Он же
Своей волей сотворил все веши, бытие которых, поскольку они
составлены из разнообразных элементов, подвержено распаду и
смерти (Опр. 10.32.1-4). Вслед за описанием Бога и творения автор
комбинирует элементы платонической и стоической философии,
чтобы объяснить, каким образом данный Бог был в действительности
не один, но имел при Себе Слово, при помощи Которого и был
сотворен мир:
Единственный и всевышний Бог, помыслив, породил сначала Слово
(λόγον πρώτον εννοηθείς άπογεννα) – не Слово как звук (ού δέ λόγον ώς
φωνήν), а внутренне присущую причину всего (ένδιάθετον τοΰ παντός
λογισμόν). Только Его, из всего приведенного Богом в бытие, Он
породил, ибо из самого бытия Бога Оно родилось. Слово же, носящее
в себе волю Отца, от которого ролилось, и не чуждое замыслу Отца,
стало причиной всего сотворенного. Происходя от Породившего, Оно
стало Его Первородным, как голос, содержащий в себе идеи,
зародившиеся в уме Отца. Когда же Отец повелел, чтобы был создан
мир, то Слово усовершило каждую вещь, угодную Богу(Опр.
10.33.1-2).
Несомненно, Слово Бога понимается здесь не просто как
высказывание Бога, Его голос, но как независимая действующая
сила, способная знать Отца и исполнять Его волю; если Слово можно
сравнить с голосом, то в том смысле, что Оно способно передавать
мысли, содержащиеся в уме Отца. Это то Слово, которое привело в
бытие все творение: землю и небо, животных и их правителя –
человека (Опр. 10.33.310 )־. «Истинное рассуждение» утверждает,
что точно так же, как Он родил СловоБога, Бог мог и человека
создать «богом», однако Он предпочел создать человеческие
существа, которые, если возжелают «стать богом», могут сделать это
через послушание [232]. В то время как все было сотворено из ничего
(έξ ούδενός). Слово одно имеет происхождение от Бога, «а
следовательно. Оно – Бог, ибо является Божиим»[233]; Оно –
«перворожденное дитя Отца» (ό πρωτόγονος πατρός παις),
управляющее всем творением (Опр. 10.33.11).
Наметив базисную структуру и рамки своего богословия, «Истинное
рассуждение» переходит к краткому обзору того, как человек был
направляем Законом и Пророками – вплоть до последних дней, когда
Отец «послал это Слово говорить уже не через пророка, дабы [Оно] не
было предметом догадок из-за того, что провозглашалось неясно, но
было явлено зримо»; так, чтобы видя «присутствие самого
говорящего», а не только слыша Его повеления, передаваемые
пророком, или ощущая страх, навеваемый ангелом, мир смог
окончательно убедиться в Нем (Опр. 10.33.14). В следующем за этим
анализе того, каким образом Словоприсутствует и что является
результатом Его присутствия, акцент делается почти исключительно
на установленной Словом модели для подражания. Получив плоть от
Девы, Слово прошло все стадии жизни, показав образец для всех, –
эту мысль мы уже встречали у Иринея, однако последний видел
смысл того, что Христос совершил, шире – как освящение и спасение
каждого возраста [234]. «Этот человек» был той же природы, что и мы,
поэтому вовсе не напрасно и не случайно данное нам наставление
«подражать учителю» (Опр. 10.33.16). Более того, «дабы Его нельзя
было мыслить отличным от нас, Оно (Слово] приняло на Себя тяжкий
труд, пожелало быть голодным, не отказалось испытывать жажду,
погружалось в сон, не сопротивлялось своему страданию, было
послушно даже до смерти и явило воскресение, предлагая как первые
плоды во всем этом своего собственного человека» (τόν ίδιον
άνθρωπον); и все это было предпринято для того, чтобы мы не
приводились в уныние своим собственным страданием, но чтобы,
«признавая себя человеком, ты тоже мог ожидать того, чем Бог
одарил Его» (Опр. 10.33.17). Те, кто получил наставление в гаком
познании истинного Бога, способны, согласно «Истинному
рассуждению», избежать адских мучений; те же, кто познал небесное
Царство, еще живя на этой земле, станут «сонаследниками с
Христом» в бессмертном и нетленном теле, которое не подвержено
ни страданию, ни страсти, ни болезни, ибо они будут «обожествлены»
и «еделаны бессмертными», «став богом» (Опр.10.34.2-4).
Становление человека богом, очевидно, является ключевой темой
«Истинного рассуждения», начиная с рассуждений по поводу
творения человека (Опр.10.33.7) и вплоть до заключительных слов;
«Ибо Бог не беден, и Он сделает тебя богом во славу Свою» (Опр.
10.34.5). Это позволяет автору предложить новое смелое толкование
известному предписанию Дельфийского оракула: «вот что значит
«познать себя» – познать Бога Творца; ибо для того, кто призван Им,
познать себя [235] значит быть познанным | Им |» (Опр. 10.34.4). Здесь
Бог становится объектом знания, но познается Он теми, кто призван,
через их познание самих себя и Божиих актов творения, цель которых
– сделать их богами. Модель для всего этого задается, конечно,
воплощенным Словом, проясняющим то, о чем туманно говорили
пророки. Однако, не считая нескольких незначительных аллюзий,
здесь почти совершенно отсутствует попытка понять Иисуса Христа
путем обращения к Писанию, а также того, каким образом Он являет
Отца. В действительности данное описание имеет больше общего с
неким гностическим мифом, говорящим о временном пребывании на
земле божественного зона, который был послан, чтобы научить
избранных знанию, которое и может привести их к спасению и
обожению. Принимая во внимание то, что мы в состоянии заключить
о взглядах оппонентов автора «Истинного рассуждения», Зефирина и
Каллиста, контраст не мог бы быть более резким.
Ипполит
Как представляется, в сочинении под названием Contra Noetum была
предпринята попытка занять срединную позицию между
упомянутыми двумя точками зрения. В качестве автора данного
текста обычно имеют в виду Ипполита, считая, что он создал его в
стенах той же «школы», что и описанное выше Опровержение.
Первая часть данного сочинения описывает заблуждения ноэтиан,
однако уже в этом опровержении их учения Ипполит формулирует то,
что ляжет в основу его собственной позиции: он обвиняет Ноэта и его
последователей в произвольном использовании Писания и в
непонимании гармонии, которая существует между пророками и
апостолами, которые вместе говорят об одном и том же Христе
Иисусе, Слове Отца (ПН4.5). Разобравшись с Ноэтом, Ипполит
переходит к собственному «Доказательству истины», начиная его с
эмфатического утверждения, которое задает его проекту совершенно
иную богословскую траекторию, нежели та, по которой двигался
автор Опровержения: «Бог – один, и мы обретаем наше знание о Нем,
братия, из единственного источника, Священных Писаний» (ПН
ЭЛ).Поэтому, продолжает Ипполит, именно эти Писания следует
исследовать, чтобы увидеть, как в них говорится об Отце, Сыне и Св.
Духе, чтобы мы смогли уверовать в Отца, прославить Сына и принять
Духа таким образом, каким Отец возжелал Сыну быть
прославляемым, а Духу – раздаваемым; «это тот образ, каким Бог Сам
решил открыть их (то есть Сына и Духа] через Священные Писания
(ПН 9.2.-3). Возвещаемый Писаниями Бог «один, и ничто не
существует одновременно с Ним», ибо все было сотворено, как Он
пожелал(ПН 10.1). Однако Он не был совершенно одинок, «ибо был
множеством» (πολύς ήν), и не был лишен слова или премудрости,
силы или разума, но все было в Нем, и Он был всем (ПН 10.2). Более
подробно, «когда Он возжелал, как Он возжелал, в Им Самим
назначенное время. Он явил Свое Слово (έδειξεν τόν λόγον αύτου),
через Которое Он сотворил все (ПН 10:3). Речь идет о Слове, Которое
явлено Отцом, то есть о Христе Иисусе, Который есть Слово Отца
(77//4.5), Тот, через Которого Бог в начале сотворил мир. «Он родил
Слово» – продолжает Ипполит, – как «Начальника» (ср. Деян. 3:15),
«Советника» (ср. Ис. 40:13) и «Художника» (ср. Притч. 8:30) мира;
«издавая первый звук»(лрогёрсге φωνήν φθεγγόμενος). Бог послал
творению Господа, «Его собственный Разум», сделав видимым то, что
прежде было видимо только Ему Самому, «так чтобы через Его
явление мир смог бы увидеть и получить спасение (ПН 10.4).
Отправной пункт такого богословского подхода – акцент на
спасительном явлении Господа, Разума Отца и Его Слова, Который до
этого откровения был известен только Отцу, будучи лишь «звуком»
для мира. Таким путем, продолжает Ипполит, «другой встал рядом с
Ним» (ούτως αύτφ παρίστατο έτερος), причем, говоря «другой»,
уточняет он, речь идет не о «двух богах» (ПН 11.1), но как свет от
света, вода из источника, солнечный луч от солнца, так есть только
один Отец и одна Сила или Слово от Него (ПН 11.1), так что свет,
видимый в
Слове, есть ничто другое, как свет Самого Отца. Наряду с таким
отрицанием принадлежности к «дитеистам» Ипполит также резко
дистанцируется от Валентина и других учителей, «предполагающих
целую толпу богов, эманирующих в различные моменты» [234].
Уточнив, что богословское осмысление должно полагать своим
началом видимое явление Слова в Писании и то, что оно открывает о
Боге, Ипполит переходит к рассмотрению того, каким образом Закон
и Пророки действительно свидетельствуют о Нем. Будучи
вдохновлены Духом, пророки, в частности, «ухватили дыхание Силы
Отца», так что они могли возвестить совет и волю Его (ПН 11.4); в
свою очередь, Слово «обитало (πολιτευόμενος) в них и извещало
(έφθέγγετο) о Себе, являясь Своим собственным вестником,
показывая, как Слово явится среди людей» (ПН 12.1). Это Слово
является через посредство библейского слова, о чем, по мнению
Ипполита, свидетельствуют слова Исайи: «Я открылся не искавшим
Меня» (Ис. 65:1 (LXX); ПН 12.1-2). Иоанн «рекапитулирует»то, что
говорили пророки, вначале Пролога к своему Евангелию (/7// 12.3), а
потому только «воплощенное Слово мы созерцали» (ПН 12.5). Однако
предметом созерцания является, строго говоря, не плоть, или не
просто плоть: Слою Бога уже было открываемо и до воплощения.
Иеремия, к примеру, говорил о нахождении в присутствии Господа и
видении Его Слова (Иер. 23:18), возвещая «Слово, которому надлежит
явиться» (ПН 13.1). В отличие от человеческой речи, которую можно
слышать, Слово Божие, как отмечает Ипполит, может быть видимо
(ПН13.2). Однако наиболее важен тот факт, что «видимое Слово»,
посланное Отцом, было послано именно через «благовесте Иисуса
Христа» (ср. Деян. 10:36, цит. в ПН 13.3). Другими словами, Слою
Божие, ставшее «явным» (εμφανής, ПН 13.1), – это возвещение Иисуса
Христа, благодаря которому мы можем узреть «воплощенное Слово»,
и именно это «видимое Слово» было темой тех слов, которые были
слышны из уст пророков от самого начала. Спустя несколько глав
Ипполит поразительным образом формулирует эту мысль, утверждая,
что «тем же самым образом, каким Он был юзвещаем. Он й стал
присутствовать» (ПН 17.4). «Воплощенное Слово», которое
одновременно и земное, и небесное (ПН 17.4), делается явным в
проповеди апостолов, которая вся соткана из материала Писания. В
трактате О Христе и Антихристе Ипполит развивает это положение
при помощи следующей обширной метафоры:
Слово Божие, будучи бестелесным, приняло на Себя святую плоть от
Святой Девы, как жених одежду, исткав ее Себе во время крестного
страдания, чтобы, срастворив смертное наше тело Своею силой и
смешав тленное с нетленным, немощное с сильным, – Он мог спасти
погибшего человека.
Итак, собственно ткацкий станок – это страдание, которое
совершилось на кресте; основа же на нем – сила Духа Святого; уток –
это та святая плоть, которая была выткана в Духе; ниченки же – это
благодать, (даруемая) чрез любовь Христа, которая скрепляет и
соединяет то и другое воедино; челноки – это Слово, а трудящиеся
(ткачи) – патриархи и пророки, исткавшие Христу красивый подир и
совершенный хитон, проходя чрез которые, наподобие челнока,
Слово вытыкает чрез них то. чего именно желает Отец [237].
Плоть Слова, полученная от Девы и сотканная «во время крестного
страдания», соткана патриархами и пророками, деяния и слова
которых возвещают о том, как Слово пришло и стало явным. Именно в
проповеди Иисуса Христа, в возвешении Умершего на кресте.
Которого объясняют и понимают исходя из матрицы, то есть во чреве.
Писания, Слово обретает плоть от Девы. Дева же в этом случае, как
позже утверждает Ипполит вслед за Огкр. 12, есть Церковь, которая
«не престанет рождать от сердца Слово, гонимое в мире от
неверных», ибо младенец мужского пола. Которого она носит, –
Христос, о Котором возвещали пророки, и Его всегда рождает
Церковь, «проповедуя Бога и человека, учит сему все народы» [23]*.
Для объяснения того, как возвещаемый таким образом Сын
соотносится с единым Богом и Отцом, Ипполит привлекает идею
«домостроительства» [239]. Исповедание единичности Бога не
предполагает отказа от домостроительства (77Я3.4), в котором
очевидным образом действуюттри «лица» (πρόσωπα): Отец, Сын и Дух
(ПН 14.1-3) – не просто три разных модуса проявления, но
«действительно три» (όντως τρία, ПН 8.1). Несомненно, Бог – один, и
это видно по тому, что деятельность Бога едина; однако проявление
этой деятельности в домостроительстве «троично» (τριχής, ПН 8.2),
ибо Отец повелевает, Сын исполняет эти повеления, а открывается
это в Духе (ПН 14.4-5). Сам Иисус Христос, собственное Слово Отца,
является сердцем этого проявления, поскольку Он есть «таинство
домостроительства» (ПН4.5). Слова Исайи, неверно понятые
ноэтианами («в тебе Бог», Ис. 45:14 LXX), являют собой «таинство
домостроительства», поскольку они говорят об Отце в Сыне и о Сыне
во Отце, когда Слово стало плотью и обитало среди людей (ПНАЛ,
ср.; Ин. 14:10). Размышляя о постепенном откровении Отца, Сына и
Духа, Ипполит заключает, что иудеи не узнали Сына и потому были
неспособны возблагодарить Отца, в то время как ученики узнали
Сына, но не в Духе, а потому даже они отверглись Его. Исповедание
единого Бога надлежащим образом предполагает способность видеть
Отца в Сыне посредством Духа: «посредством этой триады (τριάδος)
прославляется Отец; ибо Отец возжелал, Сын привел в действие, а
Дух (это] открыл. И все Писание возвещает об этом»(ПН 14.8). Только
Духом весть о Христе в Писании открывается с такой стороны, что
Отец прославляется в Сыне, исполнившем Его волю; как говорит
Павел, только Духом человек может назвать Иисуса Христа Господом
(ср.: I Кор. 12:3), тем самым показывая, как Писание говорит о Христе
и как, в качестве Сына, Он являет Отца.
Прежде чем перейти к длинному и красноречивому заключению,
Ипполит отвечает на возможное возражение: «Но, скажет мне некто:
для меня странно звучит, когда ты называешь Сына «Словом». Иоанн
действительно употребляет «Слово», но он, скорее, говорит
аллегорически» (άλλ άλλως άλληγορει, ПН 15.1). Ипполит изо всех
сил отвергает, что термин «Слово» следует воспринимать в виде
образа. Его изложение, как мы видели, начинается с проповеди
Иисуса Христа, и именно ее Ипполит описывает как Божие Слово. Он
указывает, что именно об этом говорит и сам Иоанн, когда в
Откровении Слово предстает в виде всадника на белом коне,
облеченного в одежду, обагренную кровью (ПН 15:2; ср.: Откр.
19:11-13). Схожим образом и пророки говорили о Его страдании во
плоти (ПН 15.4, Мих. 2:7-8), а также Апостол (ПН 15:5, Рим. 8:3-4).
Это га самая весть, которая возвещалась Словом через пророков с
самого начала и которая делается воплощенной в апостольской
проповеди Иисуса Христа; согласно Ипполиту, понимание термина
«Слово» в любом другом смысле было бы аллегорией. Однако еще
прежде Его актуализации о Слове говорится как о том, чему
надлежит состояться, и потому Отец обращался к Слову как «к Сыну,
предвидя то, что случится с Ним в будущем» [240], так как именно
Иисус Христос есть вечный Сын Божий. Размышляя об этом, Ипполит
делает следующий комментарий:
Ни не имеющее плоти и [пребывающее] Само по Себе Слово не было
совершенным Сыном, хотя, будучи Словом, Оно и было совершенным
Единородным; ни плоть сама по себе не могла существовать отдельно
от Слова, поскольку она имеет существование в Слове. Поэтому
таким образом явлен был единый совершенный Сын Божий [241].
Ориген (ок. 185 – ок. 254 гг.) посетил Рим во времена Зефирина (ЦИ
6.14.10), в самый разгар разворачивавшихся там дебатов. К этому
моменту Ориген уже приобрел репутацию достаточно известного
александрийского учителя. Несмотря на попытки Евсевия построить
непрерывную последовательность учителей, возглавлявших
«Огласительное училише» Александрии, которые находились в
юрисдикции непрерывной последовательности епископов, реальная
структура александрийского христианства, вероятно, была
значительно ближе к ситуации в Риме: как и в Риме, в Александрии
существовали различные группы, объединенные вокруг почти
независимых друг от друга учителей [243]. В александрийском
христианстве начала II в. доминировали учителя типа Василида и
Валентина, являющихся на самом деле единственными
представителями этого периода, о которых нам чтолибо известно [244].
Евсевий желал акцентировать церковное значение Оригена, по
крайней мере из своей перспективы IV в., и потому писал, как
Оригена избрали руководителем «школы катехизиса» (Ζ///6.3.8), где
он сменил своего учителя Климента (ок. 150 – ок. 2! 5 гг.), который, в
свою очередь, пришел на смену Пантену (ЦИ6.6.1). Однако в другом
месте тот же автор называет Пантена руководителем «школы
верующих» (ЦИ5.10.1), и хотя, почти точно, Климент учился у
Пантена наряду со многими другими учителями [245], Евсевий, похоже,
подразумевает, что Пантен и Климент вместе были частью группы по
изучению «Божественных Писаний» (ЦИ 5.11.1). Более того, хотя
часть работ Климента предназначена д ля готовящихся принять
святое крещение, предлагаемое им учение не ограничивается этой
темой. Его наставление развивается далее, достигая высших сфер
эзотерической экзегезы и богословского видения; как и Пантен,
Климент обучал верующих, и в особенности – заинтересованных в
более глубоком понимании христианства. Кроме того, оба – Пантен и
Климент – упоминаются как «пресвитеры», что, вероятно,
подразумевает функцию священника в полном объеме [244]. Сам
Климент может использовать термин «пресвитер» взаимозаменяемо с
«епископом», а когда он пишет о тех, кто сохранил «истинное
предание благословенных учений, идущее прямо от святых
апостолов», он говорит именно об «учителях» [247]. Несмотря на
предшествующую терминологическую текучесть, Иероним
предполагает, что до середины третьего столетия у пресвитеров
александрийских общин было обычаем избирать из своего ранга
одного, чтобы он занимал «более высокое положение в качестве
епископа» [248]. Первым «епископом» Александрии, о котором Евсевий
приводит сведения, сверх имени и предполагаемых дат пребывания
на кафедре, был Димитрий, «получивший епископат от тамошних
обшин» приблизительно в 189 г. [249] Однако скольнибудь важную роль
в изложении Евсевия Димитрий начинает играть значительно позже
[250]
. После того, как отец Оригена стал мучеником во времена
гонений при префекте Лаэте (201-3 гг.) и его семья осталась в нужде,
некая состоятельная дама взяла Оригена к себе в дом и создала ему
возможность продолжать учебу до тех пор, пока он не смог
зарабатывать себе на хлеб преподаванием (ЦИ 6.2.2-13). Еще одним
ее «приемным сыном» был некий еретик из Антиохии по имени
Павел, который «собирал вокруг себя многое множество людей, не
только еретиков, но и наших». Евсевий специально подчеркивает, что
Ориген никогда не присоединялся к Павлу в молитве (ЦИ6.2.13-14).
Описание Евсевия не содержит указан ий на то, что эта достаточно
эклектичная груп-па собиралась в доме своей благодетельницы
помимо или вместо собраний в церкви. Но вне зависимости от этого
складывается впечатление, что даже в этот период в Александрии
существовал целый ряд подобных общин и что отношения и границы
между такими домашними церквями были не вполне ясными, –
похоже, что подобная ситуация была преобладающей вплоть до
середины JII века [251]. Гонения на христиан возобновились при
префекте Аквиле (206 – 11 гг.). В это время христианские учителя
бегут из Александрии, в связи с чем на долю Оригена выпадает
наставление тех, кто приходит, «чтобы послушать Слово Божие» [252].
Вскоре у него появляется целый ряд учеников, многие из которых
становятся мучениками. Ориген бесстрашно сопровождает их на суд,
ему постоянно угрожают, однако самого ни разу не
арестовывают(////6.3-5). Когда по прекращении гонений (ок. 211 г.) в
Александрию возвратился Димитрий, ему ничего не оставалось
делать, как похвалить Оригена за труды, однако, похоже, епископ
также попытался включить деятельность Оригена в орбиту своего
влияния, поручив «труд оглашения ему одному» [253]. Педагогическая
деятельность прежде самостоятельных учителей была поставлена на
службу епископов именно в этот период, параллельно с
формированием монархического стиля самою епископата, так что
только с этого момента можно реально говорить об Александрийском
«Огласительном училище» [254].
Это новое сотрудничество породило, однако, также некоторую
напряженность. В письме, которое было написано после
окончательного отъезда из Александрии, Ориген посчитал своей
обязанностью высказаться в защиту изучения философии и
еретических учений (отрывок этого письма сохранился у Евсевия в
ЦИ6.19.12-14). Однако тот же Евсевий сообщает, что, приняв
предложение Димитрия, Ориген полностью оставил преподавание
грамматики и литературы – частично по причине обилия учеников,
однако главным образом потому, что такое преподавание было
«несовместимо с изучением слова Божия». Он даже расстался со
своей любимой коллекцией античной литературы – в обмен на
скудный фиксированный доход, который и поддерживал его в его
новой профессиональной деятельности (ЦИ 6.3.8-9). Таким образом,
огношения между этим христианским учителем и его епископом
были уже едва «теплящимися» [255]. Как раз в этот период Ориген
посетил Рим, возможно, в поисках более подходящей среды для своих
занятий и преподавания [256]. По возвращении из Рима учебный
процесс в училище был реорганизован. Согласно Евсевию, Ориген
поручил «своему ученику» Гераклу «начальное преподавание», в ־гот
время как сам он стал обучать только более продвинутых (ЦИ
6.15). Однако более вероятно, что не обошлось без прямого участия
Димитрия, в связи с чем Ориген был смешен со своей прежней
должности [257]. Скорее всего, разногласия были преимущественно
личного плана; меньше всего они касались программы обучения или
вопроса о преподавании философии, поскольку сам Геракл к этому
времени был уже известным философом, возможно, даже более
известным, чем Ориген [258]. В своем письме, написанном после
окончательного отъезда из Александрии (ок. 232 г.), Ориген
указывает, что Геракл посещал лекции знаменитого философа
Аммония Сакка на пять лет дольше его самого, и замечает несколько
насмешливо, что, несмотря на то, что Геракл теперь «заседает в
Александрии в совете священников», он все еще носит мантию
философа и изучает сочинения греков (ЦИ 6.19.13-14). По подсчетам
Евсевия, Геракл сменил Димитрия в качестве «епископа»
Александрии (ЦИ6.26), в то время как следующий глава
Огласительного училища Дионисий (еще один «ученик» Оригена), в
свою очередь, стал епископом после Геракла (ЦИ 6.29.4; 6.35). Этот
процесс слияния «школы» и «церкви», похоже, продолжалось вплоть
до кончины Феоны (300 г.), когда стоявшего во главе училища Пиэрия
сместил протеже Феоны, Петр.
Вернувшись в Александрию после посещения Рима, Ориген при
поддержке своего состоятельного патрона Амвросия, которого он
отвратил отвалентинианства (ЦИ 6.18.1), приступил ксозданию
Комментария на Псалмы и других сочинений на более отвлеченные и
философские темы. Напряжение между Оригеном и Димитрием
усилилось, когда Ориген представил аллегорическое толкование
истории творения в Комментарии на Бытие. Попытки отстоять
чистоту своей веры и оправдать свой метод толкования,
представленные в работе О началах, еще более обострили ситуацию,
– до такой степени, что «в городе возникла целая война» [259]. Ориген
покинул Александрию и отправился в Палестину, где его приютил
Александр Иерусалимский (ок. 230 г.). В течение всего срока
пребывания в гостях у последнего местные епископы приглашали
Оригена проповедовать и изъяснять Писание народу. Однако
считавшееся нормальным в Палестине шло вразрез с видением роли
епископа, которое складывалось в это время у Димитрия, и
последний выступил с протестом: неслыханно, чтобы мирянин
проповедовал в церкви в присутствии епископов. На такую претензию
Александр ответил просто: «Зачем он говорит явную неправду?» – и
привел прецеденты подобной практики (ЦИ6.19.17). В конечном
итоге Ориген вернулся в Александрию, чему способствовали
диаконы, специально присланные для уговоров Димитрием (ЦИ
6.19.19): тем не менее позиция Оригена в отношении церкви сильно
не совпадала с взглядами последнего. Когда, вернувшись в
Александрию, Ориген приступил к написанию обширного трактата
Комментарий на Иоанна, то первую книгу он открыл утверждением,
что истинные левиты, священники и первосвященники – это «те, кто
посвящает себя Божественному Слову и все существование которых
заключается в служении Богу» [260]. Эти слова он позже отнес к
самому себе (ИИ6.19.12), что также совпадает с обшей
характеристикой Оригена, пронизывающей описание Евсевия. На
какое-то время между Димитрием и Оригеном установилось
перемирие, однако, вероятнее всего, в 232 г. Ориген покинул
Александрию навсегда.
После недолгого пребывания в Афинах он поселился в Кесарии
Палести некой[261], где продолжил преподавать, выступать с
проповедями и писать свои сочинения. Здесь он завершил работу над
Комментарием на Иоанна, а также составил множество других
комментариев и гомилий на книги Писания, наряду с такими
сочинениями, как, например. Contra Celsum. Кроме того, к нему
обращались за разрешением разного богословских проблем, смысл
которых будет обсуждаться нами в следующей главе; в Кесарии
Ориген пребывал вплоть до своей кончины – мучеником при Деции
(ок. 250 – 1 гг.) или несколькими годами позже. Письменное наследие
Оригена феноменально – по различным данным, он написал от двух
до шести тысяч произведений. Однако этот корпус не дошел до нас
целиком: частично по причине его гигантского объема (из-за
сложностей с копированием манускриптов), но главным образом – из-
за споров, которые развернулись вокруг имени Оригена и его
наследия при его жизни, а в еще большей степени после его смерти,
вплоть до момента, когда Ориген был окончательно осужден как
еретик на Втором Константинопольском Соборе (533 г.). Небольшое
количество произведений разной степени фрагментарности
сохранилось на греческом языке [262], немного больше – в латинских
переводах Иеронима и Руфина, однако основная часть творений была
попросту утеряна [263]. Требуется большая осторожность при
использовании работ, сохранившихся только в латинском переводе. В
особенности это касается трактата О началах, хотя в случае с этим
текстом еще аккуратнее нужно подходить к тем его греческим
фрагментам, которые цитировались Юстинианом и другими поздними
критиками александрийского богослова. Принимая во внимание
такую разнородность дошедших до нас текстов, не приходится
удивляться, что Ориген и его наследие вызывали и вызывают в наши
дни столь широкий спектр оценок [264]. Прежняя тенденция
выставлять его в образе систематического богослова и теоретика,
основывавшаяся на сочинении О началах и на осужденной в VI в.
версии «оригенизма», в целом уступила дорогу более
благожелательному образу Оригена как экзегета. Однако сам Ориген
не мог бы понять подобного разграничения. поскольку для него
любое богословское размышление носило в конечном итоге
экзегетический характер.Комментарий на Иоанна, работа над
которым началась еше в Александрии и который сохранился и дошел
до нас на греческом языке, делает это положение предельно ясным –
этот текст и станет отправной точкой данной главы.
Иисус Христос, Евангелие и Писание
В первых книгах Комментария на Иоанна Ориген непосредственно
обращается к вопросам, которые обсуждались в Риме во время его
пребывания в этом городе. Ранее эти вопросы уже легли в основу его
книги Оначалах, они же будут удерживать его внимание вплоть до
самых последних лет, когда он будет писать Contra Celsum. Основной
посыл Оригена заключается втом. что процесс богословствования не
должен останавливаться на уровне плоти, будь то плоть Самого И
исуеа или плоть П исания, то есть его буква и буквальный смысл, но
мысль должна проникать за этот покров, к уяснению Самого Божия
Слова. Столь же важной для него в этой связи является
необходимость утверждения вечного самостоятельного
существования Божия Сына наравне с Богом Отцом. Такое
утверждение неразрывно связано для него с предыдущим, поскольку,
по Оригену, те, кто имеет сомнения относительно особости
существования (ύπόστασις) Сына или характера Его бытия (ούσία),
предпочитают обозначать последнего как «Слово», в результате чего
из всего разнообразия имен, которыми Писание обозначает Божия
Сына, только в случае с этим именем они отказываются
анализировать точный смысл его употребления (Ком. Ин. 1.151-3).
Таким образом, для Оригена любое богословие и формулировки
требуют осознания своего собственного экзегетического измерения.
В Комментарии на Иоанна Ориген очерчивает экзегетические рамки
своего богословского анализа, начиная данное сочинение с
подробного анализа отношений между Писанием – Законом и
Пророками – и Евангелием [265]. «Евангелием» при этом он называет
не только «повествование о делах, страстях и словах Иисуеа» (Ком.
Ин. 1.20), но и все сочинения, которые «описывают пребывание
(επιδημία) Христа и готовят к Его приходу (παρουσία), и производят
это в душах хотящих принять Слово Божие, Которое стоит у дверей и
стучит, и желает войти в их души» (Ком. Ин. 1.26). Евангелие тем
самым есть «увещевающее обращение» (Ком. Ин. 1.18), которое
представляет Слово Божие слушателям таким образом, что они
обретают это Слово. Которое затем обитает в них. Отвечая на вопрос,
распространяется ли данное определение также на писания Закона
или Пророков, Ориген настаивает, что такое возможно лишь в
ретроспективе:
До пришествия Христа Закон и Пророки не содержали обетова-
ния, относящегося «определению Евангелия, поскольку Тот, Кто
объяснил содержащиеся в них таинства, еще не пришел. Но когда
пришел Спаситель, став причиной того, что Евангелие воплотилось,
Он Евангелием все веши сделал подобными Евангелию [266].
Акцент на особом характере принесенного Христом откровения столь
силен, что это приводит Оригена к признанию за учением еретиков
типа Маркиона некоторой доли правды: «Можно действительно
согласиться с инославной точкой зрения, согласно которой Моисей и
пророки не знали Отца» (Ком. Ин.19.27). Как указывает Ориген,
несмотря на бесчисленное количество молитв в Псалмах и у
Пророков, ни одна из них не обращается к Богу как Отцу, а лишь
как.к Господу и Богу [267]. Однако он не готов согласиться на
онтологическое различение между Богом Ветхого Завета и Богом
Нового Завета, введенное богословием неправоелавного толка.
Напротив, сделав очевидную уступку Маркиону, Ориген немедленно
оговаривается, наделяя обозначение Бога «Отцом» новым значением:
изъясняя сокрытые в сочинениях Закона и Пророков тайнства,
Христос открывал духовный смысл Писания; являясь истинным
значением, это и есть то самое, что имелось в виду библейскими
авторами. В связи с этим последние, считает Ориген, уже «говорили
или писали о Боге как Отце тайно, а не таким образом, который был
бы понятен всем, чтобы им не предвосхитить благодать, излившуюся
на весь мир через Иисуса, призывающего всех людей к усыновлению,
чтобы Он Сам мог возвестить имя Божие братии Своей и восхвалить
Отца посреди собрания |Пс. 21:23, цит. в Евр. 2:12] в соответствии с
тем, что было написано [268]. Это означает, что, если Моисей и
пророки уже знали Бога как Отца, это знание тем не менее находится
в зависимости от благодати, даруемой только через Иисуса Христа.
Таким образом, рассматривая откровение Божие исключительно
через Иисуса Христа, Ориген показывает неизменность содержания
этого откровения. Более того, хотя он иногда и рассматривает
обозначение Бога «Отцом» в одном ряду с титулами «Господь»,
«Создатель» и «Судия», то есть как один из «аспектов» (έπίνοιαι)
Божества, здесь он исходит из того, что термин «Отец» должен
рассматриваться как само имя Божие, впервые открытое Сыном [269].
Таким образом, для Оригена не только отношение к Единородному
Сыну, Иисусу Христу, определяет Бога как Отца (а не более общее
отношение Бога к творению, описываемое платоновским
обозначением «Отец всего» [270]), но поскольку само имя «Отец» стоит
в отношении к Сыну, то сушествование Сына представляется как бы
неотъемлемой характеристикой самого бытия Божия [271]. Благая
весть об отцовстве Бога, открывающая для всех возможность
усыновления, становится универсальным содержанием Писания. Она
и есть более глубокий, духовный смысл Писания, явленный в том
толковании, которому научил Спаситель в Евангелии, которое
воплотилось по Его воле. Богословский тезис о том, что существует
только один Бог, Отец Своего Собственного Сына Иисуса Христа, и
усыновленные Отцу во Христе, неразрывно связан для Оригена с
экзегетическим подходом, всоответствии с которым сфера действия
Евангелия распространяется на Писание в целом.
В Комментарии на Матфея Ориген иллюстрирует это возрастающее
значение Евангелия, прибегая к образу Преображения на горе Фавор.
По его толкованию, видя Сына Божия, говорящего на горе с Моисеем,
ученики поняли, что это Он сказал: «Человек не может увидеть Меня
и остаться в живых» (Исх. 33:20), – они были не в состоянии вынести
это сияние Слова и поэтому пали на лица, смирив себя под Божию
руку. Но, продолжает он, «после прикосновения Слова, они подняли
глаза и увидели одного Иисуса и никого более. МоисейЗакон и
Илияпророчество (ή προφητεία) стали едины с [приходом | Евангелия
Иисуса; и уже не остались тремя, как прежде, но все три стали
одним» (Ком. Мф. 12.43). В этом состоянии преображения, к
которому мы должны будем вернуться ниже, не только Закон и
Пророки предстают перед учениками как Евангелие Иисуса, но и
само видение становится сутью восприятия преображенного Иисуса.
Проповедь Евангелия не делает Писание – Закон и Пророков –
лишними, и Евангелие не навязывает себя произвольно в качестве
истинного значения Писания. Закон и Пророки представляют собой
«обучение первоосновам» (στοιχείοχης), без знания которых
невозможно понять Евангелие. Однако, будучи истолкованы
надлежащим образом и поняты полностью, они ведут «к
совершенному пониманию Евангелия и всего смысла (νοΰν) слов и
деяний Иисуса Христа»[272]. Продолжая анализ Преображения, Ориген
обращает внимание на запрет Иисуса рассказывать об этом видении,
пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Мф. 17:9). По его
толкованию, это указывает на то, что слава Воскресения Христова
сродни (συγγενές) славе Преображения (Ком. Мф.12.43), в котором
Иисус стал единым со Своим Евангелием. Хотя полное откровение
Евангелия и предвосхищается Преображением, оно, тем не менее,
актуализируется только через Воскресение, и только в этот момент
ветхозаветные патриархи, наконец, приходят к познанию Бога как
Отца (Ком. Мф. 17.36).
Сделав это положение самым центром своего богословского
размышления, Ориген достигает двух принципиальных вещей.
Первая из них состоит в том. что именно человеческая природа
Спасителя создает саму возможностьдля Слова Божия быть
воспринимаемым [273]. Вовторых, благодаря такому центральному
моменту обеспечивается вечное и неизменное тождество Слова
Божия, то есть «доказывается, что Иисус есть Сын Божий и до, и
после воплощения» [274]. Кроме того, важно отметить, что откровение
Слова Божия фокусируется конкретным образом в Его спасительной
смерти на кресте [275]. Согласно Оригену, в то время как различные
чудеса, явленные Христом, могут быть обойдены молчанием, «для
возвещения Иисуса Христом необходимо, чтобы Его возвещали
распятым» (Ком. Мф. 12.19). В другом месте он прибегает к образам
Послания к Филиппийцам 2, неожиданным образом заявляя, что
через смерть на кресте «благость Христа явилась большей и более
божественной, и истинно в соответствии с образом Бога», чем если
бы Он остался «равным Богу» и не стал рабом ради спасения мира
[276]
. Потому именно через «домостроительство» Страстей Христос
являет Отца (Ком. Ин.32.359). В действительности для Оригена
«великое возвышение Сына Человеческого, которое произошло, когда
Он проелавил Бога Своей смертью, заключалось в том, [1]гго Он уже
ничем не был отличен от Слова, но был с Ним одно» (Ком. Ин.
32.325). Подобно тому, как в предыдущем фрагменте мы видели
преображенного Христа как Евангелие, охватывающее Закон и
Пророков, в данном случае тождество между Иисусом и Словом
Божиим заключается в Страстях, ибо будучи именно распягым и
воскресшим Иисус раскрывает потаенный смысл Писания, Слова
Божия, Которое воплотилось в Евангелии. А коль скоро данное
тождество представлено зависящим от Креста, это означает, что
полное откровение Слова Божия происходит именно через
спасительную смерть Христову.
Поскольку Закон и Пророки, истолкованные правильным образом,
отсылают к Христу и Его Евангелию, следовательно, заключает
Ориген, Он уже присутствовал для праведников древности. Так, в
рассмотренном ранее фрагменте, еще до слов о том, что библейские
авторы знали Бога как Отца и скрыто об этом писали, Ориген
говорит, что «Христос духовно обитал в них и они имели Духа
усыновления», потому что только втаком случае они могли говорить,
пускай даже загадками, о Боге как об Отце [277]. Присутствие Христа
для Моисея и пророков, в которых Он пребывает и которых учит о
Боге, подразумевается универсальным свидетельством Писания о
Христе – так же, как и утверждение, что во время написания книг
Библии они уже видели то духовное значение, которое прояснит в
них Христос [278]. Но подобно тому, как в Законе и Пророках возможно
увидеть указание на Христа только после их объяснения Самим
Христом в Его воплощенном бытии, так и духовное пребывание
Христа посреди праведников древности является следствием
универсального действия Его телесного воплощения. Ориген
утверждает именно такой порядок, сохраняя тем самым и
уникальность воплощения Христа, и типологическую функцию
последнего. Так, в Гомилиях на Jle-витпребывание Слова Божия при
посредстве Моисея и Пророков описывается им по аналогии с
воплощением Слова при посредстве Марии:
Как в «последние времена» Слово Божие, облачившись в плоть
от Марии, пришло в мир, и в одном Оно было видимо, а в другом
понимаемо (ибо видение Его плоти было открыто для всех, но знание
Его Божественности было дано немногим избранным), -так и когда
Слово Божие принесено было людям через Пророков и Законодателя,
Оно не было принесено без надлежащего облачения. Ибо точно так
же, как там Оно было под покровом плоти, так и здесь – под покровом
буквы, так что действительно буква видима как плоть, но духовный
смысл, сокрытый в ней, воспринимается как Божественность
(Гомилии на Левит, 1.1).
Слово Божие «воплощено» в писаниях Закона и Пророков. Хотя слова
Писания являются покровом Слова Божия, лишь они служат
средством, при помоши которого Слово познается. Невозможно
прийти к духовному смыслу Писания иным путем, как через сами
слова Писания. В связи с этим в своей экзегезе Писания, прежде чем
исследовать духовный смысл, Ориген всегда начинает с буквального,
или лексического, значения (то ρητόν), [279] и, как мы видели,
прикровенное содержание Писания для него тождественно истине,
которой научил Христос, которая и есть Сам Христос.
Фундаментальное значение этого момента для любого богословского
размышления абсолютно очевидно в том, как Ориген формулирует
данный принцип в начале своего трактата О началах.
Все те, которые веруют и уверены в том, что благодать и истина
произошли чрез Иисуса Христа [Ин. 1:17], и знают, что Христос есть
истина, по Его собственным словам: «Я есмь истина [Ин. 14:6]» –
почерпают знание, призывающее людей к доброй и блаженной
жизни, не из какоголибо иного источника, но из самих же слов и
учения Христа. Под словами же Христа мы разумеем не те только,
которые Он возвестил, сделавшись человеком и принявши плоть: ведь
и прежде Христос, Божие Слово, был в Моисее и Пророках, и без
Слова Божия как они могли пророчествовать о Христе? (Нач1,
Предисловие 1).
Воплощение Христа очевидным образом имеет для Оригена огромную
ретроспективную силу. Видя в пребывании Христа во плоти и в
экзегезе, которой Он научил по воскресении, парадигму,
александрийский богослов находит Христа на протяжении всего
Писания – в праведниках древности и теперешнего дня, полагая Его
духовным смыслом их творений.
Меняющийся облик Иисуса тесно связан с Его титулами в Писании,
которые Ориген анализирует исходя из Его различных «аспектов»
(έπίνοιαι) [303]. Иисус, разумеется, един, однако Он Сам именует Себя
различным образом, например, «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6), и
Писание описывает Его при помощи многих других имен (по мнению
Оригена, можно собрать десять тысяч таких титулов, Ком. Ин. 1.136),
так что Он Сам становится теми «благами», которые проповедовали
апостолы [304]. Данные аспекты опять же открываются через
воплощение, которое действует по аналогии с призмой,
преломляющей непостижимую, нераздельную природу Бога в спектр
доступных к восприятию аспектов. Большая часть первых двух
книгКомментария на Иоанна посвящена исследованию значения и
содержания этих аспектов. Пристальное внимание уделяется
именованию Иисуса «Словом», поскольку, как упоминалось выше,
Оригена в особенности тревожат те, кто воздерживается от
исследования «значения того, на что указывает термин «Слово»,
опасаясь, что им придется признать независимое бытие Сына (Ком.
Ин. 1.125, 151). Он также отмечет, что другие люди испытывают
колебания по отношению к термину «Бог», избегая применять его к
Сыну, чтобы не впасть в дитеизм (Ком. Ин. 2.16). Отвечая на это,
Ориген указывает, с какой осторожностью Иоанн употрсбил
существительное «Бог»: апостол ставит это слово с артиклем, когда
оно относится к нетварной причине вселенной, и опускает артикль,
когда оно относится к Слову как «Богу» [305]. Есть лишь «единый
истинный Бог» (Ин. 17:3), «Бог богов» (Пс. 49:1 LXX), то есть тех, кто
становится богами по причастию к Нему. И хотя существительное
«бог» без артикля может употребляться в отношении многих,
«Рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15) больше всех их
достоин этой почести, так как «через Его служение они стали
богами, ибо Он получил от Бога возможность обожения для них»
(Ком. Ин.. 2. 17). Только через посредничество Слова, Которое одно
лишь знает Отца и являет Его людям, другие соучаствуют в
Божественности, так что Слово выступает «служителем
Божественности для всех остальных богов» (Ком. Ин. 2.19). Схожим
образом Ориген объясняет термин «Слово» – проводя различие
между абсолютным смыслом, в котором этот титул приложим к Сыну,
и способом, при помощи которого человеческие существа участвуют
в этом аспекте Христа: «Он именуется «Словом», потому что удаляет
от нас все неразумное и делает нас истинно разумными существами,
совершающими все во славу Божию» [306]. Дотех пор, пока люди не
отпали в область так называемых слов, всецело чуждых Самому
Слову, они в разной мере участвуют в данном аспекте Христа–в
зависимости от того, знают ли они Слою как оно есть у Бога, или
знают Его только по плоти, или знаюто Нем от других, кто стал
сопричастным Слову (Ком. Ин. 2.22). Как мы видели, Ориген
подчеркивает, что правильное понимание Христа как Слова
подразумевает нашу способность видеть Божественность Христа, а не
оставаться на уровне плоти или букв. Некоторые аспек-ты – такие,
как Слою, Истина и Премудрость – относятся ко Христу в Его
Божественности, в Его бытии со Отцом. Однако другие аспекты Он
взял на Себя ю благо тех, кто еще не способен созерцать Его
Божественность, – такие, как Врач и Искупитель (Ком. Ин. 1.123-4).
Дорога к познанию Бога начинается с самых простых аспектов –
таких, как Дверь, пройдя через которую человек может вступить на
Путь, по которому Иисус как Пастырь ведет его, владычествуя над
ним как Царь и принося ему пользу как Агнец, до тех пор, пока, в
сюю очередь, мы не придем к знанию Отца (Ком. Ин. 19.39). Будучи
всеми этими аспектами, «наш Спаситель есть полнота шагов» к Богу
(Ком. Ин. 19.38).
Содержание того, как Ориген понимает Спасителя, Иисуса Христа, и
значение Воплощения Слова, очевидным образом невместимо ни в
какую краткую догматическую формулировку. Это богословие,
которое начинается с Иисуса и заканчивается Им, Тем, Кто, будучи
распят и воскреснув, становится одним со Словом Божиим; Кто есть
Слово Божие, ибо Он открывает содержащиеся в Писании таинства,
объясняет, как они относятся к Нему, и облачается в слова Писания –
отличительную одежду, которая продолжает ткаться в изображении
Христа апостолами. Богословие Оригена начинается с плоти, которую
Христос принимает в Писании, чтобы явить Себя, и ведет к той точке,
в которой экзегет может увидеть во плоти буквального смысла – а не
гделибо еше – вечное Слово Божие. Христос, тем самым,
присутствует на протяжении всего Писания, и Он продолжает
присутствовать в тех, кто посвящает себя Слову и следует за Ним. Это
есть «вечное Евангелие», или «духовное Евангелие» (Откр. 14:6; Ком.
Ин. 1.40), которое предста-ет в наиболее отчетливом виде в самом
возвышенном из четырех Евангелий, Евангелии от Иоанна:
Мы можем рискнуть и сказать, что Евангелия представляют собой
первые плоды всех Писаний, однако среди Евангелий первыми
плодами является Евангелие от Иоанна, значение которого не может
понять тот, кто не возлежал на груди Иисуса и не принял от Иисуса
Марию как сюю мать. Тот же, кто будет вгорым Иоанном, должен
стать таким, как Иоанн, чтобы Иисус мог показать на него вместо
себя. Ибо если у Марии не было другого сына, кроме Иисуса, в
соответствии с теми, кто здраво мыслит о
Ней, а Иисус говорит своей Матери: «Се, сын твой», а не: «Смот-ри,
этот человек – тоже твой сын», то это равнозначно утверждению:
«Смотри, это Иисус, которого ты родила». И действительно, всякий,
ставший совершенным, «уже не живет, но живет в нем Христос», и
поскольку «Христос живет» в нем, то о нем говорится Марии: «Се,
сын твой», Христос (Ком. Ин. 1.23).
Экзегеза лежит в самой сердцевине того, как Ориген понимает
воплощение Слова, распространяя присутствие Иисуса Христа на
всех посвятивших себя Слову. И это влияние не прекратится вплоть
до эсхатона, когда посвятившие себя Слову достигнут меры Христа
(ср. Еф. 4.13) и более уже не будут зреть Отца через посредничество
Сына, но «увидят Отца и все, что у Отца, как Сын видит это», когда
Сын предаст царствие Отцу, так что «будет Бог все во всем» (Ком. Ин.
20.47-8; 1 Кор. 15:28).
Особое существование. Божественность и вечность Сына Божия
Внутри представленного видения Иисус Христос выступает и как
начало, и как конец богословствования, которое восходит от
буквального, плотского, смысла Писания к смыслу духовному –
вечному Евангелию, возвещающему Слово Божие. Он – начало, буду
[1]
™ Тем, через Кого становится понятным откровение Бога в
Писании; и Он же – конец, будучи моделью для всякого, кто через
посвящение себя Слову приходит к познанию Бога, которое сродни
познанию Сыном Отца. Как отмечает Роуэн Уильямс, Слово Божие
для Оригена – это не просто «удобное космологическое понятие»,
введенное для посредничества между трансцендентным Богом и
тварной реальностью, но «образец нашего знания Отца и любви к
Нему» [307]. В этой связи, наряду с настойчивым утверждением того,
что богословская рефлексия не должна оставаться на уровне плоти,
Ориген в равной степени подчеркивает (о чем упоминалось выше),
что независимое и конкретное существование Сына (ύπόστασις или
υποκείμενον) должно получить прямое угверждение [308] и что два эти
момента тесным образом связаны. В качестве объекта для критики
Ориген специально выбирает позицию тех, кто не желает
анализировать причину, по которой Сын именуется «Словом», кто
ограничивает себя поверхностным пониманием этого термина, мысля
о Сыне лишь как о «высказывании Отца, существующем в слогах», –
думающие так, заявляет он, «не утверждают Его особого
существования (ύπόστασιν) и не объясняют Его сущности (ουσίαν)»
(Ком. Ин. 1.151). Схожим образом богослов критикует тех, кто
выборочно соединяет тексты Писания, чтобы доказать, что Отец и
Сын не различаются в численном отношении, но «оба суть одно, не
только по сущности (ούσία), но и как один субъект (ύποκειμένω), а
Отцом и Сыном именуются лишь в отношении разных аспектов
(έπινοίας), но не в отношении их особого существования (ύπόστασιν)»
[309]
. Опровергая подобные утверждения, Ориген, как правило,
ссылается на тексты, в которых демонстрируется, что «Сын иной по
отношению к Отцу»; данное различение, дополняет он,
подразумевается самими именами и с необходимостью предполагает
множественность и взаимность; «необходимо, чтобы сын был сыном
отца, а отец был отцом сына» (Ком. Ин. 10.246). Та же позиция
выражена в Диалоге с Гера кладом, когда в ответ на вопрос, следует
ли Сына считать отличным от Отца, Гераклид отвечает: «Разумеется!
Как же Он может быть Сыном, если Он также и Отец?» [310] Вместе с
рассмотренным выше утверждением, по которому «Отец» и есть
настоящее имя Бога, данная ссылка на логику отношений приводит
Оригена к выработке ключевого богословского положения, которое
позже ляжет в основу тринитарного богословия Никеи, а именно:
отношение к Сыну является определяющим для самого бытия Божия
и, более того, особое существование Сына производно от
существования Бога как Отца, а не от Его деятельности как Творца
мира. Принимая во внимание, что и о Духе Писание говорит как об
имеющем особое бытие, Ориген утверждает также особое
существование Духа; при этом он использует термин «ипостась» – не
только для того, чтобы охарактеризовать способ существования
некоего существа, как в приведенных выше цитатах, но чтобы
обозначить само бытие: «Мы убеждены, что есть три ипостаси: Отец,
Сын и Святой Дух» [311].
В отношении утверждения особенного существования Сына следует
сделать два взаимосвязанных уточнения, причем оба они касаются
желания Оригена избежать ситуации, когда постулируются два
независимых первопринципа. Вопервых, Сын никогда не
рассматривается изолированно от Отца: Сын являет Отца, единого
истинного Бога, и есть путь к Нему. Ориген даже полагает, что
молитва не должна быть обращена только к Сыну, или даже к Отцу и
Сыну, но только к Отцу – в Сыне и через Сына [312]. Вовторых, разница
в существовании Отца и Сына не должна утверждаться таким
способом, чтобы Божественность Сына мыслилась иной, чем
Божественность Отца. И особенное существование Сына, и его
Божественность должны утверждаться одновременно, так что ни
одно утверждение не должно умаляться за счет другого. В
соответствии с Оригеном, те, кто колеблется говорить о Сыне как о
«Боге» из-за боязни впасть в дитеизм, не в состоянии следовать этому
принципу:
Они либо отрицают, что особенность (ιδιότητα) Сына другая, чем у
Отца, хотя и исповедуют Богом Того, Кого, по крайней мере, по
имени, называют «Сыном»; либо отрицают Божественность Сына,
делая Его особенность и сущность (ουσίαν) отличными от Отца (Ком.
Ин. 2.16).
Утверждать Божественность Сына не имеет смысла, если Сын не
отличается от Отца, ибо в гаком случае Сына не существует; точно
гак же, как не имеет смысла утверждать особое существование Сына,
если Его индивидуальная сущность отличается от Отца, ибо в таком
случае Он уже не Божественен [313]. Похоже, Ориген здесь предлагает,
хотя и не напрямую, считать Сына имеющим ту же «сущность»
(ούσία), что и Отец. В связи с этим, и в отношении приведенного
выше фрагмента, в котором критикуются утверждающие, будто Отец
и Сын суть «одно, не только по сущности (ούσία), но и как один
субъект (ύποκειμένω)» (Ком. Ин. 10.246): можно рассматривать это
фрагмент как предложение рассматривать Отца и Сына едиными «по
сущности», но одновременно имеющими отличное друг от друга
существование. Однако в других контекстах Ориген, как
представляется, употребляет термин ούσία синонимично словам,
обозначающим уже действительное существование чеголибо, –
например, когда он просит Цельса доказать ему «существование и
реальность» (ύπόστασιν και ούσίαν) греческих богов, что они
«существуют в реальности» (κατ' ούσίαν ύφεστηκέναι), а не являются
персонифицированными абстракциями (ПЦ 1.23). И все же
синонимия вряд ли до конца объясняет то место сочинения О
молитве, где Ориген ссылается на некий свой другой труд, где, как он
говорит, им показано, что Отец и Сын должны рассматриваться как
различные «по сущности и по субстанции» [314]. Как отмечается в
Комментарии на Иоанна, поскольку и о Спасителе, и о Боге в
Писании говорится, что Они есть свет, то некоторые из этого могут
сделать вывод, будто «Отец не отделен по сущности (τή ούσφ μή
διεστηκέναι) от Сына»; однако более правильно сделать вывод, что
Они – не то же самое (ού ταύτόν είναι), поскольку Сын есть «свет,
светящий во тьме», в то время как Отец есть свет, в котором вообще
нет никакой тьмы [315]. В действительности, продолжает Ориген, Отец
«превосходит «истинный свет», подобно тому, как, будучи Отцом
истины. Он превосходит истину» (Ком. Ин.2.151). Основная цель этих
слов – сохранить трансцендентность Отца: именно Он является
источником всех свойств, которые характеризуют Божественность
Сына, и потому об Отце и Сыне нельзя сказать, будто Они обладают
этими свойствами одинаковым образом. Если бы свойства
Божественности приписывались Отцу и Сыну одинаковым образом.
Их можно было бы рассматривать как равные члены одного класса.
Дабы избежать такого вывода. Ориген дает понять, что не следует
утверждать одинаковости Их «сушности», хотя окольная манера, при
помощи которой он выражает данную мысль, явным образом
свидетельствует о его нежелании утверждать это в окончательном
виде.
Зависимость Сына от Отца является существенной для Оригена, но в
равной степени важна для него и необходимость того, чтобы данное
отношение происхождения не истолковывалось в
материалистическом ключе. Ориген тщательно избегает разговоров о
Сыне как о рожденном «из сущности Отца», поскольку такой язык
подразумевает для него, что Бог является материальным бытием,
субстанция которого при рождении Сына истощилась, как это бывает
при рождении человека. Но Сын не «исходит» из Отца таким
образом, чтобы затем Он стал внешним по отношению к Отцу, ибо
Отец в Сыне, и Сын – во Отце (ср. Ин. 14:10), то есть это отношение
невозможно понять в телесных терминах (Ком. Ин. 20.153-9). Столь
же жестко Ориген критикует валентинианцев типа Гераклеона,
который, скорее всего, учил о том, что души, предназначенные ко
спасению, являются частицами Божественной сущности – они
произошли от Бога, а потому должны рассматриваться как имеющие
ту же сущность, что и Он (homoousios. Ком. Ин. 13.149). Ориген
утверждает, что если понимать этот термин правильно, то «все.
являющеесяhomoousios, является субъектом одних и тех же
атрибутов» (των αυτών δεκτικόν), то есть составляетодин класс вещей
и разделяет одинаковые свойства одинаковым способом, и
следовательно, полагает он, Гераклеон допускает, что Бог подвластен
изменению и тлению, так же, как и сотворенные духи (Ком. Ин. 13.
150). Таких неприемлемых последствий не возникло бы, если бы
термин использовался по отношению к Отцу и Сыну; возможно, в
других своих работах Ориген использовал термин homoousios для
описания отношения между двумя Божественными ипостасями’ [16].
Однако втом виде, в каком Ориген определяет его в данном
сочинении, этот термин не может применяться к описанию
отношений между Отцом и Сыном, поскольку в нем отсутствует
существенный элемент происхождения [317].
Ориген, таким образом, подчеркивает трансцендентность Отца,
которая делает невозможным существование кого бы то ни было в
одном классе с Ним; однако в то же время он хочет добиться того,
чтобы сущность (ουσία) Сына (хотя он и не решается однозначно
утверждать, что она та же, что у ОтцаХ по крайней мере, не
рассматривалась в отдельноста от сущности Отца – для того, чтобы
можно было утвердить Божественность Сына. В Комментарии на
Иоанна Ориген пытается увязать эти два ключевых элемента при
помощи понятия участия. Как мы уже видели, богослов говорит о
том, что в Писании только Отец является «единым истинным Богом»
(Ин. 17:3) и «Богом богов» (Пс. 49:1, LXX), и потому в отношении Его
употребляется форма с артиклем ό θεός. Все остальные существа,
именуемые «богами», обозначаются в Писании при помощи
существительного без артикля – они «стали богом через участие в
Его Божественности» [318]. В особенности это относится к
«Перворожденному всей твари» (Кол. 1:15), Который «как первый,
кто был у
Бога, вбирающий в Себя Божественность», почитается больше
любого другого бога [319]. Опятьтаки это не следует понимать в грубо
материалистических терминах, как если бы «участие в Боге»
означало приобретение частицычеголибо, некоего Божественного
«вещества». Участие Сына в Боге и, следовательно, Его с Ним
единство мыслится Оригеном скорее в терминах деятельности, а не
субстанции [320], хотя это – деятельность Сына, открывающего Отца, то
есть, как отмечает Уильямс, Его «сущности», в смысле формы или
определения существования Сына [321]. Именно через знание Отца,
или, как формулирует Ориген, через «бесконечное созерцание
глубин Отца», Сын соучаствует в Его Божественности и таким
образом является «Богом» (Ком. Ин. 2.18); и именно «через Его
служение другие становятся богами», ибо Сын «получил от Бога
[способность] обожествлять других», бескорыстно делясьс ними
Своей благостью» (Ком. Ин. 2.17). Хотя ныне только Сын знает Отца,
все те, для кого «созерцание Бога является единственным делом»,
могут «образоваться в знании Бога» и, таким образом, тоже «стать
сыновьями» (Ком. Ин. 1.92). Такое осмысление соучастия Сына в Боге
и Его служения по отношению к другим представляется более
абстрактным выражением понимания, которое, как мы видели, уже
было выработано Оригеном в ходе размышлений над Писанием и
Евангелием. Как это было сформулировано выше, именно через
уничижение на Кресте Сын открывает Себя как «более
Божественный, и в действительности, по образу Отца» (Ком. Ин.
1.231), и именно через Страдание Он становится одним со Словом
(Ком. Ин. 32.325), являя Отца и объясняя более глубокий смысл
Писания, чтобы посвящающие себя созерцанию духовного смысла
последнего также могли прийти к познанию Бога как Отца. С точки
зрения Оригена, не существует такой стороны или такого аспекта
Сына, облеченного в плоть в буквах Писания, которые, при
созерцании их духовного смысла как вечного Слова Божия, не
открывали бы Отца. Поэтому, при всем подчеркивании особенного
существования Сына, он никогда не рассматривает Сына
изолированно от Отца, ибо сама «сущность» Сына состоит в том,
чтобы являть Отца. Рассуждая о Божественности Сына «через
участие», Ориген избегает даже намека на то, что Отец и Сын могут
мыслиться как два независимых первопринципа (в чем и состоит
ошибка дитеизма), равно как и утверждения о том, что
индивидуальная сущность Сына отличается от сущности Отца
(ср.Ком. Ин. 2.16). Ему удается одновременно утвердить
трансцендентность Отца как «единого истинного Бога» и
Божественность Сына, Который являет Отца.
Спорным, однако, остается вопрос о том, в какой мере Оригену
удается утвердить, что Божественность Сына не только не отличается
от Божественности Отца, но поистине является той же самой, так что
являемый Им есть в действительности Отец. Будучи Тем, Кто являет
Отца, Сын, похоже, все же остается всего лишь на положении
посредника между трансцендентным Богом и творением. Будучи
первым, Кто «вбирает в Себя Божественность», Слово «почитается
более» всех других богов, существующих помимо Него (Ком. Ин.
2.17); по отношению к ним Он – «служитель Божественности» (Ком.
Ин. 2.19). Объясняя утверждение Христа «Отец Мой более Меня»
(Ин. 14:28) и Егоотказназываться «благим» (Мк. 10:18), Ориген
полагает, что «Отец превосходит Спасителя настолько же, насколько
Сам Спаситель и Дух Святой превосходят остальных» или даже более
(Ком. Ин. 13.151). Однако Сын является посредником не в том
смысле, что Он обладает какой-то более низкой формой
Божественности, в материалистическом смысле, но в том, что именно
Он есть Тот, Кто являет Бога. Поэтому, прежде чем акцентировать
трансцендентность Отца, на которую указывает Мк. 10:18, Ориген
напрямую утверждает, что было бы «совершенно законно и истинно»
назвать Христа «благим», однако Он «любезно уступает [качество
благости] Отцу и порицает того, кто желал бы восхвалять Сына
чрезмерно», ибо Сын всегда указывает на Отца (Ком. Ин. 15.151).
Несмотря на это пояснение, позднее Оригена обвинили в том, будто
он учил, что Сын не является «благим» в абсолютном смысле [322].
Помимо этого, его обвинили в учении, что Сын «не знает Отца как
Самого Себя», хотя, очевидным образом, для Оригена существенно
как раз то, что Сын знает Отца таким образом, что может Его явить и
стать опосредующим звеном и моделью наших отношений с Отцом
[323]
. Пытаясь в очередной раз утвердить трансцендентность Отца,
Ориген утверждает, что Отец знает Себя таким образом, который
превосходит то, как даже Сын знает Его, несмотря на то, что знание
Сыном Отца является полным или совершенным (ср. Ком. Ин.
32.345,350). Окольные выражения, которыми пользуется Ориген,
рассуждая о «сущности» Отца и Сына, по всей видимости, говорят об
осознании им проблем, появляющихся при объяснении данного
отношения в терминах участия. И хотя в некоторых позднейших
сочинениях он, как представляется, склоняется к уменьшению
дистанции между Отцом и Сыном (причем в отдельных фрагментах
содержится утверждение о Божественности Сына в Его сущности), в
целом его видение этого вопроса остается без изменений [324].
Христос как Бог и человек в сочинении «О началах»
Несмотря на то, что полностью сочинение Оригена О
началахсохранилосьтолько влатинском переводе Руфина, именно в
нем мы находим ценное и последовательное осмысление
Божественной и человеческой природы Иисуса Христа. «Прежде
всего, нам нужно знать, – говорит Ориген, – что во Христе иное дело –
природа Его Божества, потому что Он есть Единородный Сын Божий;
и иное дело – человеческая природа, которую Он воспринял в
последнее время согласно домостроительству» (Нач. 1.2.1).
Рассмотрение одной и другой природ осуществляется Оригеном в
разных частях данного сочинения (Нач. 1.2 и 2.6 соответственно),
хотя очевидно, что для него природы взаимосвязаны [3]“. Его анализ
Божественности Сына в основе своей экзегетичен: он построен как
исследование различных аспектов описания Сына в Писании,
поскольку «известно, что Он называется многими и различными
именами, смотря по обстоятельствам и по понятиям называющих»
(Нач. 1.2.1). Наиболее важным здесь является Сын как Премудрость,
ибо. как говорит Премудрость у Соломона: «Господь имел Меня
началом пути Своего... Я родилась прежде, нежели водружены были
горы, прежде холмов» (Притч. 8:22-25). В своем анализе Ориген
касается и других аспектов (Слово, Истина, Жизнь, Воскресение,
которые он полагает аналогияными Премудрости. – Нач. 1.2.3-4), но
наибольшее внимание уделяется им терминам, используемым именно
для обозначения Божией Премудрости: сила Божия, слава
Вседержителя, отражение вечного света, чистое зеркало действия
Божия и образ благости Его (все из Прем. 7:25-6), каждый из которых
присутствует в апостольском описании Христа (//ач. 1.2.5-13). Ориген
настаивает на том, что, говоря о Сыне как о Премудрости Божией, он
не имеет в виду чего-то, что не сушествует в действительности, ибо
Сын Божий есть «Премудрость Божия, существующая ипостасно», и
что под этим он не подразумевает, что о Сыне следует мыслить в
материалистических терминах (Нач. 1.2.2). Все Божественные титулы
Христа, как считает Ориген, являются производными от Его
деятельности. а не от физических свойств(Нач. 1.2.4), а поскольку все
совершаемые Сыном дела суть дела Отца (ср. Ин. 5:19), то «у Них, так
сказать, одно и то же движение во всем. Вот почему Премудрость и
назвала Себя чистым ·зеркалом – это затем, чтобы устранить таким
образом всякую мысль о неподобии Сына с Отцом» (Нач. 1.2.12).
Как мы видели, Ориген абсолютно ясно говорит о самостоятельном
существовании Сына, Иисуса Христа, и о Его вечности; Он
присутствует на протяжении всего Писания, а также в тех, кто
посвящает себя Слову. Однако это не приводит к постулированию
двух первопринципов (для Оригена это совершенно немыслимо), а,
напротив, указывает на происхождение Сына от Отца. Приводя
ссылку на Притч. 8:25 («Я родилась... прежде холмов»), Ориген
объясняет данное происхождение в терминах вечного, вневременного
рождения. Невозможно, говорит он, мыслить о Боге, будто Он
некогда существовал без Своей Премудрости, ибо это подразумевало
бы либо то, это Бог не мог родить Премудрость прежде, чем родил Ее,
либо что Он мог Ее родить, но не хотел этого прежде еделать.
Воспользовавшись, таким образом, приемом reductio ad absurdum,
богослов приходит к следующему выводу:
Вот почему мы всегда признаем Бога Отцом Единородного Сына
Своего, от Него рожденного и от Него получающего бьггие, однако
без всякого начала, не только такого, которое может быть разделено
на какиелибо временные протяжения, но и такого, какое
обыкновенно созерцает один только ум сам по себе и которое
усматривается, так сказать, чистой мыслью и духом. Итак, должно
веровать, что Премудрость рождена вне всякого начала, о каком
только можно говорить или мыслить (Нач. 1.2.2).
Единственное «начало», которое имеет Премудрость Божия,
замечает далее Ориген, обыгрывая разные значения слова «начало»
(άρχή), – это Сам Бог, от Которого Она «и существует, и рождается»
[326]
. Поэтому невозможно сказать, что «было [время], когда Сына не
было (ήν ποτε οτε ούκ ήν ό υιός)», – это заключение «трудолюбивого
Оригена» будет одобрительно процитировано Афанасием спустя
столетие [327]. Ориген вновь настаивает на том, что рождение не
должно пониматься в материалистических терминах как разделение
Божественной природы на части; по его мнению, последнее
предполагается теми, кто выдумывает «нелепые басни» о том, что
Сын есть «эманация» (προβολή) Отца (Нач. 1.2.6). Вместо этого
богослов указывает, что в «рождении от Отца» следует, скорее,
мыслить «как бы некоторое хотение Его, происходящее от мысли»,
ибо Сын делает все точно так же, как и Отец (Нач. 1.2.6). Хотя
Ориген может высказываться в том смысле, что Отец желает
существования Сына, речь здесь идет не об утверждении случайности
существования Сына, как будто Бог мог бы быть иным, но в
акцентировании того, что Бог не принуждаем ничем, что было бы
первично по отношению к Нему; что Он – абсолютная первопричина
и, по крайней мере, в каком-то смысле, активный субъект, Чьей воли
достаточно для приведения в существование того, о чем Он помыслит
(Нач. 1.2.6). Наряду с этим богослов также прибегает к образам
Прем. 7:26 и Евр. 1:3 для описания рождения в терминах света: «это
рождение – вечное и непрерывающееся. наподобие того, как сияние
рождается от света. Ибо Сын не есть Сын по усыновлению извне
через Святого Духа, но Сын по природе» [328]. Рождение Премудрости
Отцом – не единовременный акт, имевший место какнибудь «до»
начала времени, это – постоянно продолжающееся рождение,
подобно тому, как и Сын участвует в Божественности через
постоянно продолжаюшееся созерцание Отца (ср. Ком. Ин. 2.18).
Данное отношение не ограничивается только Единородным, Который
один лишь есть Сын по природе; оно распространяется на всех,
получающих Дух усыновления. Обе эти позиции наиболее четко
разработаны в Гомилиях на Иеремию, 9.4. Ориген начинает с
указания, что, в противоположном смысле, совершающий грех
«рождается (γεγέννηται) отдиавола» (1 Ин. 3:8 по версии Оригена), в
то время как праведник рождается от Бога, и не единожды, но
«рождается постоянно в каждом добром деянии», как в случае
Спасителя, ибо «Отец не родил Сына, а затем отделил Его от Своего
рождения, но Он всегда рождает Его». Рождение Спасителя
объясняется при помощи ссылок на те же тексты Писания, которые
были использованы вработе Оначаюхн которые описывают Спасителя
каксвет(Прем. 7:26, Евр. 1:3). Далее Ориген обращает внимание на
настоящее, а не прошедшее время глагола в стихе Притч. 8:25:
«Прежде же всех холмов рождает (γεννψ) мя» и заканчивает свою
гомилию следующими словами:
Спаситель вечно рождается Отцом, так что и тебя, если ты имеешь
«Дух усыновления» [ Рим. 8:15], Бог вечно рождает в Себе в
соответствии с каждым твоим делом, с каждой твоей мыслью. И,
будучи рождаемым, ты тем самым становишься вечно рожденным
сыном Бога во Христе Иисусе [329].
Статус Сына как Единородного по природе не подрывается тем. что
данное отношение распространяется на рождаемых в Нем Отцом,
потому что именнов Нем получаюшие Дух усыновления приходят к
соучастию в этой вечной связи между Отцом и Сыном. Именно через
Христа мы обретаем «Духа усыновления», так что наше сыновство
всегда основывается на сыновстве Христа, Который лишь один
является Сыном по природе.
Бог «создал» Премудрость «началом пути Своего» (Притч. 8:22).
Известно, что учение Оригена о творении чрезвычайно сложно, и оно
вызывало споры чуть ли не со времени своего появления. Данный
стих Ориген объясняет, пользуясь терминами, которые приводят на
память и «идеи» Платона, и «разум» стоиков; по его мнению, стих
указывает на то, каким образом Премудрость Божия «содержит в
Себе начала, или формы, или виды всего творения» (Нач. 1.2.2). В
этом прототипическом смысле можно сказать, что творение – вечно:
«В этой Премудрости, всегда существовавшей с Отцом, творение
всегда присутствовало в форме и плане, и не было такого времени,
когда прообразы всех вещей, которые должны были прийти в бытие,
не существовали в Премудрости» (Нач. 1.4.4). Однако, когда он
исследует, почему о Премудрости говорится, что «Она есть... чистое
излияние славы Вседержителя» (Прем. 7:25), Ориген, похоже,
вкладывает в вечное существование творения более конкретное
содержание. Его аргументация в отношении титула «Вседержитель»
напоминает аргументацию в отношении Отцовства Бога: Бог не
может быть Вседержителем, «если нет существ, над которыми Он
проявил бы власть»; и поскольку для Бога лучше быть
Вседержителем, нежели не быть, то все, по отношению к чему Он –
Вседержитель, должно сушестповать от века (Нач. 1.2.10). Из всего
этого напрашивается вывод, что в определенном смысле творение
должно быть вечным, чтобы Бог мог быть вечным Вседержителем.
Такая формулировка исходит из предпосылки, что истинные
суждения о Боге должны быть верны в вечности, и (ошибочного)
вывода, что все, что находится в отношении к Богу, должно также
существовать вечно. Однако главным для Оригена здесь является не
столько статус самого творения, сколько то, что творческая
деятельность Бога должна пониматься с точки зрения того, что Он
уже является Отцом. Если о Премудрости говорится, что она есть
«чистое излияние славы Вседержителя», то все же «Премудростью»
Бог создал все (Пс. 103:24, LXX) и Словом создано все (Ин. 1:3), так
что «именование Бога «Вседержителем» не может быть старше Его
именования Отцом, ибо именно через Сына Отец является
Вседержителем»(Нач. 1.2.10). Творческий акт Бога, как и Его
спасительный акт усыновления, укоренен в вечном отношении между
Отцом и Сыном. Более конкретно господство, которое Бог имеет над
всеми вещами и в силу которого Он назван «Вседержителем»,
осуществляется через Его Сына, Который потому также именуется
«Вседержителем» (ср. Откр. 1:8), поскольку «перед именем Иисуса
преклоняется всякое колено» (Фил. 2:10). Итак, заключает Ориген,
«без сомнения, все подчинено Иисусу, и Сам Он владычествует над
всем, и чрез Него уже все подчинено Отцу» (Нач. 1.2.10). Не только
атрибут всемогущества, которое приводит творение к бытию, берет
начало в отношении между Отцом и Сыном, но и «слава
всемогущества» обнаруживается нигде иначе, как на Кресте [330].
В отношении содержащегося в Писании утверждения, что
Премудрость «сотворена» (έκτισεν) Богом (Притч. 8:22), практически
достоверным является то, что в одной из частей оригинального
текста «О началах» Ориген описывал Сына как «творение» (κτίσμα,
Нач. 4.4.1). Тем не менее трудно определить, какое именно значение
богослов вкладывал в этот термин. М. Арль считает, что, по всей
видимости, Ориген делал различие между значениями слов, при
помощи которых он описывал различные аспекты «творения» [331].
Например, в Комментарии на Иоанна приводится следующая
нисходящая цепочка понятий: «сотворить» (κτίζειν), «сделать»
(ποιέΐν), «сформировать» (πλάσσειν). Отпав от высшей жизни, первый
человек стал началом – не того, что сотворено или сделано, но того,
что сформировано Господом, дабы ангелы смеялись (Иов. 40:19, LXX);
так, «наше высшее бытие (ήπροηγουμένη ύπόστασις) есть образ
Творца, вто время как бытие, происходящее «из причины» (ή έξ
αιτίας), сформировано из праха земного (Ком. Ин. 20.182). В
нескольких местах сочинения О началах Ориген пытается объяснить
разнообразие мира при помощи терминов, не подразумевающих
произвольности Бога, приписываемой Ему гностиками, по учению
которых существуют разные виды людей и каждый вид предназначен
для своей судьбы[332]. Вместо этого он говорит о том, что, когда Бог «в
начале творил то, что хотел сотворить». Он сотворил «духов
разумных», или умы, по одной лишь причине собственной благости
(Нач. 2.9.6). Будучи Сам постоянным и неизменным. Бог «сотворил
равными и подобными, потому что для Него не существовало никакой
причины разнообразия и различия» (ibid). Мир, каким мы его знаем,
с его неразумным разнообразием, есть результат свободы, которою
Бог наделил Свои творения. «Признающий справедливым управлять
Своим творением сообразно с его заслугами». Бог «направил это
различие умов к гармонии единого мира», подобно «одному дому», в
котором есть сосуды из золота и серебра, но также из дерева и глины,
и каждый занимает положение сообразно тому, из чего образован
(ibid). Ориген, безусловно, разделял общепринятое учение, согласно
которому душа не творилась вместе с телом, но вводилась в него
извне (ср. Ком. Ин. 2.182) и в этом смысле телу «предшествовала».
Однако под этими «предшествующими причинами», которые он
вводит, чтобы примирить неравенство человеческих судеб с
утверждением о Божией справедливости (ср. Нач. 2.9.7.; 3.1.22),
имеется в виду, скорее всего, предведение Бога, Который знает все
вещи от утробы [333], а вовсе не воображаемое воинство вечно
существующих умов, которые по причине некоего предмирного
падения спустились в тела [334]. Так или иначе, «устроение» космоса
не может описываться у Оригена как «творение» (κήσις), ибо космос
не выражает в совершенстве волю Божию. Творение, как указывает
Уильямс, есть «в строгом смысле лишь беспрепятственное выражение
разумной воли Бога» [335]. Но наиболее совершенно воля Божия
находит свое выражение в Сыне, и потому нельзя полностью
исключить, что именно Его Ориген мог описывать как «творение»,
хотя при этом он, очевидным образом, имел в виду нечто иное,
нежели то, что стало пониматься под «творением» позднее.
Закончив исследование «Божественной природы», Ориген переходит
«к вопросу о воплощении Господа и Спасителя нашего», начиная его
с того, каким образом Христос является «посредником» между Богом
и человеком(Нач. 2.6.1; 1 Тим. 2:5). Несмотря на то, что «в
Священном Писании много говорится о Его величии» и «невозможно
изложить в письменах то, что относится к славе Спасителя», богослов
утверждает, что все это в действительности служит тому, чтобы
подчеркнуть, насколько удивительно Его уничижение: «Итак, видя
столько великих свидетельств о природе Сына Божия, мы цепенеем в
величайшем изумлении от того, что это, превосходящее всех,
Существо, уничижая Себя из состояния Своего величия, сделалось
человеком и жило между людьми» (Нач. 2.6.1). Из всего того
поразительного, что мы знаем о Сыне, одна вещь «возбуждает
удивление человеческого ума, и елабая мысль смертного существа
никак не может понять и уразуметь в особенности»: как Слово Божие
«находилось, как нужно этому веровать, в пределах ограниченности
человека, явившегося в Иудее», как Премудрость Божия родилась
как младенец, как Он «страдал» и в конце концов был отведен на
позорную смерть и воскрес на третий день (Нач. 2.6.2). Высказанное
глубочайшее изумление выливается в один из наиболее поэтических
фрагментов сочинения О началах:
Таким образом, мы видим в Нем, с одной стороны, нечто
человеческое, чем Он, повидимому, нисколько не отличается от
общей немощи смертных, с другой же стороны, – нечто божественное,
что не свойственно никакой иной природе, помимо той первой и
неизреченной природы Божества. Отсюда и возникает затруднение
для человеческой мысли: пораженная изумлением, она недоумевает,
куда склониться, чего держаться, к чему обратиться. Если она
мыслит Его Богом, то видит Его смертным, если она считает [Его]
человеком, то усматривает Поправшего власть смерти и Восстающего
из мертвых с добычей. Поэтому должно со всяким страхом и
благоговением наблюдать, чтобы в одном и том же [лице] обнаружить
истину той и другой природы, так чтобы, с одной стороны, не
помыслить чегонибудь недостойного и неприличного о той
божественной и неизреченной сущности и, с другой стороны, деяния
[Его как человека] не счесть ложными призрачными образами(Нач.
2.6.2).
Созерцая образ Христа, Ориген не расчленяет Его бытие на
составные части. Вместо этого он переходит к рассмотрению того,
как Христос описан в Писании, где об одном и том же субъекте
говорится в понятиях, применимых как к Божеству, так и к человеку,
что и доказывает «истину той и другой природы» и одновременное
существование двух природ в одном и том же субъекте. И опятьтаки:
не следует понимать это в материалистических терминах, как если
бы «природы» являлись некими частями, чье положение внутри
бытия Христова можно неким образом зафиксировать. Скорее, речь
идет о предикации – один и тот же Христос предстает как субъект
двух разных (и даже противоположных) наборов предикатов. Более
того, хотя эти «природы» можно различить понятийно, во Христе они
существуют вместе: «Если она |человеческая мысль] мыслит Его
Богом, то видит Его смертным, если она считает [Его| человеком, то
усматривает Поправшего власть смерти и Воестающего из мертвых».
Во Христе Бог и человек становятся одним, что нисколько не
приуменьшает ни Божественности (через приписывание ей чего-то
недостойного), ни человечества (через обращение последнего в
иллюзию). Иисус Христос, тем самым, есть истинный «Посредник»
между Богом и человеком, но не в силу обладания какой-то
сниженной, «посредственной» формой Божественности, но в силу
Своего бытия и Тем, и другим, так что Бог и человек в Нем
примиряются друг с другом.
Полноту данного единства Бога и человека в Иисусе Христе Оригену
удается подчеркнуть при помощи описания, которое позже получит
названиеcommunicatio idiomatum, то есть «обмен свойствами». По
Оригену. хотя Сын Божий даровал всем разумным существам
причастность Себе по мере той любви, которая прилепляет их к
Нему, своему Спасителю, души в их свободе отвратились от Него в
различной степени, за исключением одной лишь души, о которой
Иисус сказал: «никто не отнимает ее у Меня» (Ин. 10:18). Эта душа
осталась верной Ему «от самого начала творения и в последующее
время неотделимо инеразлучно пребывала в Нем, как в премудрости
и Слове Божием», так что «сделалась по преимуществу одним духом с
Ним» (Нач.2.6.3). Более того, эта душа выступает «как посредник»
между Богом и плотью, так что через посредство деятельности этой
души, которая накрепко прилепилась к Богу, «Бог рождается
человеком» и Его бытие охватывает противоположные точки
Божественности и человечества (ibid.). В словах о том, что
Богочеловек рождается именно через деятельность посвятившей
себя Слову души, можно услышать эхо приведенного выше мнения,
согласно которому именно на Кресте, за счет неуклонного
пребывания в воле Отца, Иисус становится окончательно единым со
Словом (ср. Ком. Ин. 32.325) и именно через Него Отец как
Вседержитель осуществляет господство над всем творением, от века
подчиненным Иисусу (Яйч. 1.2.10). Поскольку Слово стало всецело
единым с душой, а через нее и с плотью Иисуса, то предикаты одной
природы Сына могут быть переведены на другую Его природу: «во
всем Писании, как Божественная природа называется человеческими
именами, так и человеческая природа украшается славными
наименованиями Божественной природы» (Нач. 2.6.3) Сами
человеческие душа и плоть, воспринятые Сыном Божиим, могут быть
названы Премудростью и Силой Божией, как и наоборот, о Сыне
Божием может быть сказано, что Он умер благодаря той Его природе,
которая подвержена смерти.
Вопрос о наследии Оригена чрезвычайно сложен, не в последнюю
очередь из-за трудностей в определении связей между сочинениями
этого богослова и «оригенизмом», осужденным в Александрии
Феофилом в конце IV столетия и Юстинианом на II
Константинопольском Соборе в VI веке. По всей видимости, еще в
самом начале в Александрии епископ Геракл был враждебно
настроен по отношению к Оригену в духе своего предшественника
Димитрия. Пришедшие им на смену Дионисий Великий (ум. ок. 264
г.) и Петр (ум. в 311 г.), хотя и критиковали некоторые идеи,
считавшиеся принадлежащими Оригену (в первую очередь
космологические и антропологические), тем не менее отнюдь не
были «антиоригенистами»; по крайней мере, в случае Дионисия
влияние богословия Оригена очевидно с первого взгляда [338]. В
действительности, еще в середине IV в. репутация Оригена была
таковой, что Афанасий мог с почтением искать поддержки
защищаемому им Никейскому Символу у «трудолюбивого Оригена»
[339]
. Богословие Дионисия в особенности интересно и становится
важным в дискуссиях следующего столетия, в связи с тем, что
некоторые из высказываний последнего будут использованы
противниками Никеи в качестве аргумента в защиту своих
собственных идей, что и вызвало решительный отпор со стороны
Афанасия. Согласно Афанасию, фрагмент, вокруг которого
разгорелся спор, происходил из послания Дионисия, датируемого
серединой III в.; послание было адресовано Евфранору и Аммонию и
касалось всплеска савеллианства, поразившего в тот момент церкви
Ливийского Пентаполиса [34]". Желая противостать учению Савеллия,
Дионисий подчеркивал реальность различия между Отцом и Сыном,
описывая Сына как «творение и ставшее» (ποίημα καί γενητόν), а
также заявляя, что Сын не свой (ίδιον) по природе Отцу, но «чужд по
сущности» (ξένον κατ' ούσίαν); по его мнению. Отец отличен от Сына
так же, как виноградарь отличен от винограда и корабельный
плотник отличен от корабля, и, «как творение, Сына не было, пока Он
не стал быть» [341] (хотя, возможно, последний вывод был сделан его
оппонентами). Признавая, что эти слова действительно
принадлежали перу Дионисия, Афанасий одновременно полагал, что
они были изъяты из контекста и что другие произведения этого
богослова свидетельствуют в пользу его православия; с другой
стороны, Василий Кесарийский в более открытой 1}юрме допускал,
что желание противостоять Савеллию привело Дионисия к обратной
ошибке, которая и посеяла семена дальнейших отклонений [342].
Отвергая радикальное отличие Сына от Отца, некоторые братья,
востальном «мыслившие верно», отправились в Рим, не
посоветовавшись с Дионисием, чтобы принести жалобу его тезке [343].
Дионисий Римский (ум. 268) ответил на это посланием, в котором он
обрушился с бранью не только на Савеллия, но и на некоторых
«катехизаторов и учителей Божественного Слова» за то, что они
впадают в противоположную Савеллию ошибку, отвергая
единоначалие в Божестве и разбивая Его на «три отдельные ипостаси
или Божества», так что «они некоторым образом проповедуют трех
Богов, разделяя священную Монаду натри ипостаси, совершенно
чуждые друг дру-гу и полностью раздельные»[344]. Важно отметить,
что гнев Дионисия Римского в отношении использования
терминологии трех ипостасей вызвало именно опасение, что таким
образом возвращается к жизни заблуждение старейшего врага Рима –
Маркиона, «ибо это учение дерзкого Маркиона – разъединять и
разделять Божественное единоначалие натри [независимых| начала
(άρχάς)» [345]. Как указывает Уильямс, в то время как для Рима bete
noirбыл Маркион, для Александрии таковым являлось
валентинианство; так что в то время, как.Ориген и Дионисий, а
позднее Арий старались подчеркнуть, что Сын не является обычной
манифестацией удаленной, но разделимой Божественной жизни, Рим
заботился о том, чтобы избежать даже намека на существование
некоего зазора между Творцом и Искупителем [344]. Проводя
различение, которое, возможно, походит на оригеново, однако в
действительности не было заимствовано у последнего, Дионисий
Римский толкует Притч. 8:22, заявляя, что о Сыне можно тоюрить
как о «сотворенном» (έκτισεν), однако не «сделанном» (έποίησε)
Ботом, в том смысле, что Сын был поставлен над всеми вещами,
которые были сотворены посредством Него и что в другом смысле не
следует говорить о Сыне как о «произведении» (χειροποίητον) Отца
или как о чем-то «сделанном» (ποίημα) [347]. Не следует также говорить
о Сыне как о «приходяшем в бытие», поскольку это подразумевало бы
«абсурдное положение» о том, что «некогда Его не было», ибо
поскольку Христос во Отце и является Словом, Премудростью и
Силой Бога, значит, Он всегда существовал [348]. На всем протяжении
«Божественных откровений», говорит Дионисий Римский, об Отце
говорится, что Он «рождает» Сына» (имея в виду Притч. 8:25), так
что Его происхождение следует полагать не в акте творения, но в
«Божественном и несказанном рождении» [349]. Настаивая, таким
образом, что всемогущий Бог всяческих, Отец, никогда не был без
Слова и Духа, Которые всегда пребывают в единстве с Ним и в Нем,
Дионисий говорит о том, что возможно сохранить как веру в
Божественную Троицу, так и проповедь единоначалия Отца [350].
Помимо упомянутого послания, Дионисий Римский направил также
личное письмо своему александрийскому тезке, в котором сообщил
ему об обвинениях, выдвинутых в его адрес. Тот незамедлительно
ответил сочинением Опровержение и защита и послал его в Рим [351].
В фрагментах этого произведения, которые сохранились у Афанасия.
Дионисий отстаивает приемлемость именования Сына «творением»
или «сделанным» на основании того, что люди могут быть названы
творцами и создателями своих собственных высказываний или
рассуждений (λόγοι) (будучи в смущении от такого растяжимого
употребления терминов, Афанасий добавляет характерную для него и
постоянно повторяющуюся оговорку, что, говоря это, Дионисий имел
в виду сотворенную плоть Христа [352]). Более важно указание
Дионисия на то, что, позволив себе употребление такой
терминологии, он заранее уточнил, что Бог есть Отец не всего
сотворенного, но только Сына[353]. Объясняя свой выбор далее, он
привлекает идеи и образы, напоминающие оригеновские. Он
подчеркивает, что Отец, Сын и Дух не могут быть разделены, ибо
имена их «неразделимы и неотделимы» друг от друга, гак что имена
Отца и Сына подразумевают друг друга, вто время как имя Духа
отсылает к Тому, от Кого и через Кого Он исходит [354]. Также
Дионисий утверждает, причем однозначно, что «никогда не было
времени, когда Бог не был Отцом», так что Христос – вечен, будучи
Премудростью, Словом и Силой Бога, и имеет Свое бытие не Сам от
Себя, как имело бы независимое начало, но от Отца [355]. Обращаясь к
образу света, Дионисий описывает Сына как «сияние (τό απαύγασμα)
вечного света», которое с Богом «безначально и приснорожааемо»
(άναρχον καί άειγενές), сияя в Его присутствии и будучи
Премудростью, в Которой благоволение Бога [356]. Отвечая на
обвинение в том, что он не признает, что Христос «единосущен»
(όμοούσιος) Богу, Дионисий указывает, что данный термин не
ветречается в Писании [357]. Однако, продолжает он, приведенные им
примеры, а именно родитель и дитя, которые «однородны»
(ομογενείς), то есть принадлежат к одному роду, но отличны друг от
друга, а также растение и корень, которые различны, но одной
природы (όμοφυεις), как река и источник, – показывают, что он
принимает смысл термина homoousios [358]. Таким образом, Дионисий
Римский был готов принять термин homoousios лишь в расплывчатом,
общем смысле, чтобы в нем не было никаких материалистических
обертонов и чтобы его употребление не угрожало самостоятельному
существованию каждого изЛицТроицы. Используемые им аргументы,
такие как вечная соотнесенность Отца и Сына, а также образы были
направлены на то, чтобы убедить александрийского тезку втом, что
самостоятельность не подрывает основной структуры
монотеистического исповедания веры. Сводя обе эти стороны
воедино, Дионисий провозглашает: «Мы расширяем Монаду,
неразделимо, до Троицы и наоборот, Троицу собираем воедино, без
сокращения, в Монаду»[359], то есть созерцание единого Бога, Отца,
неизбежно ведет нас к Сыну и Духу, без разделения уникальности
этого единого Бога какимлибо образом, вто время как сама мысль о
Сыне и Духе возвращает нас обратно к Отцу, не отменяя конкретного
и отличного существования Каждого из Трех.
Богословие более поздних александрийских учителей, таких как
Феогност(ум. ок. 282) и Пиэрий (ум. ок. 300), по всей видимости,
пошло тем же путем [360]. В третьем столетии, по мере того, как общие
контуры оригеновского богословия начали приводить Александрию к
конфликту с Римом, положения, которые прежде удавалось
удерживать вместе, когда в фокусе богословского размышления была
педагогика и экзегеза Писания, утеряли это связующее начало и
оказались в неразрешимом противоречии друг с другом; на свет
появился богословский дискурс, который все более концентрировался
на поиске точных догматических формулировок. Как мы видели,
ключевые моменты как арианской, так и никейской позиций можно
возвести к Оригену. Данная двусмысленность, а также
продолжаюшаяся неясность вокруг вопроса о роли епископата в
Александрии сделали практически неизбежным спор, который
разгорится в этом городе по вопросам, столь фундаментальным для
христианской веры (прежде всего, речь, конечно, идет об истинной
Божественности Иисуса Христа), что весь христианский мир
окажется в этот спор вовлечен.
^ ГЛАВА 8
ПАВЕЛ САМОСАТСКИЙ И АНТИОХИЙСКИЙ СОБОР
Антиохийский Собор 268/269 гг. был одним из наиболее значимых
событий такого рода в 111 в. Изданное собором послание,
отлучающее Павла и объявляющее о своих решениях Риму и
Александрии, а также «всей вселенской, на земле существующей
Церкви», является самым ранним известным нам документом
подобного рода, в то время как сам собор стал считаться важной
вехой соборной деятельности, как ׳эта деятельность стала
пониматься позднее. Хотя упоминания о проведенных соборах можно
найти ранее у Тертуллиана, вопрос о том, какую именно форму могла
иметь подобная церковная деятельность, остается непроясненным
[364]
. В сюю очередь Евсевий также сообщает о многих «соборах
епископов», которые имели место в конце второго столетия и были
заняты решением вопроса о праздновании Пасхи, однако его
сведения являются, безусловно, анахроническими [365]. Тем не менее
сам порядок проведения Антиохийского Собора, как это описывается
у Евсевия, соответствует типу церковного собрания, которое хорошо
известно по другим документам 111 в., и представляет собой
вероучительный диспут с участием церковного учителя[366]. Наиболее
известным учителем III в., принимавшим участие в такого рода
диспутах, был Ориген; последнего неоднократно приглашали в самые
разные места для разрешения вероучительных проблем. В свете
обвинений, которые были выдвинуты против Павла Самосатского,
наибольший интерес представляет случай Берилла, епископа города
Бостра в Аравии, имевший место в промежугке между 238 и 2441т.
Согласно Евсевию, Берилл обвинялся в том, что он «осмелился
говорить, что Спаситель и Господь наш до Своего прихода к людям не
имел ни собственной сущности, ни собственной Божественности, но
что в Нем только пребывала Отчая» [367]. После того, как многие
епископы «расспросили» Берилла и «обсудили» (ζητήσεις και
διαλόγους) его взгляды, в дискуссию (εις ομιλίαν) с ним был
приглашен вступить Ориген, бывший на тот момент пресвитером
Кесарии Палестинской. Придя к пониманию позиции своего
оппонента, Ориген «убедил его своими рассуждениями (λογισμφ τε
πείσας), выправил его непраюверие и вернул к прежней здравой вере,
показав истину догматов» [368]. Приблизительно в тот же отрезок
времени Оригена пригласили на «немалый собор» в Аравии (ЦИ6.37).
Здесь мы находимся в уникальной ситуации благодаря счастливой
находке (в 1941 г.) документа под названием Диалог Оригена с
Гераклидом и его сотоварищалшепископами об Отце, Сыне и душе,
который представляет собой протокол похожего собрания,
состоявшегося в Аравии между 244 и 249 гг. Текст начинается с
рассказа о том, как присутствующие на соборе епископы выражают
свои сомнения относительно проповедуемого Гераклидом учения.
Гераклид выступает со своим исповеданием веры, и после окончания
этой вводной части собрание переходит к собственно дознанию.
Последнее проводится Оригеном: он вступает в диалог с Гераклидом
и, в конечном итоге, приводит последнего к правильной вере. Однако
основная часть документа следует далее и представляет собой серию
продолжительных гомилий, произнесенных Оригеном, – очевидно,
что его роль в этом собрании понималась, в том числе и епископами,
как учительная' [69]. В своих речах Ориген обращается к различным
темам, имеющим огношение к канону веры и правильному
толкованию Писания; иногда он просто отвечает на вопросы, однако
всегда его ответы построены в виде обращения ко всем
присутствующим [370]. Такое свидетельство о соборах III в.,
рассматривавших вопросы вероучения, говорит о том, что основная
роль принадлежала не епископату, а учителю. Будучи вооружен
способностями логика и ритора, учитель тщательно исследовал
возникший вопрос, исправляя неправильные мнения, или, по крайней
мере, отвергая ошибки таким обра-30м, чтобы это являлось
убедительным для всего собрания; в результате у собравшихся
формировалось бсшее глубокое понимание веры. Единство веры
бывало сохранено или восстановлено благодаря способностям учите-
ля, причем наибольший успех достигался тогда, когда в роли учителя
выетупала некая незаурядная личность, как Ориген [371]. Общий
формат встреч, проводившихся в Антиохии в связи с делом Павла
Самосатского, по всей видимости, соответствовал только что
описанному. Многие известные богословы, в данном случае епископы
Дионисий и Фирмилиан, были приглашены в этот город, однако на
заключительной встрече именнопресвитеру Малхиону было поручено
вести собеседование с епископомПавлом в присутствии других
епископов, пресвитеров, диаконов и прочих собравшихся. Целью
этого диспута было высветить ошибки в учении Павла(чтои оказалось
под силу только Малхиону – главе греческой риторической ш колы) и
добиться того, чтобы последний их исправил (в данном отношении
результат был не очень успешным). Очевидно, что в этот период
миряне и пресвитеры принимали активное участие как в развитии
богословия, так и в преподании богословия остальным членам
Церкви. Но по мере того, как эта роль стала ассоциироваться, причем
все более исключительным обра-30м, с епископатом, такое
положение дел стало казаться аномальным. В связи с этим
становится понятной реакция епископов, собравшихся в Антиохии
полвека спустя: в ответ на предъявленное им обвинение в арианстве,
они с негодованием вопрошали, как можнобыло подумать, чтобы они,
епископы, последовали учению пресвитера [372].
Несмотря на значительность усилий, потраченных на раскрытие и
опровержение заблуждений Павла, в дошедшем до нас тексте
«Соборного послания» обсуждению собственно вопросов веры
уделяется сравнительно мало места. Павел отвратился от канона
веры, и поэтому нет необходимое-ти рассматривать его поведение, -
так утверждают авторы послания.Тем не менее во фрагментах,
сохранившихся у Евсевия, речь идет почти исключительно о
заносчивости Самосатца и о его сомнительных поступках, которые
описываются со всеми подробностями: с напыщенным видом Павел
ходил по базару, занимаясь своей торговлей, в сопровождении
телохранителей и восторженной толпы; титулу епископа он
предпочитал свой светекий титулдуценария\ он накопил огромные
богатства путем вымогательства, грабежа и прочих беззаконий; он
занимался софистикой в церковных собраниях; он решил построить
для себя шикарную кафедру и отдельную комнату –secretum; у него
была привычка хлопать себя по бедрам и топать ногами на кафедре, а
также угрожать тем, кто открыто не восхищался им; упомянуто и о
его скандальных связях с женщинами [373]. В своем отборе фрагментов
Евсевий, без сомнения, в большей степени интересовался историей
Церкви и ее руководства, нежели вопросами вероучения; возможно,
он также ориентировался на материал, который мог вызвать интерес
у его языческой аудитории [374]. Судя по усилиям, затраченным на
очернение Павла, доктринальные ошибки последнего были вовсе не
очевидны: при чтении Евсевия складывается впечатление, что другие
моменты играли не меньшую роль, а это, в свою очередь, бросает
тень на то обстоятельство, что в качестве следующего епископа,
вместо Павла, был назначен никто иной, как сын человека, который
был епископом до него.
Что касается богословия Павла, «Соборное послание» усматривает в
последнем возрождение заблуждения Артемы (Z///7.30.16-17). В
приложенных к Посланию «записях» цитируются якобы
принадлежащие Павлу елова «Иисус Христос от нижних» (Ιησοϋν
Χριστόν κάτωθεν), которые авторы послания рассматривают как отказ
признать, что «Сын Божий сошел с неба»(ЦИ7.30.11). Схожим
образом послание обвиняет Павла в том, что он отменил пение
определенных гимнов, обращенных к Господу Иисусу Христу, –
вероятно, пасхальных гимнов, поскольку далее ему приписывается то,
что на великий день Пасхи женщины пели гимны, обращенные к
самому Павлу (ЦИ7.30.10). Евсевий, который читал послание
целиком, а также, вероятно, записи собора вместе с приложениями
[375]
, начинает свой рассказ об этом деле с утверждения о том, что
«мысли его о Христе ползали по земле и не могли над ней подняться;
вопреки учению Церкви, он считал Его обыкновенным человеком»
(ώς κοινού τήν φύσιν άνθρώπου γενομένου. ЦИ 7.27.2). В другом месте
Истории Евсевий соглашается с утверждением Послания о том, что
Павел просто возродил ересь Артемона, называвшего Спасителя
«простым человеком» (ψιλόν άνθρωπον, ЦИ 5.28.1-2).
Поскольку известно, что Евсевий имел доступ к первоисточникам
дела Павла, представляют интерес его замечания по этой теме в
Церковном босословии, написанном несколькими годами позже (ок.
337 г.). В одном из мест данной работы Евсевий приписывает
Маркеллу Анкирскому точку зрения, по которой Христос был
«простым человеком, состоящим изтела и души, как будто Он ничем
не отличался от обычной человеческой природы»; таким образом,
продолжает Евсевий, Маркелл следовал эбионитам и Павлу
Самосатскому[376]. Сам Евсевий разделяет альтернативную позицию,
которая заключается в том, что Логос занимает в Христе место души,
обитая в человеческом теле и оживляя его [377]. Его рассуждение
опирается на понимание бытия И исуса Христа как «составного».
Если не считать, что Логос занимает место души, утверждает он, во
Христе не будет никакой «части», которая являлась бы
Божественной, и поэтому Он ничем не будет отличаться от других
людей: Он – «простой человек». Несмотря на это, нет никаких прямых
свидетельств в пользу того, это Маркелл признавал присутствие
человеческой души во Христе. Возможно, это обвинение восходит к
более раннему спору Евсевия с Евстафием Антиохийским, позиция
которого была именно такой, и что именно этот спор побудил Евсевия
перечитать деяния Собора 268/269 гг. [378]Если так, то можно
предположить, что соборное осуждение Павла за то, что он почитал
Христа «простым человеком», основывалось на его признан ии
присутствия во Христе человеческой души. Но поскольку в
полемическом фокусе Евсевия находится именно Маркелл, нельзя
сказать наверняка, будто Евсевий пытается приписать Павлу прямое
утверждение наличия во Христе человеческого тела и души. Более
вероятным кажется, что, приписав эту позицию Маркеллу, Евсевий
обвинил его в том, что он учит о Христе как о «простом человеке» и
что именно это стало основанием для его ассоциации Маркелла и
Павла [379]. Похожая цепочка рассуждений была, по видимости,
задействована ,в разного рода обвинениях, выдвинутых против
Оригена. О них рассказано у Памфила в начале IV в. – Памфил
приводит свидетельства о том, это некие критики Оригена
приписывали последнему проповедь «двух Христов», очевидно, на том
основании, это, поскольку Ориген учил, что у Христа была
человеческая душа, значит, он должен был рассматривать Слово
Божие и Иисуса Христа как два различных существа [380]. В свою
очередь это, вероятно, дало почву для другого обвинения – в том, что
Ориген считал Иисуса Христа простым человеком, как этот ранее
делали Артема и Павел Самосатский [381]. Таким образом, на Павла
вновь ссылаются в связи с учением о том, что Христос был только
человеком, а не в связи с более тонким вопросом об отношении
между Христом
и Словом [382]. Что касается содержания приписываемого Павлу
учения о Христе как о «простом человеке», самое большее, что
можно сказать, это то, что Божественность Христа признавалась им
не так, как это делали его оппоненты, вто время как позиция
последних, в свою очередь, была необязательно такой же, как у
Евсевия 50 лет спустя.
Более точная информация о Павле приведена Евсевием несколько
выше в тексте Церковного богословия. В этом фрагменте Евсевий
упоминает о четырех различных ересях и отличает Павла, вопервых,
от Савеллия, который учил об одном Боге, но называл Отца «Сыном»;
вовторых, от эбионитов, которые исповедовали одного Бога и
признавали телесную реальность Спасителя, но не признавали
Божественность Сына; и наконец, от Маркелла, который определял
Бога и Логоса в Нем как одно и приписывал Ему оба наименования:
«Отец» и «Сын». О Павле Евсевий говорит, что, «хотя он учит, что
Иисус есть Христос Божий, и, подобно Маркеллу, исповедует одного
Бога всего сушего, Отцы Церкви объявили, что Самосатец чужд
Церкви Божией, поскольку он не исповедует Христа Сыном Божиим и
Богом прежде его рождения во плоти» [383]. Подобно Бериллу
Бострийскому до него, Павел обвиняется в отрицании
«предсуществования» Христа. Судя по этому описанию, можно
предположить, что Павел учил, что Иисус действительно есть
Христос, ожидавшийся Мессия Бога, Который явил Себя, когда
исполнилась полнота времен, но что Он не «предсушествовал» до
этого определенного момента. Действительно, Христос у Павла –
человек; в этом его и обвиняют наиболее ранние описания, а также
«Соборное послание» и Памфил; однако в данный момент, то есть в
середине IV в., Евсевий отличает учение Павла от учения эбионитов,
которые тоже придерживались такой позиции, и увязывает
специфику Павлова заблуждения с проблемой «предсуществования».
Эти две проблемы, конечно, не лишены определенной связи. Можно
предположить, что обвинение в отрицании предсуществования
Христа является логическим выводом из взглядов Павла, – авторы IV
в., в контексте споров, в которые они были вовлечены, сделали этот
вывод за него[384]. Что касается самого Павла, весьма вероятным
представляется, что акцент на то, что Христос открылся именно в
определенное время, действительно был частью его учения. Наводит
на размышления и описание учения Павла в произведении
Овопло-1цении Господа нашего Иисуса Христа, против Аполлинария,
неверно приписываемом Афанасию. В сочинении подчеркивается
именно то, что Сын Божий родился от Девы, вышел из Назарета и что
это являлось началом Его существования: от вечности Он
существовал «в предопределении», но действительное существование
приобрел только в Том, кто родился в Назарете. Достойным внимания
является то, что, согласно этому сочинению, Павел пытался оградить
уникальность Отца как единого Бога всего сущего [385]. В другом
произведении, Анакефалайосис, авторство которого приписывается
Епифанию, также нашло отражение предание о том, что Павел
утверждал, что, хотя о Христе пророчески говорилось в Писаниях, в
действительности Он не существовал до момента воплощения от
Марии [386]. Нечто подобное мы находим и у автора VI в. Леонтия
Византийского, который цитирует высказывание Павла (из Деяний
Собора 268/269 гг., о которых ниже), которое, повидимому, является
вариантом цитаты «Соборного послания» (Иисус Христос от нижних
(κάτωθεν). Согласно Леонтию, Павел утверждал, что «Слово – от
начала (άνωθεν): Иисус Христос, человек, – затем (εντεύθεν)» [387].
Употребление отличных друг от друга наречий говорит о том, что
подчеркиваемый Павлом контраст есть контраст временной,
указывающий на исполнение предустановленного плана Божия, а не
пространственный, связанный с попыткой описать «схождение»
Логоса.
Среди других источников IV в., упоминающих Павла, особый интерес
представляет фраза из послания Георгия Лаодикийского, которое
обычно ассоциируют с «Датированным Символом веры», изданным
Собором в Сирмиуме 22 мая 359 г. [388] Согласно этому свидетельству,
как Павел Самосатский, гак и Маркелл на основании начальных
стихов Евангелия от Иоанна отказывались признавать, что «Сын
Божий действительно Сын», и утверждали, что Слово Божие следует
понимать как «слово и высказывание (ρήμα και φθέγμα),
произносимые устами». Чтобы подчеркнуть, что Сын Божий «имеет
существование, существует и имеет бытие, а не является
произносимым словом (ρήμα)», осудившие Павла отцы исполъзовали
по отношению к Слову такие термины, как «сущность и Сын»,
«указывая при помощи термина «сущность» на различие между тем,
что не имеет независимого существования, иТем, Кто существует»
[389]
. Прямого подгверждения того, что Павел использовал Евангелие
от Иоанна, нет; тем более отсутствуют указания на то, что исходным
пунктом его рассуждений мог служить именно Пролог этого
Евангелия, – такое понимание мотивации Самосатца проистекает из
наложения его мыслей на полемику последующих исторических эпох.
Тем не менее очевидно, что слова Павла о том, что явление Иисуса
Христа произошло в определенный исторический момент, шли
вразрез с вечным, отличным и конкретным существованием Слова
Божия как Сына, на котором настаивали его оппоненты. В связи с
этим утверждение последними того, что Сын Божий есть «сущность»,
– данный термин употреблялся ими для обозначения конкретного
существа, которое подобающим образом именуется «Сыном». Помимо
этого, Епифаний утверждает, что Павел видел в Слове
несубстанциальное, неличное высказывание Бога, или мысль,
существующую в Боге, как «разум в сердце человека», в чем можно
услышать отзвук различия между «внутренним» и «высказанным»
логосом, о котором на век раньше в Антиохии учил Феофил[390]. По
имеющимся свидетельствам, такое понимание Слова не было просто
приписано Павлу от обратного (то есть неличное и
несубстанциальное Слово у Павла в противовес личному и
субстанциальному Слову у его оппонентов), но он действительно
понимал выражение «Слово Божие» совершенно отлично от них.
Согласно автору VI в., «Павел не говорил, что самосушее Слово было
во Христе, но называл повеление и предписание [Божие] «Словом»
(λόγονελεγε τήν κέλευσινκαί τόπρόσταγμα), то есть что Бог повелевал
через этого человека то, что хотел, и совершал это» [391]. То есть
понимание Павлом Слова Божия исходило из более широкого
понимания воли Божией, так что Слово является для него как бы
намерением Божиим в отношении Его Христа и Его народа[392].
Приведенное сообщение также увязывает перспективу Павла с
желанием сохранить уникальность Бога: «он не говорит, что Отец,
Сын и Святой Дух – одно и то же, но называет Бога, сотворившего все,
«Отцом», простого человека -«Сыном» и благодать, вдохновлявшую
апостолов, – «Духом» [393]. Здесь не указывается, чувствовал ли Павел,
как и Ориген до него, необходимость различать между Отцом как
«Богом» с определенным артиклем (ό θεός) и Сыном как «Богом» без
артикля (θεός), но его сомнения относительно этого вопроса,
очевидно, привели некоторых его критиков, так же как в случае с
Оригеном' [94], к заключению, что Павел рассматривал Христа скорее
как простого человека, нежели как Бога. С другой стороны, по
крайней мере, в одном месте, которое мы уже приводили выше,
Евсевий проводил различие между эбионитами, не признававшими
Божественности Христа, и Павлом, чье заблуждение состояло в
непризнании Его «предсушествования» [395]. Свидетельство в пользу
признания Павлом, хотя и на свой собственный манер.
Божественности Христа, мы находим в Символе веры 345 г.
(Macrostich Creed 345 AD), в тексте которого утверждается, что
ученики Павла говорили, что «после воплощения Он был в
предвосхищении сделан Богом (έκ προκοπής τεθεοποιήσθαι), хотя по
природе был простым человеком» [396]. Если Павел действительно
признавал Божественность человека Иисуса, то именно в качестве
Христа Божия, Того, Кто исполняет волю Божию по наступлении
полноты времени, а не «по природе» [397].
Послание Георгия Лаодикийского сообщает о том, что осудившие
Павла отцы использовали термин «сущность» (ούσία) для описания
конкретного существования Слова, подчеркивая тем самым особое
существование Сына наряду с Отцом. Следствие такого утверждения
проявляется в тексте послания, на которое имеется ссылка у
Афанасия, но которое последний сам не видел; согласно этому
источнику, осудившие Павла епископы также заявили в письменном
виде, что «Сын не единосущен (όμοούσιος) Отцу» [398]. Сомнений в
подлинности этого сообщения не возникало, и по этой причине
Афанасию, Иларию и Василию Кесарийскому пришлось объяснять,
почему Антиохийский Собор осудил применение термина
«единосущный» для описания отношений между Отцом и Сыном и,
соответственно, оправдывать употребление этого термина Собором в
Никее. Согласно Афанасию, Павел утверждал, что если не
принимать, что Христос – просто человек, ставший Богом, то следует
принять, что Он «единосущен» Отцу; однако это с необходимостью
ведет к появлению третьей «сущности», первичной по отношению к
Отцу и Сыну, от кого рой Они оба должны вести свое происхождение.
Утверждение, что Христос не «единосушен» Отцу, говорит Афанасий,
было сделано отцами Антиохийского Собора как раз для того, чтобы
исключить ложное понимание такого рода. Помимо этого, Афанасий
говорит, что отрицание «единосущия» распространяется только на
«телесный смысл», в котором данный термин употреблялся в
Антиохии, всвязи с чем ничто не препятствует отцам Никеи
употреблять его вдругом смысле [399]. Правдоподобие того, о чем
повествует Афанасий, можно поставить под серьезное сомнение
благодаря тому обстоятельству, что своим оппонентам он
приписывает ту же самую логику рассуждения, что и Павлу [400].
Рассказ Василия примерно того же свойства, хотя у последнего
возражения Самосатца не упоминаются [401]. С другой стороны,
Иларий упоминает, что, по мнению некоторых, термин
«единосущный» предполагает существование сущности, первичной
по отношению к Отцу и Сыну; однако причину отрицания этого
термина на Антиохийском Соборе он видит в том, что Павел,
«утверждая наличие этой единой сущности, учил, что Богодинок и
унитарен (solitarum atqueunicum) и одновременно является Сам для
Себя Отцом и Сыном» [402]. Принимая во внимание человеческий
аспект существования Христа, на котором настаивал Павел,
невозможно допустить, чтобы он постулировал унитарного Бога,
существующего одновременно в виде Отца и Сына. Сообщение
Илария могло быть основано на какомнибудь источнике, например,
на том же послании Георгия Лаодикийского, где учения Павла и
Маркелла были помещены в одну группу [40]'. В качестве
альтернативного объяснения, резкое отличие Отца от Сына, которое
мы находим у критиков Павла и в соответствии с которым Слово
описывалось как самостоятельная «сущность», вполне могло
подвигнуть Павла (возможно, даже вспомнившего недавний спор·
между Дионисием Римским и Дионисием Александрийским)
выдвинуть ответное утверждение, что Слово вдействительности
«единосущно» с Отцом; но для его оппонентов это означало подрыв
того самого различия, которое они старались оградить [404].
Основываясь на имеющихся в нашем распоряжении отголосках
былых дискуссий, невозможно с точностью определить, в каком
именно смысле Павел и его оппоненты употребляли термин
«единосущный»; тем не менее весьма вероятным кажется, что
Антиохийский Собор действительно осудил данный термин, – но и
такое отвержение должно было принять смягченную форму,
учитывая, что Соборное послание вместе с копией Деяний Собора
было послано никому иному, как Дионисию Римскому! [405]
Послание шести епископов
Краткое описание учения Павла, данное в «Соборном послании»,
вместе с другими сведениями, приведенными Евсевием, дает
возможность предположить, что Павел считал человека Иисуса
Божиим Христом, Который явился по исполнении полноты времен,
исполняя тем самым волю Божию, и именно в таком качестве есть
Бог. В то время как наиболее раннее документированное обвинение в
адрес Павла сводилось к тому, будто бы он учил, что Христос был
«простой человек», постепенно акцент сдвинулся на проблему
«предсуществования» Христа; хотя, согласно Георгию
Лаодикийскому, у которого, возможно, был доступ к
первоисточникам, уже Антиохийский Собор разобрался с этим
вопросом, применив термины «сущность» и «Сын» к Слову для того,
чтобы утвердить личное и конкретное существование вечного Слова
Божия. Наш следующий источник, известный под именем «Послания
шести епископов», предполагает в качестве контекста именно такую
картину [406]. Несмотря на сомнения, высказанные в отношении
подлинноети этого документа, содержащиеся в нем утверждения (и
лакуны), их характер, а также внутренние отсылки к другим текстам
– все говорит в пользу аутентичности [407]. Имена шести епископов –
авторов послания -также упомянуты среди авторов «Соборного
послания», в связи с чем можно предположить, что данное письмо
было составлено на одном из предшествовавших соборов и было
направлено Павлу до последнего заседания, датируемого 268/269 гт.
Принимая во внимание, что, по крайней мере, двое участников этих
заседаний, Дионисий Александрийский и Фирмилиан Кесарийский,
сформировали свои взгляды под влиянием богословия Оригена,
неудивительно, что аргументы критиков Павла будут основываться
именно на Оригене; характерные элементы богословия последнего
нашли отражение в данном послании.
Авторы послания в явном виде формулируют основные моменты, в
отношении которых учение Павла рассматривается ими как
неверное. Послание открывается следующим исповеданием веры: «ни
один человек не видел и не способен увидеть» нерожденного Бога
(1Тим. 6:16), но «никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын
открывает Его» (Мф. 11:27). Как заключают епископы, «Его, Который
познал |Бога| и в Ветхом, и в Новом Завете, мы исповедуем и
провозглашаем рожденным Сыном, Единородным Сыном, «образом
невидимого Бога, Перворожденным всея твари», Премудростью,
Словом и Силой Божией, Который есть Бог прежде всех веков, не в
предуведении, но по сущности и существованию (προ αιώνων όντα
ούπρογνώσει άλλ ουσία καί ύποστάσει θεόν), Сыном Божиим [408]».
Шесть епископов не сомневаются, что как единственный, через Кого
Отец стал известным, Христос – это не обоженный человек, но Бог
«по сущности и существованию» и как таковой – Бог от вечности.
Интересно отметить, что эта позиция не подкрепляется ссылкой на
вечную соотнесенность Отца и Сына (то есть, поскольку Отец вечен,
то и Сын вечен). Скорее, контекст и содержание этого утверждения,
как показывает приведенная выше цитата, являются
экзегетическими – это то, о чем стало известно из Писания, именно:
что Христос присутствует как в Ветхом, так и в Новом Завете.
Послание признает поставленную Павлом проблему: если
провозглашать Сына Ботом, причем Богом прежде творения мира, то
приходится провозглашать двух Богов, – но одновременно указывает,
что Писания и Ветхого и Нового Завета признают лишь одного Бога и
в то же самое время «все боговдохновенные П исания открывают, что
Сын Божий есть Бог» [409]. Рассуждение опять же развивается в
экзегетической плоскости, а не исходит из абстрактных богословских
или философских предпосылок. Основная часть послания посвящена
рассмотрению именно таких экзегетических проблем, в особенности
связанных с богоявлениями Ветхого Завета. Так, например,
утверждается,[1]по явившийся Аврааму был ангелом Отца, Сыном,
Который есть и Господь, и Бог [410]. Наконец, послание завершается на
схожей ноте, утверждая, что «Христос до воплощения назывался
«Христом» в Божественных Писаниях»[411]. Более того, поскольку
Писания говорят о Христе [412], то Он «прежде всех веков» не просто
как Сила и Премудрость Божия, но именно как Сам Христос, – так
утверждает Послание, имея в виду введенное Оригеном различие, по
которому, несмотря на то, что Христос «один и тог же по сущности,
Он в основном познаваем в том или ином аспекте (πολλαΐς έπινοίαις
επινοείται)» [413]. Христос Сам есть «Бог прежде всех веков», и хотя о
Нем говорится и Он познается под разными именами: Образ,
Первородный, Слово, Премудрость и Сила Божия, – все они
указывают не на различные существа, но являются аспектами одного
Христа, Который, таким образом, «исповедуется и провозглашается
как Бог прежде всех веков». Относительно данных имен Христа
интересно отметить, насколько редко титул «Слово» встречается в
Послании [414] – подобно Оригену, епископы понимали Христа
слишком многосторонним образом, чтобы пытаться свести Его лишь к
одному понятию.
Вечность существования Христа как Бога по природе, на которое
упирают авторы послания и которое они отстаивают исходя из
текстуальной матрицы Писания, находится в балансе с двумя
другими важными моментами. Первый момент заключается в том,
что, хотя Христос есть «Бог по сущности и по существованию», Он не
есть Сам «нерожденный, безначальный, невидимый и неизменный
Бог [415]. Он – Сын этого Бога, и послание, без всяких сомнений,
говорит о том, что Сын обладает знанием Отца «в определенной
мере» [416]. Схожим образом объясняется вечное сушествование Сына
«с Отцом» – Сын является агентом Отца в творении,
Он исполняет повеления Отца (здесь следует ссылка на Пс. 148:5),
«исполняя Отчую волю в отношении творения всех вещей» [417].
Цитируя Пролог Евангелия от Иоанна (1:3) и апостола Павла (Кол.
1:16), послание утверждает, что Бог создал все вещи через Сына, что
Он – «действительно существует и действует как Слово и Бог» и что,
если Сын действует по воле Бога, это не значит, что Он есть «простой
инструмент или не имеющая существования (άνυποστάτου)
премудрость», ибо «Отец родил Сына как живущую и имеющую
существование (ένυπόστατον) энергию, производящую все во всех»[418].
Второй важный момент заключается в том, что Божественность
Христа по природе или по сущности утверждается в послании таким
образом, чтобы нельзя было поставить под сомнение Его
человечество. Подход состоит не в анализе составляющих «частей»
Христа, как это происходит, когда, для примера, предлагается
считать, что Логос занял в Нем место человеческой души. Повторно
беря за основу образы Евангелия от Иоанна, епископы рассуждают о
Сыне, «Который будучи со Отцом, Богом и Господом всего,
посылается Отцом с небес, принимая плоть и становясь человеком
(σαρκωθέντα ένηνθρωπηκέναι)» [419]. Таким образом, «тело, принятое от
Девы, содержащее «всю полноту Божества телесно», было
неразрывно соединено с Божеством и было обожено (τη θεότητι
άτρέπτως ήνωται και τεθεοποίηται)» [420]. И хотя тело Христа было
«обожено» так, как это здесь описывается, Христос, определенно, не
есть человек, ставший Богом, но Сын Божий – Сам Бог по природе,
Который стал человеком. Таким образом, уважается и отстаивается
сотериологическая необходимость: вышний Бог спасает падшего
человека, как это и описывается в Евангелии, которое не от
человеков, но от Бога (ср. Рим. 1:1; Гал. 1:11-12). Однако итоговая
вероисповедальная формула, которая следует за этим утверждением,
сохраняет строгую параллельную структуру: «на основании этого, Он,
Тот же Самый, есть Бог и человек, о Котором пророчески говорится в
Законе и Пророках и в Которого верит вся Церковь под небесами» [421].
Один и тот же субъект, Иисус Христос, бывший объектом
исповедования авторов послания с самого начала, содержит в Себе
все то, что, по их мнению, делает Его и Богом, и человеком. В
богословском смысле, мы имеем дело с попыткой утвердить
предикаты данного субъекта, а не построить анализ состава или
структуры субъектного бытия. То, что Христос одновременно и Бог, и
человек, показывается, – продолжает послание, – Его делами: с одной
стороны, как говорят Евангелия, Он как Бог совершает чудеса, а с
другой, как причастный плоти и крови, во всем подвергается
искушениям, но не грешит [422]. Будучи составлено епископами или
даже собором, «Послание шести епископов» представляет собой
важнейшую веху для развития последующего богословия. Посланием
были обозначены богословские элементы, которые начнут
воеприниматься как наиболее существенные, а именно утверждение
Божественности и человечества Иисуса Христа (с отдачей первенства
Божественности) и утверждение Его вечного существования, которое
доказывается исходя из текстуальной матрицы Писания.
Павел в контексте христологических споров
Дурная слава, по которой Павел считал Христа «просто человеком» и
отвергал Его «предсуществование», то есть обвинения,
предъявлявшиеся вадрес Самосатца вплоть до середины IV в.,
впоследствии уступили место еще более тяжелым обвинениям, по
которым ему приписывалось введение «разлитая», или «разделения»,
между Иисусом Христом и Словом Божиим как двумя отдельными
существами. Наиболее раннее упоминание об этом встречается в
первом послании Аполлинария Лаодикийского (ок. 390) к Дионисию,
которое открывается следующими словами:
Я был потрясен, услышав о тех, кто исповедует Господа
воплощенным Богом, и, тем не менее, впадает в разделение
(διαιρέσει), которое было придумано людьми, мыслящими как Павел.
Рабски последуя Павлу Самосатскому, они утверждают, что один с
неба, Которого они исповедуют Богом, а другой – человек с земли, и
говорят, что один несотворенный, а другой сотворенный, один
вечный, а другой – со вчерашнего дня [423].
Переход к более детальному анализу отношений между Христом и
Словом можно также увидеть, если сравнить, с одной стороны, три
книги Речей против ариан Афанасия (где имя Павла упоминается в
связи с проблемами предсуществования и первенства
Божественности во Христе, то есть в связи с утверждением, что
Христос есть Бог, ставший человеком, а не человек, ставший Богом)
и, с другой стороны, четвертую Речь против ариан, также
подписанную именем Афанасия и критикующую «некогорых
последователей Самосатца» за вводимое ими «различение Слова и
Сына», то есть за то, что о Сыне они говорят, что Он есть Христос, в
то время как Слово – это некто иной[424]. В спорах конца IV в. по
вопросу о полноте человеческой природы Христа и того, каким
именно образом она соединена со Словом, Аполлинарий и члены его
круга нападали на своих противников, прежде всего на Диодора
Тарсийского, заявляя, что те еледуют Самосатцу, и это несмотря на
то, что за самим Павлом никаких таких идей прежде не замечалось. В
реальности обвинители даже шли на подлог, производя на свет такие
документы, как «Антиохийский Символ веры» и «Письмо Феликса
Максиму», в которых характерные идеи и выражения оппонентов
приписывались именно Павлу, чтобы таким образом оппонентов
можно было удобнее и проще заклеймить[425].
Защищая свою точку зрения, Аполлинарий ссылался на некие
«соборные постановления» (δόγματα συνοδικά), обращенные против
Павла Самосатского, хотя остается до конца неясным, какие именно
документы им имелись в виду[426]. Несмагря на это, вскоре
материализовались дополнительные источники, касающиеся
заблуждений Павла; к рассмотрению этой последней, наиболее
спорной, группы свидетельств мы теперь перейдем. Речь идет о
ДеянияхАнтиохийского Собора 268/269 гг., повествующих о диалоге
между Павлом и Малхионом, и о послании, изданном данным
Собором (которое, вероятно, следует отличать от «Соборного
послания», фрагменты которого приводятся у Евсевия) [427].
Упоминание об этих двух документах впервые появляется в 428/429
гг., когда Евсевий, позднее епископ Дорилеума, авто время
ревностный ритор,־искусный юрист и, возможно, судебный чиновник
[428]
, составил обвинение в адрес Нестория. В своем тексте Евсевий
сопоставил ряд высказываний последнего с мнениями,
приписываемыми Павлу, пытаясь таким образом доказать близость их
мыслей, чтобы осудить константинопольского епископа по
ассоциации [42]'׳. Сверх этого, выдержки т Деяний существуют
погречески у Леонтия Византийского и у императора Юстиниана (VI
в.), оба из которых цитировали Павла, чтобы доказать, что источник
учения Нестория–это пресловутый Самосатец. Дополнительные
выдержки содержатся в текстах авторов нехалкидонской ориентации
– Тимофея Элура в V веке и Севира Антиохийского в VI в. (в этом
случае они используются, чтобы оспорить позицию Халкидона) – и
еще в нехалкидонском сборнике текстов, у которого нет названия, но
который, без сомнения, был составлен в тех же целях [430]. Таким
образом, несмотря на то, что выдержки изДеяшйбыли задействованы
в отличающихся друг от друга полемических контекстах, все они
сохранились у авторов, претендовавших на роль преемников
богословской традиции, идущей от Афанасия и Кирилла
Александрийских (а также от Аполлинария), и использовались для
борьбы с одним и тем же заблуждением: введением различения
между Словом и Иисусом Христом. По имеющимся данным, среди
свидетельств, которые были собраны в этих кругах в полемических
целях, содержатся как подлинные фрагменты, так и те, которые, без
сомнения, являются подделкой аполлинаристов [431], в связи с чем
неудивительно, что подлинность фрагментов постоянно была
предметом горячих споров [432]. Факт отсутствия более ранних
упоминаний о Деяниях (не считая, возможно, Евсевия вЦерковном
богословии и Георгия Лаодикийского в послании последнего), может
быть связан с тем, что до несторианского спора обоснование
собственной богословской позиции при помощи дл инных и
подробных цигат из писаний авторитетных авторов еще не успело
стать общепринятой практакой. Схожим образом, по сравнению с IV
в., в свидетельствах V и VI веков о Павле внимание может быть
отдано совершенно другим аспектам, поскольку сместился сам фокус
богословских дискуссий: если в IV веке это было вечное и
субстанциальное существование Слова Божия, то позднее вопрос
встал о свойствах союза между Словом и Его телом. Также следует
отметить, что диалог между Малхионом и Павлом, отраженный в
Деяниях,весьма близок посвоемутипу к «вероучительной дискуссии с
участием церковного учителя», как об этом говорилось выше, и если
в имеющихся в нашем распоряжении фрагментах действительно
употребляются некоторые слова и фразы, характерные для
позднейших аполлинаристских писаний, то отсутствие других
ключевых терминов имеет всетаки более важное значение[433]. Но
даже если Деяния были действительно составлены в 111 в., остается
вероятность того, что они были подвергнуты «редактированию» до
того, как к ним стали обращаться за помощью по ходу богословской
дискуссии, структура и основные понятия которой были уже
совершенно иными, чем во времена Антиохийского собора [434].
Основной момент, за который Деяния критикуют Павла, это вводимое
им различие между Иисусом Христом и Божиим Словом как двумя
отдельными существами: «он [Павел] говорит, что Иисус Христос –
это один, а Слово – другой» (S 7). По всей видимости, сперва
дискуссия носила экзегетический характер и касалась личности
Помазанника Божия (вероятно, в связи с Пс. 44:8, LXX) и того, каким
образом Павел употреблял данный титул по отношению к Спасителю:
«Помазанный от Давида» (ό έκ Δαβίδ χρισθείς) [435]. Ясно, что, по
мнению Павла, «Слою не было помазано» (если он вообще мог
мыслить о Слове в таком аспекте, поскольку для него Божественное и
неизменяемое Слою не могло быть пассивным объектом юздействия
со стороны Бога), но что «помазан был человек» – «помазуется
человек из Назарета, наш Господь» (S 26). Слою, продолжает он,
«больше, чем Христос» и «от начала» (или «свыше»), в то время как
«Иисус Христос, человек, – с этого времени» (или «от нижних»); Он
«стал великим через Премудрость» (S 26). Данная логика
распространяется и на рождение Христа, в результате чего на свет
появились высказывания, столь пригодившиеся Евсевию из
Дорилеума в его полемике с Несторием: «Мария не родила Слою»,
поскольку «она не существовала прежде всех век» (S 1, 2,26); «она
приняла Слою и она нестарше, чем Слово» (S 3,26). Очевидным
образом, признавая, что «Слово рождено от Бога» (S 18), Павел
одновременно подчеркивает, что «Мария родила человека, подобного
нам» (S 4, 26). И хотя Иисус Христос – это «подобный нам человек»,
Он «лучше по отношению ко всему», в частности, в том, что «на Нем
была благодать от Духа Святого и из обетований и Писаний» (S 5,26).
Таким образом, заключает Павел, «Помазанный от Давида», столь
далекий оттого, чтобы быть чуждым Премудрости, на самом деле
имеет Премудрость обитающей в Себе уникальным образом: «ибо
Премудрость была также в пророках, в еще большей степени в
Моисее и ю многих господах, но еще более – во Христе, как ю храме»
(S 6,8-9,27). Однако, даже имея Премудрость обитающей в Себе в
превосходной степени, «открывшийся», или «явленный» (ό
φαινόμενος) Христос не есть Сам по Себе Премудрость, ибо
Премудрость не может быть ограничена определенной формой, как
Она не может быть видимой человеческому зрению, будучи более
великой, чем все видимые явления (S 12,28).
Несмотря на измененный полемический контекст, в котором они
были сохранены, приведенные фрагменты попрежнему
демонстрируют характерные для Павла акценты, слышанные нами
прежде, а именно: что Иисус из Назарета, подобный нам человек,
есть Христос Божий, Который наконец явился. Но одновременно
становятся заметны также некие новые, дополнительные грани этой
основной позиции. Наиболее интересным здесь является уточнение,
что благодать, почившая на Христе, – «от Духа и от обетований и
Писаний» (S 5). Данное утверждение, необычность которого
свидетельствует о его подлинности, указывает на экзегетический
контекст богословия Павла, заметный также по «Посланию шести
епископов», но более никак не присутствующий в Деяниях. Похоже,
что для Самосатца благодать Духа, почившая на Христе как
Помазанном, рассматривается с точки зрения исполнения Писаний,
когда последние истолковываются под воздействием того же Духа,
как обетования о Христе [436]. Столь же достойной внимания и новой
является информация, в соответствии с которой Премудрость, или,
иначе, Слово, ранее обитавшая в пророках, Моисее и «многих
господах» (возможно, имеются в виду патриархи и праведники
Ветхого Завета), теперь поселилась в превосходной степени во Христе
«как во храме» [437]. Данное выражение действительно может
восходить к Павлу, у которого оно могло просто указывать на то, где
теперь следует искать Премудрость Божию: во Христе и в Его
Евангелии, а не в Законе и Пророках, однако возможно и то, что
здесь мы имеем дело с попыткой представить Павла как
предшественника Диодора и Феодора Мопсуестийского. В любом
случае речь идет о том, чтобы оформить в наиболее отчетливой
(|юрме приписываемое Павлу различение между Премудростью (или
Словом Божиим) и Иисусом Христом, – ибо то, что «обитает», есть,
очевидным образом, иное по отношению к тому, в чем оно обитает.
Одновременно утверждается, что такое учение ведет к вере в двух
сыновей Божиих, хотя и признается при этом, что сам Павел не делал
этого вывода: «они говорят, что нет двух сыновей, но если Иисус
Христос – Сын Божий и Премудрость также Сын Божий, и если
Премудрость – это одно, а Иисус Христос – другое, значит, сыновей
двое» [438]. Именование Премудрости, или Слова Божия, «Сыном» – это
позиция, которую Павел почти наверняка не принял бы; данная
постановка базируется на предпосылках его оппонентов и
развивается ими исходя из принципа reductio adabsurdam.
Следующий фрагмент из Павла, сохранившийся в сирийской
антологии, указывает на то, что последний сознательно старался
избежать введения двух сыновей, более того, он считал, что такой
вывод напрямую вытекает из позиции его оппонентов:
Иисус Христос, родившийся от Марии, был един с Премудроегью, был
одно с ней и через нее был «Сыном» и «Христом». Ибо говорится, что
Тот, Кто пострадал. Кто претерпел бичевание и заушение, Кто был
похоронен и сошел во ад. Кто воскрес из мертвых, – это Иисус
Христос, Сын Божий. Ибо не следует разделять Того, Кто был прежде
всех век, от Того, кто родился в коние дней; что касается меня, я
страшусь утверждать, что есть два сына, страшусь утверждать, что
есть два Христа (S 21).
В данном случае Павел, скорее всего, обращается к традиционной
формуле исповедания веры [430]. Основываясь на последней, он
объясняет свое собственное понимание единства Иисуса и
Премудрости (вплоть до Их бытия в качестве «единого целого»), из
которого вытекает Его бытие как Сына и Христа Божия, – все это
имеет место потому, что Он прошел через Страдание и Воскресение
[440]
. Именно это тождество, в смысле определяющих качеств, Павел
старается здесь утвердить; тождество, которым, как он чувствует,
придется пожертвовать, если будет проведено различие между Тем,
Кто от вечности, и Другим. Который открылся при наступлении
полноты времен. Даже если бы его оппоненты взялись утверждать,
что Сущий от века как Слово и Премудрость Божия – это Тот же
Самый, Кто родился от Марии, Павел ответил бы им, что они
посвоему, но все равно вводят различие, ибо то, что говорится о
рожденном от Марии, а именно, что Он был распят и воскрес, не
говорится о Слове в Его вечном бытии вместе с Богом и, таким
образом, не относится к подлинной личности вечного Слова;
определяющие характеристики одного не являются определяющими
характеристиками другого, поэтому опятьтаки провозглашается
наличие двух сыновей. Кроме прочего, данная логика в состоянии
объяснить восприятие мысли Павла, характерное для более ранних
описаний его учения, а именно приписываемое ему отрицание
«предсуществования» Христа. Павел был готов говорить о Христе как
существующем «пророчески» до того, как Он обитал среди людей, но
он не понимал данное «предсуществование» как самостоятельную
стадию в биографии Слова, Личность Которого на этой более ранней
стадии требовалось бы описывать как-то иначе [441]. В отличие от
оппонентов, высказывания Павла об обитающей во Христе
Премудрости, какой бы смысл он сам в них ни вкладывал,
свидетельствуют о том, что его богословская мысль была устремлена
к описанию отнюдь не структуры или композиции Иисуса Христа, но
к Его тождественноети, ибо Он есть то самое начало и тот самый
конец, та самая альфа и та самая омега, о которых говорится в
Писании.
Вопросы, которые пытается рассмотреть здесь Павел, похоже, были
неактуальны для его критиков. Тем не менее последние были весьма
обеспокоены тем, что, с их точки зрения, выглядело как радикальное
различение Слова, или Премудрости Божией, и Иисуса Христа. Как
им казалось, Павел допускал не более чем «соединение (συνάφεια) по
доброй воле» между человеком Иисусом и Божественной
Премудростью (S 24), или Его «участие» в Премудрости (S 25, 36). В
противовес этому они настаивали на абсолютном единстве Слова
Божия и принятого Им тела. Согласно Малхиону, Слово и Его тело
были «соединены» вместе, так что «Сын Божий осуществлен
(ούσιώσθαι) в Своем теле» [442]. Малхион не возражает против
описания союза Премудрости и тела как «соединения», поскольку
последнее не понимается как соединение «согласно наставлению и
участию», как у Павла, но «согласно сущности, воплощенной в теле»
[445]
. Слово «сущностно» (οΰσιωδφς) соединено со Своим телом,
результатом чего является не «составное бытие» (σύνθεσις), а
«сущностный союз» (ενωσις ουσιώδης) – все эти термины являются
принципиальными для оппонентов Павла [444]. Говоря так, Малхион
рассчитывает утвердить, что «Единородный Сын, Который
существует от вечности, прежде всякой твари, воплощен целиком в
Спасителе», – чего не принимает Павел [445]. Утверждая, что Слово и
Его тело были «сущностно объединены» таким образом, что больше
нет «разделения» между ними [446], Малхион и Антиохийский Собор,
тем не менее, продолжают различать между тем, что говорится об
Иисусе Христе, вопервых, как о человеке, и, вовторых, как о Боге [447].
Что именно имелось в виду Малхионом, когда тот утверждал
«сущностное единство» между Словом и Его телом, становится ясным
на основании следующего важного отрывка, в котором сохранился
фрагмент оживленного диалога между ним и Павлом. Малхион, как
представляется, отвечал на вопрос, поставленный ему Павлом:
МАЛХИОН: Это Слово, таким образом существующее (ύφεστηκώς),
Само было рождено в том теле (что ты также признал в отношении
выражения «от Марии»), поскольку Писания говорят, что Он стал
соучастником нашей природы, как мы участвуем в ней, и поскольку
«дети», говорит Писание, «приобщились плоти и крови», то и Сын
Божий также (Евр. 2:14). Поэтому я спрашиваю: точно так же, как
мы, люди, составные живые существа, обладаем соединением плоти и
чего-то, [1]по во плоти обитает, так ли именно Само Слово. Сама
Премудрость была в том теле, как жизнь- в нас, пока мы на земле?
Как в нашем случае мы обретаем полноту от соединения, так и в Его
случае – от совпадения в одном и том же Слова Божия и того, что
произошло от Девы (έκ τοϋσυνδεδραμηκέναι έν ταύτφ τόν τε θεόν λόγον
καί τό έκ τής παρθένου).
ПАВЕЛ: Ты ответил, я думаю, и за нас, как и предполагал.
МАЛХИОН: Я спросил – поскольку ты говоришь о Премудрости и
Слове, об одном человеке говорится, что он причастен слову и
мудрости, а у другого их нет, но говоришь ли ты (в случае Христа),
что это по причастию им, или потому, что Само Слово и Премудрость
снизошли на Него? Сущность и участие не схожи. Ибо то, что по
сущности есть часть целого – Того, Кто стал нашим Господом через
соединение Бога и человека (τό μέν γάρ ουσιώδες ώς μέρος τού όλου,
τοΰ κατά συμπλοκήν θεοϋ καί ανθρώπου γενομένου κυρίου ημών), но
участие не означает быть частью того, в ком это есть.
ПАВЕЛ: Все здесь присутствующие согласны с тем, что я говорю.
Теперь тыскажи мне – я спрошу первым (на этот раз): в твоем
рассуждении приводится в пример, что никоим образом не является
аналогичным. Человеческий организм имеет другое устроение
(έτεροίαν... τήν κατασκευήν). Мы говорили о Слове и Премудрости. И
все... |чтоты говорил, проводя аналогию с человеком, не имеет
отношения к делу] [448].
Употребляя термин «сущностный», Малхион желает подчеркнуть, что
отношение между Иисусом Христом и Словом – это более, чем союз
«по причастию», в котором участники остаются каждый самим собой
и лишь приобретают дополнительные, случайные и несущностные
свойства в той или иной степени (человек остается человеком, вне
зависимости от того, мудр он или нет). Но вместо того, чтобы
утверждать полное тождество (то есть, что Иисус Христос есть Слово
Божие), Малхион отстаивает единство в понятиях составного бытия:
Иисус Христос состоит из Слова и тела, полученного от Марии.
Будучи «частями целого», данные элементы обозначаются
Малхионом как «сущностные»; в сочетании, или в соединении (κατά
συμπλοκήν), они дают в результате единого Господа Иисуса Христа,
Который, таким образом, есть не человек, причастный Премудрости,
а Премудрость, «воплощенная в теле»,- Как отмечалось выше,
Малхион утверждает, что достигаемое таким образом единство
абсолютно, так что между Словом и телом более не существует
никакого разделения [449]. Это, конечно, было высказано в противовес
Павлу, которого постоянно обвиняли в отделении Слова, или
Премудрости, от Иисуса Христа. Однако упор на то, что Иисус
Христос состоит из Слова и тела, связанных между собой сущностным
союзом, имеет несколько парадоксальное следствие, заключающееся
в том, что Малхион достаточно неохотно именует Иисуса Христа
Божиим Словом [450].
В приведенном выше отрывке Малхион развивает понимание
«сущностного союза» Слова и Его тела, приводя в качестве аналогии
человека: Слово пребывает в Иисусе Христе таким же образом, как
то, что обитает во плоти, пребывает в людях. И хотя, как в
приведенном отрывке, он готов употреблять термин «человек» для
описания человеческой «части», соединенной со Словом, обычно он
ограничивается употреблением понятия «тело» или «то, что от Девы»
[451]
. Причина этого очевидна: для Малхиона Слово было во плоти
Иисуса Христа таким же образом, как то, что оживляет плоть,
пребывает в людях. Более прямо об этом говорится во фрагменте
Соборного послания, сохранившемся у Леонтия, в котором авторы
послания отвечают Павлу, который, как было сказано, возражал
против применения данной антропологической парадигмы,
обосновывая это тем, что устройство человека слишком непохоже:
Какой смысл утверждать иное устройство (έτεροίαν... τήν κατασκευήν)
Иисуса Христа по сравнению с нашим? Мы считаем, что Его состав
(σύστασιν) отличается от нашего только в одном аспекте, хотя,
конечно, чрезвычайно важном: Бог Слово в Нем есть то, что
внутренний человек – в нас (S 30).
Из замечаний Малхиона и Антиохийского Собора трудно сделать
иной вывод, кроме того, что Слово занимает место души в составном
бытии Иисуса Христа[452]. То, что присутствующие на Антиохийском
Соборе отцы могли придерживаться такого взгляда, не должно
рассматриваться нами как анахронизм и не должно удивлять. Ранее в
данной главе уже говорилось, как учение Оригена о человеческой
душе Иисуса Христа подвергалось нападкам в конце III – начале IV
веков. Поводом для беспокойства был не миф о «предсуществующих
душах», раскритикованный Мефодием, но убеждение, что коль скоро
Христос считается обладающим человеческой душой, то в Нем нет
никакой «части», которая могла бы быть Божественной, поэтому Он –
«простой человек». J10-гика данного рассуждения проистекает из
особого понимания Иисуса Христа, по которому многогранные и
сложные размышления, рассмотренные в предыдущих главах,
свернуты до достаточно грубого и даже материалистического
анализа Христа как состоящего из «частей». Такой подход очевидным
образом отражен в аргументах, которые были выдвинуты отцами,
осудившими Павла Самосатского. Однако тот непрямой способ, при
помощи которого последние выражали свое мнение, а также то
обстоятельство, что выдвинутые Павлом претензии к предложенной
ими аналогии были, по общему признанию, зафиксированы в
сохранившемся фрагменте, – указывают на то, что собравшиеся для
осуждения Павла отцы, скорее, сами делали неуверенные шаги по
неизвестной им территории, нежели отстаивали вполне развитую и
хорошо известную теорию. Подобным же образом спустя несколько
десятилетий Памфил и Евсевий будут пытаться защитить Оригена –
делая ссылки на те места Писания, в которых упоминается о душе
Христа, однако не рассматривая вытекающие из этого
христологические проблемы. Лишь в своих более поздних работах
Евсевий напрямую утверждает, что считает Слово оживляющим
«бездушную и неразумную» (άψυχον... καί άλογον) плоть, так что
именно способность совершать это доказывает, по его мнению,
индивидуальное существование Слова [453]. Осуждение Павла
Самосатского, а также критика учения последнего, прозвучавшая на
Соборе в Антохии, укрепили позицию, в соответствии с которой
воплощение Слова рассматривалось по аналогии с «одушевлением»
тела, и именно это неоднозначное наследие сьпрало немаловажную
роль в спорах следующего столетия [454].
^ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Богословское размышление и споры, в центре которых стоял вопрос о
том, Кем именно является Иисус Христос, обозначили путь, ведущий
по направлению к Никее. И действительно, созерцание личности и
дел Христа неизменно остается сердцевиной христианского
богословия. Апостольская проповедь распятого и воскресшего Христа
положила начало этому пути, в то время как Евангелие,
провозглашеннос в этой проповеди, продолжает требовать ответа от
человеческой мысли. К концу 11 в. установились понятия канона и
традиции Евангелия по Писаниям (понимаемого как Закон, Псалмы и
Пророки), на основании которых должен провозглашаться Христос.
Именно они задают структуру процессу истолкования и принимаются
как нормативные, по крайней мере, в течение покрываемого данной
серией периода. Объектом богословского осмысления при этом
является не «исторический Иисус» и не «значение» ветхозаветных
или апостольских текстов, устанавливаемые при помоши разного
рода историко-критических методов, но Христос Писания, Христос,
созерцаемый через посредство Писания, ибо только Он есть Слово
Божие. Будучи субъектом Писания на всем его протяжении,
распятый и воскресший Христос «вчера, сегодня и во веки тот же»
(Евр. 13:8), и Он становится плотью в Евангелии, которое
рекапитулирует Писание при помощи заключенного в нем
исчерпывающего Слова. Но Христос остается также Грядущим, Тем,
Кто направляет наше внимание обратно к Писанию, так чтобы мы
могли разглядеть Его подлинный лик (ср. Мф. 11:2-5). Он продолжает
быть «воплощенным» в тех, кто посвящает себя Слову, познающих
Христа (ср. Еф. 4:20), умирающих со Христом (Рим. 6:3-11) и, наконец,
достигающих состояния Христовой полноты (Еф. 4:13).
Канон истины, таким образом, способствует осмысленной
вовлеценности в истолковагельный диалог с Писанием, совершаемый
в перспективе Креста, что продолжает изначальную традицию
проповеди Евангелия «по Писаниям». Но, хотя основные очертания
канона понятны, некоторые его детали оставались предметом
интенсивного осмысления и спора. Как и прежде, споры были
сосредоточены вокруг личности Иисуса Христа: каким образом Его
Божественность соотносится с Божией, а Его Сыновство – с
Отцовством Бога? Как Он соотносится с нами? Действительно ли Он
подобный нам человек, и если так, то каким образом он
одновременно – Бог и «один Господь» (1Кор. 8:6)? Разнообразные
ответы на эти вопросы, предложенные доникейскими богословами,
были подробно рассмотрены нами на страницах этого тома, поэтому
нет необходимости их вновь освещать.
Тем не менее в богословской мысли периода, предшествующего
Никее, существует ряд аспектов и вопросов, которые повторяются
снова и снова, как бы кипя на медленном огне и готовясь взорваться в
спорах последуюших веков. Наиболее важная группа вопросов
касается уже не просто личности Христа, а того, из чего последняя
складывается. Первый подход состоит в том, чтобы рассматривать
Его личность в терминах «личного субъекта», который сохраняет свое
тождество несмотря на различные проявления вдоль временной оси.
Данная позиция была отмечена нами в творениях Иуетина Мученика:
существование «в качестве» Иисуса Христа представляется у этого
автора всего лишь фазой биографии Слова. В более явной форме
данный подход был выражен Малхионом на Антиохийском Соборе,
когда последний преддожил понимать «воплощение» как
«одушевление» бездушного тела Словом. Обе эти позиции, как мы
убедились, несут в себе определенные проблемы: будучи
посредником, Слово у Иуетина являет не столько Отца, приводя нас к
общению с Богом, сколько Свою Собственную, более низшую,
Божественность, в то время как для оппонентов Павла Самосатского
Иисус Христос уже не вполне и всецело Слово Божие, но некое
составное существо, только один из компонентов Которого – Слово.
Обнаруживается и еще один элемент, указывающий на более
глубокую модификацию: в обоих упомянутых случаях, как и в случае
с автором Опровержения всех ересей, приписываемого Ипполиту,
предмет размышлений переносится с Иисуса Христа на Слово,
причем последнее понимается как независимое, божественное или
полубожественное, действующее лицо. Этот сдвиг фокуса, по
существу, превращает богословие в мифологию, в попытку изложить
с неуточняемых позиций биографию Слова и объяснить в грубой
материалистической манере структуру составного бытия Христа,
воплощенного Слова. Более того, «предсуществование» Христа здесь
относится не в строгом смысле ко Христу, но к хронологически
определяемому вечному существованию некоего субъекта, личность
которого, в качестве субъекта, сохраняет свою непрерывность, хотя и
является в различных формах и действует различными способами, –
то, что можно сказать о Слове воплощенном, об Иисусе Христе,
невозможно сказать применительно к Слову до этого эпизода и от
вечности.
Альтернативный подход к пониманию личности Иисуса Христа
демонстрируется, в каждом случае посвоему, сочинениями Игнатия,
Иринея, Ипполита и Оригена, и, судя по дошедшим до нас намекам.
даже Павла Самосатского. Личность Христа описывается здесь в
предикативном смысле, то есть при помощи отличительных свойств,
обозначающих особость Христа, а именно свойств, провозглашенных
в Евангелии, врезультате чего богословие сохраняетсвой
вероисповедальный и керигматический характер. Предметом
богословского размышления у всех этих авторов остается распятый и
воскресший Христос, а Его личность осмысливается ими в понятиях
исповедания веры – через посредство истолковательного диалога с
Писанием, говорящим о Нем как о Слове Божием и о Сыне Отца.
Одним их следствий такого вероисповедного подхода, как бы изнутри
матрицы Писания, является то, что вечность Христа не описывается
темпорально, а Его предсушествование не понимается с точки зрения
непрерывности личного субъекта, обладавшего до момента Страстей
некими иными отличительными характеристиками. Напротив, и
предсуществование, и вечность определяются на основании Писания,
ибо Христос и возвещающее Его Евангелие являются предметом
повествования Писания с самого начала. Более того, по крайней
мере, в случае с Игнатием и Иринеем, не стоит даже вопроса о том,
что, как Сын, Христос в действительности являет Отца, единого
истинного Бога, и тем самым приводит нас к общению с Самим
Богом.
Как было замечено, в том, что имеет отношение к связи Слова и Бога,
контраст между Иустином и Иринеем во многом параллелен
контрасту между Арием и Никейским Символом веры (325 г.).
Утверждение единосущности Сына с Отцом исключает любое
понимание Сына как промежуточного существа, занимающего
посредническую позицию между Богом и тварной реальностью,
поскольку последнее только усилило бы разделение между Богом и
творением. Вместо того, чтобы выступать как бы в роли буфера
между Богом и творением, будучи истинным Богом от истинного
Бога, как настаивает Никейский Символ, Сын является подлинным
локусом откровения Отца в мире и, таким образом, гарантирует, что
Бог действительно вошел в общение с делом Своих рук. Подобным же
образом отказ от временных категорий при рассмотрении вопроса о
происхождении Слова исправляет любую попытку темпорализации
Бога и мифологизации богословия, фокусируя вместо этого внимание
исключительно на Самом Христе. Данный момент был отмечен по
завершении первого раунда христологических споров, когда в
определении Халкидона (451 г.) была еделана запись, что один и тот
же Господь Иисус Христос является субъектом божественной и
человеческой предикации таким образом, что обе природы сохраняют
свою целостность в одной ипостаси, в одном субъекте предикации,
Иисусе Христе, и что именно Он – Сын, Единородный Бог, Слово и
Господь, как научили пророки от начала.
Понимание воплощения как «одушевления», предложенное в
качестве предварительного решения Антиохийским Собором 268 г.,
стало общепринятой позицией в следующем столетии. Эту точку
зрения мы находим у Евсевия Кесарийского; как утверждается, ее
разделяли ариане; и, конечно же, в первую очередь, она получила
известность благодаря Аполлинарию Лаодикийскому, использование
которым этой идеи вылилось в соответствующий богословский
конфликт и осуждение. Подобное понимание воплощения нередко
приписывается и Афанасию, хотя, как мы увидим в дальнейшем, в
своем раннем трактате на данную тему, О воплощении,последний не
пытается анализировать состав бытия Христа, точно так же, как он не
пытается построить свое описание того, как одно из Лиц Троицы
стало человеком, лишь на основании результатов соответствующих
споров IV века, игнорируя содержание самих этих споров. Напротив,
упомянутое сочинение открывается словами Афанасия о том, что оно
было задумано им как апология Креста: с точки зрения этого отца,
«воплощение» невозможно отделить от Страстей, как если бы это был
некий отдельный момент, ибо именно Распятый и Воскресший есть
воплощенное Слово Божие. Данная позиция с очевидностью
подразумевает дальнейшие выводы, и мы видели, как некоторые
доникейские богословы развивали данное положение, в то время как
дальнейшее рассмотрение богословия Афанасия будет продолжено
нами уже в следующем томе.
Следующий важный аспект размышлений, рассмотренных в
настоящем томе, заключается в том, что богословские позиции и
формулы, о которых шла речь, в основном появились на свет изнутри
матрицы Писания: исконным контекстом богословских формул
являлась их непосредственная связь с Писанием. С особенной
ясностью это можно видеть на примере Оригена. Так, Ориген
осознает тот факт, что утверждение особого и вечного существования
Сына стоит в прямой связи с необходимостью ухода богословия с
уровня плоти, будь то плоть Самого Иисуса или плоть Писания, то
есть буква и буквальный смысл, – богословие должно проникнуть
сквозь эти завесы, чтобы быть в состоянии разглядеть Само Слово
Божие. В основе этой экзегетической динамики, которой и
посвящено введение в Комментарий на Иоанна, является отношение
между Писанием и Евангелием, которое ведет экзегета в самую
сердцевину богословского размышления, то есть к понятиям канона и
традиции Евангелия по Писаниям. И действительно, в сочинениях
Оригена можно найти многие богословские позиции и формулы,
которые вновь дадут о себе знать в творениях следующих поколений
богословов, будьте ариане, никейские богословы или халкидониты, а
именно: утверждение трех ипостасей; отвержение термина
homoousios в пользу схемы, основанной на идее участия; идея
вечного рождения, рассматривающая Бога как Отца, а не как Творца;
а также утверждение, что один и тот же Христос есть субъект двух
различных, даже противоположных наборов предикатов, при помощи
чего доказывается реальность двух природ во Христе, сохраняющих
свою целостность при одновременном «обмене свойствами» между
ними. Все эти позиции будут рассматриваться нами в последующих
томах. Упомянутые богословские интуиции рождены именно из
созерцания Христа в процессе вчитывания в Писание – они не
являются независимыми блоками некоей догматической системы, о
которой можно бьшо бы сказать, что она построена из своих
собственных независимых представлений. И хотя споры последующих
веков имеют тенденцию концентрироваться на самих формулах, дабы
можно было достичь всеобщего согласия относительно существа
веры, которое всегда должно выражаться кратко и авторитетно, –
упомянутые формулы в не меньшей степени принадлежат
фундаментальному контексту вовлеченности в Писание в процессе
созерцания Христа.
Обзоры догматики, рассматривающие доникейский период лишь под
прицелом богословских формул никейской и посленикейской эпох,
рискуют проглядеть сам контекст, который придает смысл этим
формулам. Как отмечалось во введении, в отсутствие доказательств
любые выводы являются в лучшем случае двусмысленными. Путь к
Никее – это, таким образом, не предыстория Никеи, но необходимый
фон, помогающий нам лучше понять богословские споры
последующих веков.
^ ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Как указывает А. МакГрат: «С самого начала историю догматики
писали люди, ставившие своей целью ее ликвидацию· (A. McGrath,
The Genesis of Doctrine: A Study in the Foundation of Doctrine Criticism
(Grand Rapids, Mich: Eerdmans.1997), 138).
[2] J.N. Kelly. Early Christian Doctrines, 5th ed. (San Francisco: Harper,
1978 11958J).
[3] A. Grillmeicr, Christ in Christian Tradition, vol. 1, trans. from the 2nd
rev. ed. by J. Bowden (London: Mowbrays. 1975); последующие тома
были написаны с помощью Т. Хайнтале-pa. R.P.Hanson, The Search for
the Christian Doctrine of God (Edinburgh: T & T Clark, 1988).
[4] W. Bauer, Reclitglaubigkeit und Ketzerei im allesten Christentum
(Tubingen: Mohr, 1934); trans. 01'second edition (1964, ed. by G.
Strecker) by R. Krafl et al..Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity
(Philadelphia: Fortress, 1971).
[5] Как отмечает социолог Дж. Элстер, «Нет никаких оснований
полагать, что верования. служащие определенным интересам,
должны также объясняться этими интересами» (·Belief, Bias and
Ideology», in M. Hollis and S. Lukes, eds..Rationality and Relativism
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982), 143).
[6] E. Osborn, Tertullian: First Theologian of the West (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), 6.
[7] Ср.: H.G. Gadamer, Wahrlieit und Methode, 5lh edn. (Tubingen Mohr,
1986), рус. пер.: ГаламерХ.-Г., Истина и метод: Основы фшюсофской
герменевтики(М.: Прогресс. 1988); А. Louth, Discerning the Mystery:
An Essay on the Nature of Theology (Oxford: Clarendon, 1983); A.
McGrath, The Genesis of Doctrine.
[8] Поликарп Смирнский. Послание к филиппшщам, 7.2.
[9] Сокрушительную критику последних работ, посвященных
«историческому Христу», а также тонкую трактовку отношения
между верой и историей см. в книге: Luke Timothy Jonson, The Real
Jesus: The Misguided Quest for the Historical and the Truth of the
Traditional Gospels (San Francisco: Harper, 1997).
[10] Ср.: H.Y. Gamble, Books and Readers in the early Church: A History
of Early Christian Texts (New Haven and London: Yale University Press,
1995), 58-65; T.C. Skeat, «The Oldest Manuscript of the Four Gospels?»
NTS43 (1997), 1-34: G.N. Stanton. «The Fourfold Gospel». NTS43 (1997),
317-46.
[11] В своем официальном постановлении Тридентский Собор (1545 –
63) утверждает (несколько двусмысленно), что истина и правило
содержатся «в письменной форме в написанных книгах и в неписаных
преданиях (in libris scriptis et sine scripto traditionibus)». Сессия 4. 8
апреля 1546 года; в то время как проект декрета, представленного на
рассмотрение 22 марта 1564 года, предполагает большую
независимость этих двух источников: истина содержится «частично
(partim) в написанных книгах и частично (partim) в неписаных
преданиях». Данный текст цитируется и обсуждается в работе: Y.M.J.
Congar, Tradition and Traditions: An Historical and a Theoretical
Essay(New York: Macmillan. 1967), 164-9.
[12] P. Пфайфер указывает, 1по термин «канон» был впервые
употреблен в значении «список» (πίνακες литературных критиков
Александрии) Давидом Рункеном в 1768 году и что, «поскольку
термин оказался настолько удобным, его нововведение пользовалось
нсизменным успехом по всему миру – создается впечатление, что
большинство используюших этот термин полагает, будто данное
употребление имеет !реческое происхождение. Однако κανών
никогда не употреблялся в таком смысле, да и не мог употребляться.
Ввиду его частого употребления в этике, κανών всегда сохранял
значение правила или образца». (R. Pfeiffer, History of Classical
Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age
[Oxford: Clarendon, 1968], 207). Несмотря на признание этого факта,
сам Пфайфер несколькими строками ниже говорит о перечне
библейских книг как о «каноне», ссылаясь на места, в которых
термин κανών в равной степени может обозначать также и «правило»
(Origen apudEusebius ЦИ 6.25.3; Афанасий, О Никейских
постановлениях, 18), ср.: G А. Robbins, «Eusebius’ Lexicon
of‘Canonicily’», St. Pair. 25 (Leuven: Peeters, 1993), 134-41. В
большинстве исследований по канону Писания отмечается, что
«канон» первоначально имел значение «правила», однако в тех же
работах принимается за данность, что данный термин мог также
употребляться в значении «список», и потому основное внимание
уделяется перечислению того, где, когда и кем те или иные
сочинения были признаны за Писание. Более обстоятельное
обсуждение проблем, касающихся канона и Писания, см. в работах: J.
Barton, Holy Writings, Sacred Text: The Canon in Early
Christianity(Louisville. KY: Westminster John Knox Press, 1997) и WJ.
Abraham, Canon and Criterion in Christian Theology (Oxford: Clarendon
Press, 1998).
[13] Walter Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity.
Впервые опубликовано на немецком языке в 1934 г.; англ. пер. 2-го
изд. (1964, ed. by G. Strccker) выполнил R. Kraft etal. (Philadelphia:
Fortress, 1971).
[14] Frances Young. Biblical Exegesis and the Formation of Christian
Culture(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 57.
[15] Ibid. 167.
[16] To есть основывается на связи текстов между собой. – Прим. ред.
[17] См.: U. Schmid, Marcion undsein Apostolus (Berlin: De Gruyter,
1995).
ייТертуллиан, Против Маркиона, 1.19.
״Что фактически лишало статуса святости Ветхий Завет. В связи с
этим появляется также интригующая возможность того, что образ
Трифона в «Диалоге с иудеем Трифоном» Иуетина Мученика мог
быть списан с Маркиона. Ср.: J. Barton, Holy Writings, 53-62.
[20] A. von Натаск, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott, 2nd
ed.(Leipzig: Hinricks, 1924), 217; (partial) trans. by J.E. Steely and L.D.
Bierma, Marcion: The Gospel of an Alien God (Durham, N.C.: Labyrinth
Press, 1990), 134.
[21] Конкретные обстоятельства были, конечно же. в обоих случаях
различны. Сведения о Маркионе происходят из утраченного
сочинения ИпполитаSynagma, а также из Панария Епифания, 42. О
Гарнаке см.: A. Von Zahn – Натаск, Adolf von Натаск (Berlin: De
Gruyter. 1951), 104-5.
[22] Northop Frye, The Great Code: The Bible and Literature (New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1982), 61.
[23] О трудности определения категории «гностицизм» см. в: Michael
A. Williams, Rethinking «Gnosticism·: An Argument for Dismantling a
Dubious Category (Princeton: Princeton University Press, 1996).
[24] Данная оценка приведена в: S. Pctrement, A Separate God: The
Origins and Teaching of Gnosticism, trans. C. Harrison (S. Francisco:
Harper Collins, 1990), 192, 370-8. Основываясь не на приписываемых
сочинениях (таких, какЕвангелие Истины), а исключительно на
сохранившихся фрагментах из Валентина, К. Маркшис выводит образ
данного автора, который оказывается куда более близким
александрийским учителям, таким как Клемент, нежели поздним
«валентинианцам» вроде Птолемея (С. Markschies, Valentinus
Gnosticus?[Tubingen: Mohr, 1992]).
[25] D. Dawson, Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient
Alexandria(Berkleley: University of California Press, 1992).
[26] Климент Александрийский, Стром. 6.52.3-4; trans., as Fragment G,
in B. Layton, The Gnostic Scriptures: Ancient Wisdom for the New Age
(New York: Double day, 1987), 243; мои вставки следуют Доусону:
Dawson, Allegorical Readers, 167.
[27] Dawson, ibid.
[28] Dawson, ibid. 168.
[29] Young, Biblical Exegesis. 61.
[30] Ср.: Ириней, ПЕ 1.8.1 ;3.16-18.
[31] Ириней. ПЕ 2.13.3.
[32] Dawson, Allegorical Readers, 171, 165.
[33] Williams, Rethinking «Gnosticism», 59.
[34] Ср. у Доусона: «Именно подобная ревизионистская свобода по
отношению к предшественникам и характеризует присутствие
подлинно «гностического» Духа. Напротив, почтение к прошлому,
будь то канонические тексты или другие традиционные авторитеты,
знаменовало собой фазу приручения гнозиса» (Allegorical Readers,
131).
[35] См., например. Евангелие от Фомы, логия 55, где говорится о
несении креста подобно Иисусу. Представляется в целом
сомнительным, ,гго Фомуследует трактовать как представителя
направления в христианстве, в исключительном фокусе которого
находилось талкование слов Иисуса в отрыве от упоминания Его
Страстей или от участия в них – contra Вапантасис: К. Valantasis, The
Gospel of Thomas (New York: Routlcdge, 1997), 21-2 и passim.
[36] О раннехристианском усвоении литературнокритических
навыков классического образования см.: F. Young, Biblical Exegesis.
Григорий Назианзин прямо приписываетосвосние принципов
исследования и созерцания (τό εξεταστικόν τε καί θεωρητικόν) своей
учебе в Каппадокии, Александрии и, более всего, в Афинах
(Похвальное слово Васшшю, 43.11).
[37] Ср.: Ν. Frye. The Great Code׳. M. Fishbane, Biblical Interpretation
in Ancient Israel (Oxford: Clarendon Press, 1985), особ. 350-80; J.L.
Kudel and R.A. Greer,Early Biblical Interpretation (Philadelphia:
Westminsier Press, 1986); J.L. Kudel.The Traditions of the Bible: A Guide
to the Bible as it was at the Start of the Common Era (Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 1998).
[38] Ср.: Fishbane, Biblical Interpretation, 375-6.
[39] Синод, пер.: «который есть образ будущего». – Прим. ред.
[40] Р. Хейз (R. Hays) указывает на «метафизическое слияние... в
котором Моисей становитсн Торой... Моисей как метафора означает и
человека, и текст, а упоминание о налевании человеком покрывала
является одновременно рассказом о сокрытии текста». (Echoes of
Scripture in the Letters of Paul (New Haven and London: Yale University
Press, 1989),
144-145. Моя интерпретация данного фрагмента исходит из
прочтения Хейза.
[41] Hays, Echoes, 149.
[42] P. Ricocur, Essays on Biblical Interpretation (Philadelphia:
Westminster Press, 1983), 51. См. замечания в: J. Barr, Holy Scripture:
Canon, Authority, Criticism(Philadelphia: Westminster Press, 1983), 70
[43] -’ Hays, Echoes, 169.
[44] Дж. Барр делает уместное замечание о том, что «многие
элементы текста !рассказа об Адаме из книги Бытия] невозможно
приспособить, чтобы оправданным стал тот способ, при помощи
которого Павел использовал этот рассказ, если только не искажать их
смысл». Причина этого проста: «Павел не истолковывал данный
рассказ изнутри и ради него самого – он истолковывал Христа через
привлечение образов, заимствованных из рассказа» (J. Barr, The
Garden of Eden and Hope of Immortality (Minneapolis: Fortress Press,
1993), 89). Проблемы, возникающие, когда синхронический характер
Писания как продукта одного автора или повествования о единичном
субъекте заменяется диахроническим исследованием текста с целью
реконструкции «первоначального значения» различных частей,
рассматриваются в работе: J.D. Levenson, «The Eighth Principle of
Judaism and the Literary Simultaneity of Scripture», Journal of Religion,
68 (1988), 205-25.
[45] ·' Выражение Цельса, языческого автора 2 в. Ср. Ориген, ЯД
5.59-61.
[46] Иустин Мученик, Апология I, 31.7.
[47] Greer, «The Christian Bible and its Interpretation», in J. Kudel and R.
Greer,Early Biblical Interpretation (Philadelphia: Westminster Press,
1986), 133.
[48] Ср.: St. Irenaeus of Lyons: On the Apostolic Preaching, trans. J. Behr
(New York: Saint
Vladimir’s Seminary Press. 1997). Рус. издание: Новооткрытое
произведение Св. Иринея Лионского «Доказате!1ьство апостольской
проповеди». Перевод Н. Сагарды (С.-Петербург: Типография М.
Меркушева, 1907). – Прим. ред.
[49] Следуя за В. Reynders, «Paradosis: Le progres de 1’idee de tradition
jusqu’a saint Irenee,» Recherches de Theologie Ancienne el Medievale, 5
(1933), 179, n. 146.
[50] Ириней ссылается на апостолов семь раз (ДАП2,41,46,47,
86,98,99), трижды иитирует Павла, дважды называя его «Его |Христа|
апостолом»(ДАП5.8,87), атакже приводит цитату из «Его |Христа|
ученика Иоанна»(ДАП43, 94). Помимо этого, при цитировании
какойлибо стиха из Писания Ириней нередко дает название
источника в том виде, в каком это принято в Новом Завете (см. напр..
ЛАП81, где он ссылается на Иеремию, хотя на самом деле цитирует
Мф. 27: 9-10).
[51] Предпоследняя глава Доказательства содержит отсылку к
Против ересей.Тем не менее, исходя изболев примитивного
использования Писания и некоторых стилистических особенностей
армянского перевода первого текста, более предпочтительно
рассматривать его две последние главы в качестве интерполяции, а
Против ересей – как более позднее сочинение. Ср.: St. Irenaeus of
Lyons: On the Apostolic Preaching, trans. J. Behr, 118.
[52] Что также может включать неписьменные устные традиции.
[53] Ср.: Секст Эмпирик, Против грамматиков, 12 (252-68). Ср.: R.
Meijcring,Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia (Groningen:
Egbert Forsten, 1987), 72-90.
[54] Ср.: Meijering, Literary and Rhetorical Theories, 99-133.
[55] В ПЕ3-5 Ириней обращается к рассмотрению «доказательств из
писаний апостолов, написавших также Евангелие» (ПЕ 3.5.1). Термин
πλάσμα употребляется здесь в основном для обозначения «изделия
Божия», т.е. плоти, сотворенной руками Бога, с которой в конечном
итоге соединяется Слово, манифестируя образ и подобие Бога.
Очевидным ([юном здесь выступают фрагменты Быт. 2:7, Ис. 29:16 и
Рим. 9:20, однако оба приведенных значения πλάσμα полностью
разделять не следует: вопрос заключается в том, кого считать
ποιητής, поэтом/создателем?
[56] Аристотель, Метафизика. 5.1.2. (1013а 17).
[57] Аристотель. Эвдемова этика. 1227 b 28-33: Meijering, 106.
[58] Ср.: Аристотель, Республика, 6.20-1 (510-11).
[59] Аристотель, Метафизика, 4.4.2. (1006 а 6-12).
[60] Климент, Стром. 8.3.6.7-7.2: ср.: Е. Osborn. ·Arguments for Faith in
Clement of Alexandria», PC48 (1994), 12-14.
[61] Ср.: Климент, Стран. 7.16.95.4-6: «Тог же, кто сам верит
Писаниям и голосу Господа (τη κυριακή γραφή τε και φωνή), который
Господом действует на благо людей, есть действительно верующий.
Конечно же, мы пользуемся этим как критерием для познания вещей.
Тому, что подвергается критике, не верят, пока есть эта критика,
поэтому то, что требует критики, не может быть первопричиной.
Следовательно, весьма разумно, что мы, схватывая верой
недоказуемую первопричину и в обилии получая от самой
первопричины доказательства в отношении первопричины, голосом
Господа наставляемся к познанию истины».
[62] Аристотель, О душе. 1.5 (411 а 5-7).
[63] Диоген Лаэртский, О жизни знаменитых философов, 10.31.
[64] Ср.: G. Striker, «Κριτήριον τής αλήθειας», Nachrichten derAkademie
der Wissenschaften in Gottingen. Phil.- hist. Kl. (1974), 2:47-110; M.
Schofield, M. Burnyeat, and J. Barnes, eds.. Doubt and Dogmatism:
Studies in Hellenistic Epistemology (Oxford: Oxford University Press,
1980); P. Huby and G. Neal eds.,The Criterion of Truth (Liverpool
University Press, 1989).
[65] Климент, Стром. 2.5.16.3. Ср.: S.R.C. Lilia, Clement of Alexandria:
A Study in Christian Platonism and Gnosticism (Oxford: Oxford University
Press, 1971), 120-31.
[66] Ср.: E. Osborn. «Reason and the rule of Faith in the Second Centure
AD», in R. Williams ed., The Making of Orthodoxy: Essays in Honour of
Henry Chadwick(Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 40-61.
[67] Икономия (οικονομία) – еще один литературный термин,
имеющий отношение к структуре поэмы или цели конкретного
эпизода внутри нее. Ср.: Meijering. Literary Rhetorical Theories,
171-81.
[68] О современном состоянии дискуссии по этому вопросу см.: W.
Kinzigand M.Vinzent. «Recent Research on the Origin of the Creed», JTS
ns 50: 2 (1999), 535-59.
[69] Против утверждения P.M. Blowers, «The Regula Fideiand the
Narrative Characterof Early Christian Faith״, Pro Ecclesia 6:2 (1997),
199-228. Если бы дело обстояло действительно так, то канон истины
включал бы в себя полное повествование «истории спасения» – от
сотворения и грехопадения и далее. Ср.: F. Young, The Art of
Performance: Towardsa Theology of Holy Scripture(London: Darton,
Longman and Todd, 1990), 48-53.
[70] Климент, Стром. 6.15.125.3: κανών δέ εκκλησιαστικός ή συνωδία
καί ή συμφωνία νόμου τε καί προφητών τη κατά τήν του κυρίου
παρουσίαν παραδιδομένη διαθήκη.
[71] Хотя данная связь не заявлена прямо, единство Писания – Закона
и Пророков – в приходе Христа, как оно было раскрыто апостолами,
очевидным образом лежит в основе раннехристианского
богослужения и Евхаристии, что подтверждается гомилией Мелитона
Сардийского О Пасхе (ок. 160-170 гг.). При всей ограниченности
дошедших до нассвидетельств (рассмотрение которых выходит за
рамки данной работы), богослужение, без сомнения, играло свою
важную роль в формировании нормативного христианства.
[72] В своем издании трактата Против ересей, напечатанном спустя
двенадцать лет после ньюменовского Essay on the Development of
Christian Doctrine. У. У. Харви (W. W. Harvey) указывал (в примечании
к ПЕ 1.10.2): «По крайней мере, здесь нет никаких признаков теории
развития. Если же мы обнаружим следы столь опасного заблуждения
в древнейшем христианстве, то это будет однозначно являться
признаком ереси» (Cambridge. 1857), 1.94. Это же отмечает и Д.
Минне (D. Minns), справедливо подметивший обращение к Иринею в
постановлениях Второго Ватиканского Собора о предании. Irenaeus
(London: Geoffry Chapman, 1994), 119, 133-4.
[73] Ср. у Э. Осборна (Е. Osborn.): «Правило не ограничивало разум,
чтобы дать место вере, но использовало веру, чтобы дать место
разуму. Без достойной доверия первопричины разум терялся в
бесконечном движении вспять» («Reason and Rule of Faith in the
Second Centure AD» 57).
[74] В отношении этого утверждения см. Послание к Флоре Птолемея
– валентинианское сочинение, созданное ок. 160 г.: в нем автор
ободряет Флору такими словами: «Если Бог позволит, ты позже
узнаешь о начале и рождении их !различных гностических эонов],
если тебе будет даровано апостольское предание, которое и мы
получили по преемству вместе с нормой (τού κανονίσαι) всех [наших]
слов в учении нашего Спасителя». Текст сохранился у Епифания,
Панарий, 33.7.9; ed. G. Quispel, Ptolemee: Lettre a Flora, SC 24 (Paris:
Cerf, 1966); мы следуем, с изменениями, за переводом Р. Гранта (R.
Grant),Second-Century Christianity: A Collection of Fragments (London:
SPCK, 1946), 36. В качестве других образцов учения Птолемея см. его
комментарии к Прологу Иоанна, сохранившиеся у Иринея в ПЕ 1.8.
[75] Согласно Птолемею (Послание к Флоре), Пятикнижие не было
написано одним автором: некоторые части принадлежат Богу,
некоторые Моисею, а остальные – старцам. Та часть, которая
происходит от Бога, также должна быть поделена на три категории:
одна, святая сама по себе, другая – исполненная Спасителем, и та,
которая отменена Им. Подход Иринея к различным разные аспектам
Писания см. в ПЕ4.12-13.
[76] P. Lampe. Die stadtromischen Christen in den ersten heiden
Jahrhunderten. 2ndrev. edn. (Tubingen: Mohr, 1989); A. Brent, Hippolytus
and the Roman Church in the Third Century: Communities in Tension
before the Emergence of a Monarch-Bishop (Leiden: Brill, 1995).
[77] А. Брент указывает на прецедент употребления слова
«преемство» (διαδοχή) в сочинениях типа «О жизни знаменитых
философов» Диогена Лаэртского. Последнее рассказывает о
преемстве глав философских школ (προϊστάμενος τής σχολής),
которые были ответственны за передачу учений их основателей;
Диоген включает в свое описание некоторые события из жизни глав
школ, как и краткое изложение их учений. Схожим образом Ириней
описывает события из жизни Климента и аспекты его учения.
(«Diogenes Laertius and the Apostolic Succession», JEH 44.3 (1993),
367-389).
[78] По поводу записи завета, заключенного Христом, см. у Климента,
Стром.6.16.131.4-5:
«Исайе пророку также было сказано взять новую книгу и написать в
ней (Ис. 8:1) для
того, чтобы знание сокровенного впоследствии было открыто в
пророчествах Духа, ведь тогда все это не было еще записано,
поскольку время еще не наступило. От начала это доступно только
мудрым. Впоследствии Спаситель объяснил неписаную доктрину,
содержащуюся в Писании (ή τής έγγραφου άγραφος), апостолам, они
же передали се нам, записанную (εγγεγραμμένη) в обновленных
сердцах, как в новой книге, силою Бога».
[79] G. Florovsky, «The Function of Tradition in the Early Church» GOTR
9.2 (1963), repr. in idem. Bible, Church, Tradition (Vaduz,
Buchervertriebsanstalt, 1987), 75.
[80] Ср. ПЕ 3.12.9: «доказательства, находящиеся в Писаниях,-не
могут иначе быть представлены, как из самых Писаний».
[81] Впрочем, см.: В. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture:
The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New
Testament (New York and Oxford: Oxford University Press, 1993).
[82] Cp. Brent, Hippolytus, 420-1.
[83] Данное утверждение, возможно, не следует принимать слишком
буквально: образ Симона Мага, по всей видимости, был смоделирован
на основании некоторых чертапостола Павла. В связи с этим речь
здесь идет о том, что. вопреки претензиям на звание учеников Павла,
апостол в действительности остался ими не понят – подобно тем, о
которых упоминается в 2 Петр. 3:15-16. Ср. Petrement, A Separate
God, 233-46.
[84] Пер. в: J. Stevenson, A New Eusebius (London: SPCK, 1963), 143.
[85] Ср. Ориген, Contra Celsum, 5.59-61. Другие, более
социологические причины, а также причины консолидации Великой
Церкви в ранние века см. в особенности у: R. Stark, The Rise of
Christianity: A Sociologist Reconsiders History (Princeton: Princeton
University Press, 1996).
[86] Данное понимание, очевидным образом, разделяется также
канонами православной иконографии. В качестве примера, икона
Пятидеся тницы включает в свой изобразительный ряд Павла наряду
с другими апостолами. То, что Страсти лежат в основе изображения
Христа в Евангелиях, нашло свое отражение, например, в
иконографии Рождества: на иконе Младенец Христос обернут
пеленами, лежит в яслях, то есть в ящике с кормом (символ
причастия), и помешен в пещеру (подобно мертвецу); данные детали
происходят из рассказов о младенчестве Иисуса (ср.: R.E. Brown. The
Birth of the Messiah I New York: Doubleday, 1993) и, в более кратком
виде: An Adult Christ at Christmas )Collegeville: Liturgical Press. 1988)).
To же самое можно почерпнуть на основании гимнографии (ср.,
например, тексты служб Рождественского сочельника и Страстной
седмицы).
[87] Отдельного исследования заслуживает вопрос о том, каким
образом в некоторых апокрифических традициях детали,
происходящие из описания Христа в Писании, оказапись
примененными к другим персонажам (например, к Марии в
«Протоевангелии Иакова» и в различных литургических текстах,
связанных с ее именем).
[88] То есть, что по происхождению Он был человеком (Гал. 4:4),
потомком Давида (Рим. 1:3); что Он учил (1. Кор. 7:10; 1 Кор. 9; 14) и
рассматривал последнюю трапезу с учениками в свете предстоящих
Страстей (1Кор. 11:23-5); что Он был судим перед Понтием Пилатом
(1Тим. 6:13), поруган (Рим. 15:3), распят(I Кор. 1:23ид.), погребен и
воскрес (Рим. 6:4; 1 Кор. 15:4-8).
[89] У Матфея Петр дает более полный отвел «Ты – Христос, Сын Бога
Живого» (Мф. 16:16). Отвечая ему, Иисус указывает на то, что
подобное знание может проистекать только из откровения Отца, но
не из общения людей.
[90] Следуя L. Timothy Johnson, The Real Jesus, 156.
״Что, конечно, предполагает, что по времени написания Первое
послание Иоанна позднее Евангелия. Попытки реконструировать
историю общины, в которой могли быть написаныобаэтихтекста.см.у:
R.E. Brown, The Community ofthe Beloved Disciple: The Life, Loves, and
Hates of an Individual Church in New Testament 7?mes(Mahwah, NY:
Paulist Press, 1979).
[92] Ср.: К. Rahner, «Theos in the New Testament», in idem, God, Christ,
Mary and Grace, Theological Investigations, vol. 1, trans. C. Ernst
(Baltimore: Helicon, 1965), 79-148, а также: R.E. Brown, «Does the New
Testament Call Jesus God», in idem,Jesus, God and Man (Milwaukee:
Bruce, 1967), 1-38.
[93] На различие между формами слова «theos» с артиклем и без него
указывал уже Филон в работе О сновидениях, 1.229. Комментируя
Исх. 6:3, Филон пишет: «Соответственно. Святое Слово в данном
случае указало Того, Кто есть истинно Бог, при помощи артиклей,
говоря: «Я есть Бог» |с определенным артиклем], в то время как оно
опускает артикль, когда говорит о тех, кого именуют так
неподобающим образом».
[94] Более подробное обсуждение идущих далее фрагментов (в
дополнение к Ранеру и Брауну – см. прим. выше) см. у: В.М. Metzger,
A Textual Commentary on the Greek New Testament (New York: UBS,
1971).
[95] Таково и почти единодушное прочтение Отцов. Ср.: Metzger,
Textual Commentary, 520.
[96] В Посланиях существует еще три фрагмента (2 Фес. 1:12; Кол.
2:2; Иак. 1:1), позволяющих прочтение, по которому именование
«Бог» относится к Христу; а также два других фрагмента, где на то
же указывают варианты текста (Гал. 2:20; 1 Тим. 3:16).
[97] Более полный обзор различных употреблений термина κύριος см.
в статье Квелла и Фсрстера (Quell and Focrster) в: G. Kittcl, Theological
Dictionary of the New Testament, trans. and ed. G. Bromiley (Grand
Rapids, Mich: Eerdmans, 1966), vol. 3, 1039-1095.
[98] W. Bousset, Kyrios Christas: A History of Belief in Christ from the
Beginnings of Christianity to Irenaeus, trans. J.E. Steely from the 2nd
German edn. (1921), (New York and Nashville, Tenn.: Abingdon Press,
1970).
[99] В идущем далее параграфе я следую «истории имплицитной
лингвистической логики», изложенной Э. Хиллом (Е. Hill) в его
введении к переводу Троицы Августина (Brooklyn: New City Press,
1991), 31-2.
[100] Как полагает Хилл, это все равно, что сказать: «Елизавета, наша
королева, естьединая Елизавета». Ibid.
[101] Несколько позже данная устная традиция была зафиксирована
при помощи огласовок к тексту, которые были введенны масоретами.
В результате сочетания огласовок слова 'adonay и согласных YHWH
появилось на свет слово «Иегова», представляющее собой
невозможное и неправильное чтение, распространившееся в XVI в..
Устные и письменные аспекты древнееврейского текста Писания
освещаются в книге.: J. Barton, Holy Writings, Sacred Text, 123-30.
[102] «Почему же Он не сказал: «прежде нежели был Авраам», Я был,
но – «Я еемь»? Как Отец Его употребил о Себе это слово: «еемь», так
и Он. Оно означает присносущность бытия, независимо ни от какого
времени». Иоанн Златоуст, Гомилии на Евангелие от Иоанна.
Гомилия 55 (8:58-9).
[103] Другие места, где «Я есмь» используется не в абсолютном
смысле, см. в Ин. 6:35,51; 10:7,9. 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1.5.
[104] Ср.: P.F. Ellis, «Inclusion, Chiasm, and the Division of the Fourth
Cospel»,Saint Vladimir’s Theological Quarterly, 43.3-4 (1999), 269-338;
его же: The Genius of John: A Composition-Critical Commentary on the
Fourth Gospel(Collegeville: Liturgical Press, 1984).
[105] Ср.: W.A. Meeks, «The Man from Heaven in Johannine
Sectarianism», JBL91 (1972), 44-72.
[106] Иоанн нигде не говорит о начале/рождении Слова и Сына,
Иисуса Христа, но что
Слово бьшо у Бога (Ин. 1:1), а Иисус просто есть: Он – это «Я ЕСМЬ».
Единственное употребление γεννάν в отношении Иисуса встречается
в Ин. 18:37, где это слово стоит в сочетании с фразой «Я... на то
пришел в мир», то есть не представляет собой ясного и
недвусмысленного указания на Его рождение, а относится, скорее, к
Его миссии. Также нет никакой уверенности в том, что I Ин. 5:18
относится к Иисусу. Р.Э. Браун (R.E. Brown, The Epistles of John, The
Anchor Bible (New York: Doubleday, 1982), 619-22) и P. Шнаккенбург
(R. Schnackenburg, The Johannine Epstles: Introduction and
Commentary, trans. R. and 1 Fuller (New York: Crossroad. 1992), 252-4)
убедительно доказывают, что «рожденный от Бога» (описание, нигде
не применяемое Иоанном к Иисусу) –это христианин, который
защищен Богом (грамматическая структура здесь похожа на Ин.
17:2).
[107] Ср.: D. Moody, «God’s Only Son», JBL 72.4 (1953), 213-19.
[108] Схожее предположение высказал Э. Хоскинс: выбор термина
«Слово» в Прологе определяется тем обстоятельством, что к тому
времени «Слово» стало синонимом самого Евангелия, так что,
используя термин «Слово». Пролог уже содержит отсылку к смерти и
воскресению Иисуса; Евангелие, как апостольское слово, стало
отождествляться с содержанием Евангелия – Иисусом Христом. (Е.С.
Hoskyns, The Fourth Gospel, 21 ״rev. edn. ed. F.N. Davey (London:
Farberand Farber, 1947), 159-63).Лодобное же мнение высказывает Б.
Линдарс: В. Lindars. The Gospel of John, New Century Bible
Commentary (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1972), 83.
[109] T.E. Pollard. Johannine Clirislology and the Early Church
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 3, цитируя рецензию
Конибеара (Conybeares) на книгу A. Loisy. Lequatrieme evangile.
опубл. в: Hibbert Journal, 7 (1903), 620.
[110] Халкидонский Собор, к примеру, ссылается на «канонические
послания и изложения святых Отцов»; АСО 2.1.1 р. 195.38.
[111] Подобный анахронизм, конечно же, лежал в основе
влиятельной «Истории догмы» Адольфа фон Гарнака (History of
Dogma, trans. of 3rf German edn. (1984), vols. (London: Williams and
Norgate, 1894-9)), а также так называемой Библейской теологии,
которая была популярна в середине XX в, но сохраняет свое влияние
до сих пор. Сокрушительную критику этой позиции см. в особенности
у: J. Bare, «Athens or Jerusalem? – The Question of Distinctiveness»,
вторая глава вето Old and New in Interpretation: A Study of the Two
Testaments (New York: Harper and Row, 1966).
[112] Поликарп, Послание к филиппийцам, 7.2.
[113] Афанасий, О воплощении, 54.
[114] Григорий Назнанзин, Послание 101.32.
[115] Детальное обсуждение внесенных изменений приводится в: В.
Ehrman,The Orthodox Corruption of Scripture.
[116] Данную группу нередко отождествляют с так наз. «эбионитами»
(бедняками) –иудеохристианским движением, также видевшим в
Христе «просто человека», сына Иосифа и Марии, которого во время
крещения Бог назвал Своим Сыном за его исключительную
праведность. Мнения оппонентов и дискуссию по этому врпросу см. в:
A.F.L. Klijn and G.J. Reinink.Patristic Evidence for Jewish-Christian Sects
(Leiden: Brill, 1973).
[117] Тертуллиан, Против Маркиона, 1.19.
[118] Данное описание учения Василида находится у Иринея (ПЕ
1.24.4); схожие взгляды выражаются в тексте из Наг Хаммади Второй
трактат великого Сета, 56.
[119] Ср.: ПЕ 1.30.12-14.
[120] Общая тенденция «апокрифов» состоит в умножении деталей
земной жизни Иисуса, а не в более полной проповеди распятого и
воскресшего Христа.
[121] См. классическое исследование: Н. Chadwick, «Eucharist and
Chrstodology in the Ncstorian Controversy», JTS 2.2 (1951), 145-64.
[122] Дискуссию по вопросу аутентичности этого собрания текстов,
состоящего из семи посланий Игнатия, см. в: R. Hubner, «Thesen zur
Echtheit und Daticrung dersieben Briefe des Ignatius von Antiochen»,
ZAC 1 (1997), 44-72; а также отклики на данную работу в:
A.Lindemann. «Antworfaufdie ‘Thesen zur Echtheit und Datierung
dersieben Briefe des Ignatius von Antiochen’», ZAC 1 (1997). 185-94; G.
Schollgen, ·Die Ignatian als pseudepigraphischcs
Brief-corpus. Anmerkungzu denThesen von Reinhard M. Hubner», Z4C2
(1998), 16-25; и M. Edwards, «Ignatius and the second Century. An
Answer to R. Hubner»,ZAC 2 (1998), 214-26.
[123] Ср.; A. Brent, «The Relations between Ignatius and the Didaskalia»,
Second Century, 8.3 (1991), 129-56.
[124] Десятилетием раньше сходным образом высказывается Климент
Римский: «Апостолы были посланы проповедовать Евангелие нам от
Господа Иисуса Христа, Иисус Христое от Бога. Христос был послан
от Бога, а апостолы от Христа; то и другое было в порядке по воле
Божией». Первое послание к Коринфянам, 42. 1-2.
[125] То же разграничение проводится в Первом послании Климента,
44. Идея божественного происхождения власти апостолов отрицается
В.Р. Шеделем (W.R. Schoedel, Ignatius of Antioch, Hermenia
(Philadelphia: Fortress Press, 1985), 112-3), но поддерживается К.Э.
Хиллом (С.Е. Hill. «Ignatius and the Apostolate: The Witness of Ignatius
to the Emergence of Christian Scripture», готово к публ. вSt. Pair.).
[126] Ср.: J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, 31 ״edn. (London:
Longman, 1972), 1-29.
[127] Gamble, Books and Readers, 58-65.
[128] Игнатий все же иногда ссылается на Писание, но не в контексте
свидетельств веры. Он дважды приводит цитаты из Писания при
помощи формулы «написано» (γέγραπται. Еф. 5.3; Магн. 12); дает
аллюзию на Ис. 52:5 посредством «ибо» (γάρ, Тралл. 8.2); всего один
раз приводит слова Иисуса(Смирн. 3.2), ближайшей параллелью к
которым является Лк. 24:39. хотя они и не могут быть прямой
цитатой; также, несмотря на многочисленные аллюзии на сочинения
Павла и Иоанна, ни одна из них не приводится им в виде прямой
цитаты.
[129] Ср.: Климент Римский, Первое послание к Коринфянам, 40-1.
[130] Филад. 7.1. Ср.: D.E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the
Ancient Mediterranean World (Grand Rapids, Mirch.: Eerdmans, 1983),
291-3. Климент Римский также утверждал, что его послание
составлено «Духом Святым»(Первое послание к Коринфянам, 63.2;
ср.: 59.1.).
[131] Термин τό άρχεΐον использовался обычно в значении
«протоколы» или «архивы». Ср.: H.G. Liddell and R. Scott (A Greek –
English Lexicon, rev. ed. H.S. Jones (Oxford: Clarendon Press, I996)s.v.).
О том, что здесь он имеет отношение к «Писанию», см.: Schoedel,
Ignatius, 208.
[132] Schoedel, Ignatius, 208, п. 6; C.T. Brown, The Gospel and Ignatius
of Antioch, Studies in Biblical Literature, 12 (New York: Peter Lang,
2000).
[133] Согласно Лайтфуту, данное утверждение следует понимать во
втором смысле: только Иисус Христос, в отличие от Писания,
является нормой христианской веры. См. J.B. Lightfoot, The Apostolic
Fathers, part 2, vol. 2. 273; D. van den Eynde, Les norms de
I’enseignement Chretien dans la lilterature patristique des trois premiers
siecles (Paris: Gabalda. 1933), 37. Также Шсдель заявляет, что
Игнатий в данном месте ссылается на «больший авторитет», чем
Писание (Ignatius, 209), а Ф. Янг полагает, что Игнатий как бы
«принижает» древние писания по сравнению с Христом» (F. Young,
Biblical Exegesis, 59, ср.: 1516 )־. С другой староны, Э. Флессманван
Леер отставивает противоположную точку зрения (Е. Flesseman-van
Leer, Tradition and Scripture in the Early Church (Assen: Van Gorcum,
1954|, 34-5).
[134] В своем споре с иудействующими христианами Игнатий делает
следующее сильное утверждение: «Не в иудейство уверовало
христианство, напротив, иудейство в христианство» (Магн. 10.3).
[135] Смирн. 7.2; έν ω τό πάθος ήμΐν δεδήλωται καί ή άνάστασις
τετελείωται. По поводу значения термина τετελείωται Лайтфут
(Lightfoot) просто ׳замечает, что «данное слово не может означать
«демонстрируется, заверяется, подтверждается» (The Apostolic
Fathers, part 2, vol. 2, 308).
[136] Комментарии и разбор см. у: Schoedel. Ignatius, 120-1 и Edwards,
«Ignatius and the Second Century*, 222-6.
[137] Ириней, ПЕ 1.28.1.
138Мученичество Иуетина, А 3 и В 3.
[139] Ibid. А 4 и В 4.
[140] Об организационной структуре церкви в Риме в течение второго
столетия см.: Р. Lampe, Die stadtromischen Christen, and A. Brent,
Hippoiytus and the Roman Church.
[141] Полное обсуждение этой темы см. в работе: О. Skarsaune, The
Proof from Prophecy: A Study in Justin Martyrs Proof-Text Tradition:
Text-Type, Provenance, Theological Profile (Leiden: Brill, 1987), особ.
228-34.
[142] Skarsaune, Proof, 43-6.
[143] Ср.: Young, Biblical Exegesis, 49-54; точная фраза находится на с.
51.
[144] Таков же порядок разделов в сочинениях Иуетина; ср.:
Skarsaune, Proof,139-64.
[145] Подробнее см. в главе 1.
[146] О процессе установления на основании Писания образцов
жизни предков и о важноста этого момента для возвратившихся из
Вавилонского плена см. в работе: J.L. Kudcl, «Early Interpretation: The
Common Background of Late Forms in Biblical Exegesis», in J.L. Kudel
and R.A. Greer, Early Biblical Interpretation(Philadelphia: Westminster
Press, 1986), 31-51.
[147] См. главу 1.
[148] Мои комментарии по этой теме следуют Skarsaune, Proof, 11-13.
[149] Ср.: Диал. 65.2. Согласно Кампенхаузену, Иуетина можно
считать первым создателем «учения о Священном Писании»: Н. von
Campcnhausen,The Formation of the Christian Bible, trans. J.A. Baker
(Philadelphia: Fortress Press, 1972), 88.
[150] Диал. 119.6: καί ήμεΐς τή φωνή τοΰ θεού, τή διά τε τών αποστόλων
τοΰ Χριστού λαληθείση πάλιν καί τή διά τών προφητών κηρυχθείση ήμίν.
[151] Попрежнему спорным остается вопрос о знакомстве и
использовании Иустаном сочинений Павла и Иоанна. Одно из
категоричных мнений высказал Косгрове, утверждавший, что Иустин
сознательно воздерживался 01 ׳какоголибо упоминания этих двух
апостолов (С.Н. Cosgrove, «Justin Martyr and the Emerging Christian
Canon: Observations on the Purpose and Destination of theDialogue with
Trypho», VC 36 (1982), 209-32). С критикой этой позиции выступил
Хилл (С.Н. Hill «Justin and the New Testament», St. Patr. 30 (Leuen:
Pecters, 1997), 42-8). Единственная цитата из Иоанна, отмеченная Б.
Мецгером (Ин. 3:3-5 в Ап. 61.4), похоже, в действительности имеег
больше общего с Мф. 18:3 (В. Metzger. The Canon of the New
Testament: Its Origin, Development, and Significance (Oxford: Clarendon
Press, 1989), 147). Наряду с этим у Иуетина встречаются изречения,
которые приписываются Иисусу (Диал. 47.5: «В чем Я найду вас, в
том и буду судить»), а также некоторые сведения о Нем, которых нет
в каноническом Новом Завете (Диал. 88.8, о том, что Иисус был
плотником).
[152] Ап. 67.3. Не следует придавать слишком большого значения
тому факту, что апостольские сочинения могли зачитываться в
контексте богослужения. В тексте Евсевия сохранилось письмо,
написанное в середине И в. Дионисием Коринфским и адресованное
Сотеру Римскому. В этом письме Дионисий упоминает, что в святой
день Господень в церкви зачитывалось адресованное его общине
послание Климента Римского, а также послание самого Сотера(ПИ
4.23.11).
[153] См.: Н. Koestcr, Ancient Christian Gospels: Their History and
Development(London: SCM Press; Philadelphia, Trinity Press, 1990), 42.
[154] Ср.: An. 30, цитир. выше, и Диал. 48:4: «Сам Христос повелел
нам верить не человеческим учениям, но тому, что было возвещено
блаженными пророками и что преподано Им Самим».
[155] Уже у Папия мы находим предание, в соответствии с которым
Марк при написании своего Евангелия выступал как толкователь
Петра (Евсевий, ЦИ3.39.15); позже Ириней выскажется о
существовании связи между Лукой и Павлом (ПЕ 3.1.1).
[156] Согласно Грильмайеру: «Чем для Иринея и Тертуллиана
является regula ftdei («правило веры»), тем для Иустина является его
христологическая интенция – mutatis mutandis – при объяснении
Писания». (A. Grillmeicr. Christ in Christian Tradition, vol. 1.90).
Основной упор сочинений Иустина, безусловно, приходится на
христоцентричное прочтение Лисания, что, как об этом говорилось в
главе I, представляет собой также основную динамику канона
истины. Тем не менее Иустин не пытается сколь бы то ни было
последовательно использовать данный метод толкования в качестве
канона.
[157] Ср.: Ап. 4.7; 12.9; 13.3; 15.5; 19.6; 21.1; 32.2; 2 Ап. 8.5.
[158] Список такого рода символов приведен в: Kelly, Early Christian
Creeds,70-6.
[159] Когда Иустин говорит о Слове как о «Духе» Бога, маловероятно,
чтобы при этом подразумевалось некое «бинарное» богословие
(которое, возможно, прослеживается в Пастыре Герма: Подобия,
5.6.5-6); это просто указание на состояние Слова «до воплощения», о
чем более подробно – далее в книге.
[160] Философский контекст Иустина описывается в работах: С.
Andresen, «Justin und der mittlere Platonimus», ZNTW44 (I952\3),
157-95; M.J. Edwards, «On the Platonic Schooling of Justin Martyr», JTS
ns 42.1 (1991), 17-34; C. Nahm, «The Debate on the ‘Platonism’ of Justin
Martyr», Second Century9.3 (1992), 129-51.
[161] Ср.: Hanson. The Search for the Christian Doctrine of God, 422-6.
[162] Ириней, ПЕ4.20.5.
[163] Подобно тому, как Никея опровегла субординационизм путем
привнесения акцента на то, что Сын – это истинный Бог от истинного
Бога, точно так же решения этого Собора, за счет отрицания
рождения Логоса во времени, опровергают любую попытку
темпорализацни Бога. Как замечает Р. Уильямс: «Парадоксально, но
отрицание «истории» взаимодействий внутри божества ведет к
фокусировке внимания на истории Бога с нами в мире: у Бога нет
никакой другой истории, кроме истории Иисуса из Назарета и Завета,
печатью которого Он является. Исторический факт заключается в
том, что, спустя полтора столетия после собора, никейское понятие
«Бог истинный» (verus Deus) дало стимул к прояснению понятия
«истинный человек» (verus homo): будучи Богом, Слово представляет
собой условие бытия человеческой личности – служащего, распятого
и воекресшего Спасителя. Иисуса Христа. Однако существование
Иисуса не является эпизодом в биографии Слова, но непреложно и
самым решающим образом остается фактом нашего мира в его
границах». R. Williams, Arius: Heresy and Tradition (London: Darton,
Longman, and Todd, 1987), 244.
[164] Ср.: R. Holte, «Logos Spcrmalikos: Christianity and Ancient
Philosophy according to St. Justin’s Apologies*, Studio Theologica,
12(1958), 109-68.
[165] Исключением из этого ряда является работа: M.J. Edwards,
«Justin’s Logos and the Word of God», J ECS 3.3 (1995), 261-80,
содержание которой было взято за основу в следуюишх далее
параграфах. _
[166] В отношении того,'на что именно указывает то συγγενές в
Апологии II,13.3 – на Логос или на наблюдателя, – см. в: Edwards, ibid.
270-3.
[167] О «потенциальном захвате чужой культурной территории»,
вытекающем из подобного заявления, см. у: A.J. Droge, Homer or
Moses? Early Christian Interpretation of the History of Culture
(Tubingen: Mohr, 1989), а также Young,Biblical Exegesis, особ. 49-75
[168] Edwards. «Justin’s Logos», 275.
[169] Ibid. 274-8.
[170] Например: (Иустин спрашивает] «Не говорит ли, – спросил я
опять, – слово Божие через Захарию, что Илия придет пред тем
великим и страшным днем Господним?» (Диа!1. 49:2; Мал. 3:23 (4:5]);
такая структура повторяется на протяжении всего Диалога.
[171] Edwards. «Justin's Logos·, 268.
[172] Послание Елевфсрию рекомендует Иринея в качестве
«пресвитера» (ПИ5.4.2) – данный титул в указанный период имел
хождение наравне с «епископом». По мнению Нотина, Ириней был
главой христианской общины в Вене и именно он является автором
Послания христиан Вены и Лиона (упоминаются в таком порядке)
братиям в Асии и Фригии (Евсевий, ЦИ 5.1.3 – 3.3). Тот же автор
считает, что, когда во время гонений скончался Потин Лионский, на
Иринея было возложено епископское окормленис обоих городов (//Я
5.5.8). P. Nautin, Lettres et ecrivalns Chretiens des He et Ше siecles
(Paris: Cert'. 1961), 54-61,93-5.
[173] Ириней, Послание к Флорину, в: Евсевий, ПИ 5.20.5-6; ср.:
ПЕ3.3.4.
'74Евсевий, ЦИ5.24.13.
[175] Такое «название» присвоил этому сочинению Евсевий
(ЦИ3.23.3). Сам Ириней именует свой труд Обличение и
опровержение лжеименного знания(/7£4.Pref.l).
[176] ДАП 99. На это указывают также некоторые стилистические
черты армянского перевода двух последних глав. Ср.: St. Irenaeus of
Lyons: On the Apostolic Preaching, trans. J. Behr, 118, note 229.
[177] Ср.: Minns, Irenaeus. 38-43; R. Tremblay, La Manifestation el la
vision de Dieu selon saint Irenee de Lyon (Munster Aschendoff, 1978).
[178] ДАП 44-45. Продолжение этого отрывка и его связь с Иустином
см. в: St. Irenaeus of Lyons: On the Apostolic Preaching, trans. J. Behr,
110-11, note 127.
[179] О выделении разделов см. в: P. Bacq. De I’ancienne a nouvelle
Alliance selon S. Irenee: Unite du livre IVde I'Adversus Haereses (Paris:
Editions Lcthicllcus, Presses Universitaires de Namur, 1978), 163-87.
[180] Анализ «домостроительства Божия», как его понимал Ириней,
см. в: J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement
(Oxford: Oxford University Press, 2000), 34-85.
[181] Схожим образом ДАП 32 указывает на предсуществование
Иисуса Христа, Слова Божия, в Писании: Христос был рожден от
Девы, «чтобы показать подобие Своего воплощения (σάρκωσις) с
воплощением Адама и чтобы осуществилось написанное в начале:
«Человек по подобию и образу Божию» (και γένηται ό γεγραμμένος έν
άρχή άνθρωπος)». Обратный перевод на греческий см. у А. Руссо
(Irenee de Lyon: Demonstration de la Predication Apostolique, trans. and
annotations A. Rousseau, SC 406 (Paris: Cerf, 1995), 268).
[182] Следуя греч. тексту, сохранившемуся в: Catena in Matt. (Irenee
de Lyon: Contre les heresies. Livre IV, ed. A. Rousseau et al., SC 100
(Paris: Cerf, 1965), 712). В лат. стоит просто «Hie», как и в армянском,
указывая, таким образом, на единство слова о Христе и Самого
Христа.
[183] ПЕ 5.17.4. Важным представляется объяснение Иринеем
смысла креста, а именно включение язычников; ср. ПЕА2.1, цитир.
выше. Схожим образом Р. Хейз отмечает, что истолковательные
стратегии Павла более экклссиоцснтричны, нежели
христоиентричны; что предметом заботы апостола является
включение язычников и что если смотреть из такой перспективы, то
«его стратегия типологического прочтения расширяет
типологическую траекторию, которая берет свое начало в самих
текстах», – здесь Хейз имееет в виду типологическое прочтение
отношений Яхве с Израилем во Втор. 32 и у Исайи (Echoes of
Scripture, 164, ср. 84-7).
[184] Ср. ДАП 34, а также Апологию I Иустина, 60. Спустя пару
столетий отголоски этой традиции можно встретить у Григория
Нисского (Gregory of Nyssa. On the Three Day Period. GNO 9.303; trans.
S.G. Hall). В VII в. в том же духе высказывается Исаак Сирин (The
Second Part. Chapter 11.3): «Мы не говорим о силе Креста, которая
была бы чем-то отлична от силы, которой миры стали существовать,
которая вечна и безначальна, которая всегда направляет творение,
не переставая, божественным образом и сверх чьего бы то ни было
разума, в согласии с волей своего Бога».
[185] В ПЕ 3.1.1. Ириней особо отмечает, что «об устроении нашего
спасения мы узнали ни через кого другого, а через тех, через
которых дошло к нам Евангелие». Центральная роль апостолов в
выработке христологического ключа к Писанию обсуждалась в главе
1.
[186] Выражение Хейза (Hays, Echoes of Scripture, 169).
[187] Комментируя этот фрагмент, P.M. Грант, пишет, что «когда
Ириней угверждает, что в Прологе (Ин. 1:1-13) Иоанн «сводит» |‘sums
up') повествование при помощи фразы «Слово стало плотью» (1:14),
контекст этого высказывания строго буквален» (R.M. Grant, Irenaeus
of Lyons (New York: Routlcdgc, 1997), 50).
[188] Ср.: Osborn, «Reason and the Rule of Faith in the Second Century
AD»; R.A. Norris «Theology and Language in Irenaeus of Lyons»,
Anglican Theological Review, 76.3 (1994), 285-95; Blowers, «The Regula
Fidei and the Narrative Character of Early Christian Faith»; Grant,
Irenaeus, особ. 46-53, ‘Rhetoric in Theology'.
[189] Квинтилиан, Institulio Oratorio, 6.1.1.
[190] Большинство комментаторов Иринея упускают из виду
литературное происхождение этого термина, обращаясь за помощью
исключительно к Еф. 1:10.
[191] Существенно важная истина богословия, которая была
повторена в ясном виде Григорием Папамой более тысячелетия
спустя: «Всякая природа совершенно удалена и абсолютно чужда
Божественной природе. Ибо если Бог есть природа (φύσις), то все
остальное не природа; но если каждая другая вещь – природа, то Он
не есть природа: так же как Он не есть сущее (6ν), если все остальное
сущее; а если Он – сущее (ον), то остальные – не сущее (όντα)». (Сто
пятьдесят глав, 78). Именно по этой причине, в особенности после
Дионисия, стало обычным называть ούσία Бога υπερούσιος.
[192] Полный анализ данного аспекта богословия Иринея см. в нашей
работе: J. Behr, Asceticism and Anthropology, 23-127.
[193] Ср.: ПЕ4.2.7; 5.17.4 (цитировались выше).
[194] Факт того, что Христос становится человеком именно «в
последние времена», представляется весьма важным: Ириней не
проводит резкой границы между «Воплощением» и «Страстями» как
между двумя разными «событиями», ни в отношении их последствий,
но объединяет их при помощи термина «парусия». Ср.: ПЕ3.16.6;
4.10.2; 5.17.3. R. Noorman, Irenaus als Paulusinterpret (Tubingen: Mohr,
1994), 451.
[195] Уточнение, что «повествование», рекапитулируемое Христом,
представляет собой повествование Писания, строится на аллюзии к
евангельской родословной из Евангелия от Луки (Лк. 3:23-38). Спустя
всего несколько глав данная связь выступит у Иринея в явном виде:
родословная Луки (72 поколения от Христа назад к Адаму) позволит
ему показать, как, вобрав в Себя все народы, все языки и все
поколения, Христос связал конец с началом (ПЕ 3.22.3). «Все»,
безусловно, носит у Иринея универсальный характер. что становится
возможным именно благодаря наличию рамок Писания, внутри
которых делается такое заявление.
[196] Здесь не отрицается, что встреча со Словом в Писании
происходит посредством множества образов («Само Слово,
истолкователь Отца |ср.: Ин. 1:181, будучи богатым и
множественным, было воспринимаемо теми, кто видел Его, не в
одном образе, и не в одном качестве, но в соответствии с действиями
Его домостроительства», ПЕ 4.20.11), или что они не имеют порядка и
устроения («все предуведсннос Отцом Господь наш совершил в
порядке, вовремя и в предуведенный и надлежащий час, будучи Один
и тот же, но богатый и многий», ПЕ 3.16.7), но делается попытка
предостеречь против понимания процесса раскрытия богатств
Божиих в сокровищнице Писания как обычной биографии Слова,
одной из стадий которой является существование «в образе» Иисуса
Христа. По Иринею, все упомянутые сокровища Писания, в разных
формах и образах, говорятоб одном и том же Слове Божисм, Иисусе
Христе, и о Его Евангелии.
[197] Мысли Торранса в отношении значения домостроительства
Христа представляются нам проницательными, но все же не в
достаточной мере чувствительными к библейской, или литературной,
канве того, что здесь обсуждается. Как пишет этот автор: «На
протяжении всей жизни Христа от Рождества до Страстей и
Воскресения представлена сущность (epitome) спасительных деяний
Бога, и именно к этому образцу, заключенному в человсчестве
Иисуса Христа, обращается Ириней для обоснования своего
понимания универсального домостроительства Божия, в отношении
которого у него имеется четкое представление. Основным термином,
к которому он прибегает для выражения этого момента.
служит άνακεφαλαίωσις, или recapitulatio, причем термин одинаково
прилагается им как к тому, что происходило в жизни Самого Иисуса,
так и к тому, что Бог совершил через Него и совершит в
окончательном явлении Своей спасительной воли по отношению к
творению. «Рекапитуляция» означает, что искупительное деяние
Бога в Иисусе Христе не было простым трансцендентным актом,
коснувшимся нашего существования в пространстве и времени в
определенной точке, но представляется деятельностью, вошедшей в
наше сушествование и продолжающейся в нем; проникающей к
истокам, к началу первозданного творения, восстанавливающей и
заново утверждающей в нем Божественную волю и простирающейся
вперед к своему завершению в новом творении, в котором все
собрано -связывая, таким образом, конец с началом». (T.F. Torrance,
Divine Meaning: Studies in Patristic Hermeneutics(Edinburgh: T &T
Clark, 1995), 121).
[198] «Почтенный возраст» Христа вытекает также из аккуратного
указания Иринея на то, что Он был распят при Понтии Пилате,
«прокураторе императора Клавдия» (ДАП 74). Поскольку Иисус
родился ок. 41-го года правления Августа (ПЕ3.21.3; начиная отсчет с
44 г. до Р.Х.), то к началу правления Клавдия (41 – 57 гг. по Р.Х.) Ему
уже должно было быть за сорок. Ср.: Grant, Irenaeus, 51.
[199] Как пишет Грант, в этом фрагменте Ириней «превратил
грамматику в богословие» (Grant, irenaeus, 50; ср. 52-3).
[200] Я избегал употребления Гарнаковских категорий
«динамическое монархианство» или «адопционизм» в отношении тех,
кто утверждал, что Христос – обычный человек, и «модалистическос
монархианство» – в отношении тех, кто отождествлял Отца и Сына
(История догмы, т. 3, 1-118). Автор Опровержения лишь однажды
упоминает о том. что его оппоненты озабочены соблюдением
принципа «монархии» Бога (Опр. 9.10.11); и, хотя у Тертуллиана эта
тема заявлена более конкретно (Против Праксея. 3. 9), связь его
риторичсских доводов с подлинной ситуацией в Риме далека от
ясности. То, что обе эти позиции были альтернативными попытками
разрешения одной и той же проблемы, связанной с необходимостью
оградить единство одного Бога, полагают Ориген (КоммИн. 2.16) и
Новациан (О Троице, 30), хотя только у Оригена (в другом месте) мы
находим упоминание об «иллюзорном понятии монархии» (Диазог с
Гераклидом, 4). Классифицировать обе позиции как «монархианские»
неприемлемо (по крайней мере, это касается «динамического
монархианства», как признает и сам Гарнак. – История, т. 3, 10.1); и,
что еще важнее, такая классификация упускает из виду обвинение в
«дитеизме», выдвинутое против автора Опровержения, отдавая
предпочтение этому недавно открытому сочинению (полный текст
обнаружен в 1841 г.) в целях дискредитации Зефирина и Каллиста,
которые более нигде ранней Церковью не принижались. Фоном такой
таксономии, возможно, служит декрет о папской непогрешимости,
изданный в 1870 г., – в то время как для ранней Церкви генеалогия
была более важной, чем таксономия, ведь именно идеи Артемона и
Павла Самосатского, Ноэта и Савеллия владели умами богословов
иоследующиго периода.
[201] Данная реконструкция подробно разработана А. Брентом в его
увесистом томе Ипполит и Римская Церковь в 1/1 в. В отношении
проблемы «монархии» Брент рассматривает запись (в Depositio
Либерия) о погребении «епископа» Понтиана и «пресвитера»
Ипполита в один и тот же день – 13 августа, на праздник Дианы (в
этот день отмечалось включение союзных городов в состав римской
федерации), как символический шифр, маркирующий учреждение
монархического епископата в Риме. Картина, нарисованная Брентом,
весьма убедительна, но его трактовка богословия Contra Noetum
вызывает серьезные возражения.
[202] Опр. 7.35-6; 10.23-4
[203] Евсевий, ПИ 5.28. Название текста (ό σμικρός λαβύρινθος) взято
из описания Феодота Феодоритом (Собр. 2.5; PG 83.392Ь). Об этом
сочинении и об упомянутом Фотием «Лабиринте» (Библ. 48), а также
об их месте внутри корпуса сочинений Ипполита см.: Brent,
Hippolytus, 115-203.
[204] ЦИ 5.28.6: άπεκήρυξεν τής κοινωνίας
[205] Опр. 7.35. Данный фрагмент также позволяет предположить,
что, по Феодоту, Божественный Христос должен был сойти на
человека Иисуса при крещении. Тем не менее, как указывает Эрман,
обвинение в разделении Иисуса Христа на две сущности –
Божествснную и человеческую – сильно отличается от обвинения,
которое вырисовывается исходя из отрывков, приведенных Евсевием
(что Христос был обычным человеком), и, возможно, является
результатом стоящей перед автором Опровержения цели показать
более широкое отступление, в результате чего учение Феодота
проходит у него в той же фуппе, что и учения разиоообразных
гноезиков (Пе Orthodox Corruption of Scripture, 101, п. 33).
[206] ЦИ 5.28.13-14. Текст Малого лабиринта продолжается
утверждением о том, что фсодотиане изучают геометрию Евклида,
восхищаются Аристотелем и Теофрастом, и «возможно, поклоняются
Галену». По поводу искажения Писания (данное обвинение
повторяется в ЯД 5.28.15-19) фсодотианами и их оппонентами см.:
R.M. Grant, Heresy and Criticism: The Search for Authenticity in Early
Christian Literature (Louisville. KY: Westminster-John Knox Press. 1993),
and Ehrman. Orthodox Corruption, 47-118.
[207] Комм. Ин. 2.21 -23. Первые две книги данного сочинения были
написаны вскоре после возвращения Оригена из Рима и, похоже,
отражают имевшие там место дебаты.
[208] Ср.: J. Dillon, The Middle Platonists: 80 B.C. to A.D. 220, rev. edn.
(Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996), 46.
[209] О различных свидетельствах по поводу Гайя см.: Brent,
Hippolytus, 131-44.
[210] A. von Натаск, История догмы, vol. 3,62, выделено им. Ср.: F.
Loofs,Leitfaden turn Studium der Dogmengescltichle, 5"' edn., rev. K.
Aland (Halle – Saale: Max Niemeyer Verlag, 1950-3), vol. 1, 142.
[211] Это признает и Гарнак в другой части своей работы, где он
сопровождает свое мнение следующим комментарием: «В то время
как Тертуллиан и Ипполит !последний – в интерпретации сочинения
Contra Noetum\ развивали учение о Логосе вне связи с историчсским
Иисусом (фактически они просто добавляют воплощение к уже
существуюшей теории о субъекте), Ириней. вне всякого сомнения,
сделал Иисуса Христа, Которого он рассматривает и как Бога, и как
человека, отправной точкой своих рассуждений» (История догмы,vol.
2, 262).
[212] Опр. 9.7.1 – 8.1: 9.10.9: τούς <ά>νοήτους Νοητού διαδόχους.
[213] ПН 1.1. Перевод начальной фразы Contra Noetum и детальное
обсуждение целостноста данного сочинения см. в: С.P. Bammel, «The
State of Play with Regard to Hippolytus and the Contra Noetum»,
Heythrop Journal, 31 (1990), 195-9: Brent, Hippolytus, 116-27. ЯЯтакже
обыгрывает имя «Ноэт» вПН3.3: 8.3.
[214] К примеру. Киприан, Поел. 72 (73). 4; на Востоке по причинам,
которые будут обсуждаться позже, эта позиция обычно обозначалась
как «савеллианство».
[215] ПН 1.3-4, следуя переводу Батгёрворта: τάς άρχάς μή φρονειν.
[216] ПН 2.1 -8; глаголы в данном разделе стоят то в единственном, то
во множественном числе, что затемняет разницу между Ноэтом и его
учениками.
[217] ПН2.1-3. Здесь слова из Ис. 44:6 (в переводе LXX читается «и Аз
по сих») сплавлены со словами из Откровения (1:17; 2:8; 22:13), в
результате чего они означают «и Я последний»; ·по указывает на то,
что подобные места в Писании прочитывались христоцентрически.
[218] Однако, по мнению Гарнака, «остается большим вопросом, была
ли она !формула «Отец пострадал»] когдалибо хотя бы
приблизительно озвучена сторонниками богословского модализма.
Вероятно, они говорили, что «Сын, Который пострадал, есть то же
самое, что Отец» (История догмы, vol. 3,65). Ср.: R.E. Heine, «The
Christology of Callistus», JTS ns 49.1 (1998), 83.
[219] Фрагмент открывается утверждением, что «неразумные
последователи Ноэта... говорятследующее», а заканчивается:«... так
говорит Клеомен и его хор». Две формы единственного числа («он
говорит») внутри этого отрывка(Опр. 9.10.10-11) наиболее есте-ci-
венно воспринять как относящиеся к Ноэту, хотя «он думает» (Опр.
9.10. i 1), конечно, представляет собой авторскую интерпретацию.
Ср.: Heine, «Callistus», 85-9.
[220] Ириней, ПЕ, 4.6.6. Тертуллиан, считавший только СловоСына
видимым (до воплощения. как и после него; плоть лишь сделала Сына
более видимым,Против Праксея, 15) в отличие от невидимого Отца,
также критикует «монархиан» за их желание «отождествить
видимого и невидимого таким же образом, как (они отождсствляют|
Отца и Сына» (Против Праксея, 14).
[221] ПЕ4.4.2: «Сын есть мера Отца, ибо Он также вбирает Его (capit
[Руссо предлагает: χωρεϊ] еит)».
[222] Опр. 9.10.11. То, что «одно» стоит в среднем роде, – важно, и,
вероятно, вытекает из Ин. 10:30: «Я и Отец – одно (εν)*.
[223] Heine, «Callistus», 89.
[224] Ibid.
[225] Маркович описывает Опр. 9.11-12 как «прискорбное и едкое
«убийство», начертанное пером, которое обмакивали в желчь, а не в
чернила.... μέγιστος άγων Ипполита !Маркович признает его
авторство| – это его единственно реальный άγών, опровержение
современных ему тринитарных модалистов – Клеомена, Савеллия и,
прежде всего, Каллиста» (Hippofytus: Refuiatio Omnium Haeresium, ed.
M. Marcovich, PTS 25 (Berlin: De Gmyter, 1986), 40).
[226] Ср.: Епифаний, Панарий. 62.
[227] Точка зрения Хейне («Callistus», 63-8). Однако попытка Хейне
прочесть христологию Каллиста в терминах стоического различения
между λόγος προφόρικος и λόγος ενδιάθετος, в свою очередь,
представляется основанной на интерпретациях, предложенных
Тертуллианом и Оригеном, оперироваших знакомыми им
категориями, а не на сведениях, содержащихся вОпровержении;
таким образом, Хейнс тоже можно упрекнуть в искажении. Если
Каллист действительно следовал позиции, более близкой Иринею, то
оченьнизкой представляется вероятность того, что он обращался к
такого рода стоическим различениям (ср.: ПЕ 2.28.5-6).
[228] Ср.: Heine, «Callistus», 69: Хейне также полагает вероятным
исправление текста Опр. 10.27.3, чтобы стала возможной ссылка
Каллиста на Ин. 4:24 (ibid. 70).
[229] Опр. 9.12.18-19. Ср.: Heine. «Callistus», 72-4.
[230] Опр. 9.12.18-19: τόν πατέρα συμπεπονθέναι τφ υ'ιφ.
[231] Хейне указывает на стоический фон термина συμπάσχειν: у
стоиков он может использоваться для описания отношения между
душой и телом (ср.: Клеанф, SVFI, 518). Как он заключает: «Римские
модалисты могли представлять себе взаимодействие Отца с Сыном во
время Страстей Сына по образу того, как душа сострадает
(συμπάσχει) с порезанным телом, хотя сама не кровоточит»
(«Callistus», 78).
[232] Опр. 10.33.7. Это сходно с точкой зрения Иринея. однако для
последнего, хотя Бог мог создать человека совершенным с самого
начала, человек, как только что сотворенный, не смог бы принять или
сохранить такой дар (ПЕ4.38.1-2).
[233] Опр. 10.33.8: διό καί θεός, ούσία υπάρχων θεού. Здесь ουσία не
несет более позднего значения общей природы, или сущности. Отца и
Сына, но употребляется более свободно как указание на то, что Слово
есть «нечто» «от Бога» и Сам Бог. Ср.: P. Nautin, Hippolyte el
Josipe(Paris: Cerf, 1947), 116, n. 2.
[234] Onp. 10.33.15; ср.: Ириней, ПЕ2.22А.
[235] Маркович следует Нотену (Hippolyte et Josipe, 125 and 126, ftn.
2), отдавая предпочтение форме αύτόν, а не εαυτόν,
засвидетельствованной в некоторых рукописях.
[236] ПЕ 11.3. Брент считает, что упоминание собравшимися в 347 г.
в Филиппополисе епископами того факта, что Каллист изгнал
Ипполита из Церкви, считая его валентинианцем (apud Иларий, ex
oper. hist. frag. III. ii. 662, ed. Veron), следует воспринимать как
относящееся к автору ПН (Hippolytus, 357-9); тем не менее похоже,
что здесь Ипполит отвечает на более раннее обвинение, а с учетом
того, что мы видели в отношении «Истинного рассуждения» в
Опровержении, представляется более вероятным отнести обвинение
к его автору. Ср.: J.J.I. von Dollinger, Hippolytus and Callistus. trans. A.
Plummer (Edinburgh: T and T Clark, 1876), 202-4.
[237] О Христе и Антихристе, 4; см. также обширную метафору в:
Антихрист,59.
[238] Антихрист. 61:... ον άεί τίκουσα ή εκκλησία διδάσκει πάντα τά
έθνη.
[239] В Опровержении термин «домостроительство» появляется
только в связи с маркионитами (Опр. 6.47.1; 51.1, 4-5; 52.9). Сходное
////этоттермин использовался Иринеем, напр, в ЛАП 47.
[240] ПН 15.6:... δν υιόν προσηγόρευε διά τό μέλλειν αύτόν γενέσθαι.
[241] Π Η15.7; ούτε γάρ άσαρκος καί καθ εαυτόν ό λόγος τέλειος ήν
υιός, καίτοι τέλειος, λόγος ών, μονογενής· οϋθ ή σάρξ καθ' έαυτήν δίχα
τού λόγου ύποστηναι ήδύνατο διά τό έν λόγω τήν σύστασιν έχειν. ούτως
ούν εις υιός τέλειος θεοϋ έφανερώθη.
[242] Сходное замечание делает Брент: «Богословие Ипполита дало
ему возможность четко обозначить различие между видением λόγος’β
в человеческой форме, как он являлся до воплощения и после
воплощения, что проявляется в четком различении между άσαρκος...
и ένσαρκος... Однако богословие, которое предоставило такой
инструмент для опровержения докетизма, само оказалось
ошибочным в терминах позднейшей Никейской ортодоксии, которая
ни в коем случае не могла допустить, чтобы πρόσωπα Отца и Сына
обрели реальность только по воплощении, а не существовали
извечно» (Hippolytus, 227). Последнее замечание, однако, нельзя
признать уместным: утверждение, что именно Иисус Христос есть
Сын Божий, не означает одновременного отрицания вечности Сына,
если только это не воспринимать в наивно временном значении; о
Нем уже говорили пророки и действительно все сфокусировано на
Нем с самого начала – с сотворения Адама (ср.: Рим.. 5:14).
[243] G. Bardy, «Аих origines dc I’ecole d'Alexandrie,» RSR 27 (1937),
65-90. и, самое недавнес, A. van den Ноек, «The ‘Catechetical School’ of
Early Christian Alexandria and Its Philonic Heritage» HTR 90.1 (1997),
59-87.
[244] Резкое суждение о гностической тенденции в раннем
египетском христианстве см. в W. Bauer, Orthodoxy and Heresy, 44-60;
более сбалансированную оценкусм. вС. Н. Roberts, Manuscript, Society
and Belief in Early Christian Egypt (London: Oxford University Press,
1979).
[245] Ср. Климент, Стром. 1.1.11.1-2.
[246] Ссылки по теме и обсуждение см. в: van den Ноек, «The
Catechetical School», 77.
[247] Климент, Стром. 1.1.11.3. Всочинении Какой богач спасется?
42.3-4 Климент называет одно лицо сначала «епископом», а затем
«пресвитером», иногда же в паре с «пресвитером» у него идет
«диакон», а не «епископ»(Стром. 3.12.90.1; 7.1.3.3). Интересно
отметить, что «пресвитеров и учителей» Арсинойского региона
собирал Дионисий Александрийский в середине III в., чтобы убедить
их в ошибках Непоса (ЦИ7.24.6).
[248] Иероним, Поел.\4(1 .ר. -
[249] ЦП6.2.2; здесь Евсевий помещает это событие ок. 203 г., хотя
дата 189 г., предложенпая в ПИ6.26, кажется предпочтительной. P.M.
Грант (R.M.Grant) предполагает, что такая путаница возникла из
того, что Евсевию «трудно соотнести свои легенды об Оригене со
своим же легендарным списком епископов» («Early Alexandrian
Christianity», СН 40(1971), 142).
[250] У Климента Димитрий не упоминается, хотя годы учительства
первого должны бы были совпадать с первым десятилетием
пребывания Димитрия на кафедре. Возможно, Климент также
покинул Александрию по причине каких-то сложностей в отношениях
с Димитрием. Ср. P. Nautin, Lettres et ecrivains chretiens, 118.
[251] Ср. ПИ 7.9 и замечания в: R. D. Williams, «Origen: Between
Orthodoxy and Heresy», in W. A. Bienert and U. Kuhneweg (eds.),
Origeniana Septima (Leuven; Peeters, 1999), 6.
[252] ПИЬ.ЗЛ. О смешении Евсевием двух стадий преследований см.:
Nautin,Origene: Sa vie et son uvre (Paris: Beauchesne, 1977), 363-5.
Евсевий утверждает, что к Оригену пришли «коекто из язычников»,
хотя сам же говорит о том. что Пантен, Климент и Ориген
занималисьтолько катехизацией. В Гом. Иер. 4.3(2) Ориген
описывает, как во времена гонений «мы приходили на собрание и вся
Церковь присутствовала» (έπί τάς συναγωγάς, καί όλη ή έκκλησία...
παρεγίνετο). Нотен относит это описания к гонениям при Аквиле; его
вывод о том, что некоторые священники должны были остаться в
городе, представляется нам необязательным (Origene, 416, прим. 11).
[253] ЦИ 6.3.8. Описывая преподавательскую деятельность Оригена в
этот период, Евсевий передает историю о самокастрации Оригена
(ЦИ6.8). По его мнению, юноша решился на такой поступок, чтобы
избежать обвинений в непристойном поведении со стороны
язычников, так как ему приходилось обшатья с женщинами (хотя
одновременно Евсевий заявляет, что Ориген хранил все это в
секрете!), и что это стало следствием чересчур буквального
толкования (!) Мф. 19. С другой стороны, Епифаний записал
предание, по которому поразительное целомудрие Оригена
приписывалось наркотикам(Панарии, 64.3.12). X. Чедвик
предполагает, что обе истории являются «злобными слухами» (Early
Christian Thought and the Classical Tradition(Oxford: Clarendon Press,
1987 [ 1966)), 68).
[254] О месте Димитрия в системе возникающего монархического
епископата и о реакции Оригена см.: J. W. Trigg, «The Charismatic
Intellectual: Origcn's Understanding of Religious Leadership,» CH 50
(1981), 5-19.
[255] Такое описание дается в: R. Heine, Origen: Homilies on Genesis
and Exodus, FC 71 (Washington: Catholic University of America, 1982),
12-13.
[256] PJ1. Уилкен (R. L. Wilken) говорит о том, что Ориген был
освобожден от своих обязанностей епископом («Alexandria: A School
for Training in Virtue,» in P. Henry (ed.), Schools of Thought in the
Christian Tradition (Philadelphia: Fortress, 1984), 17).
[257] Узнав о великой учености Геракла, Александрию посетил Юлий
Африканус. Этот визит состоялся до 221 г. (ЦИ6.31.2), из чего можно
сделать вывод о том, что Геракл в это время пользовался большей
известностью, нежели Ориген. Чтобы затемнить этот факт, в своем
изложении событий Евсевий переместил рассказе визите Юлия в
более позднее место, в результате чего Геракл упоминается у него
как «епископ» Александрии. Ср. Grant, «Early Alexandrian
Christianity», 135.
[258] ДЯ6.19.16. Ср. Nautin, Origene, 366
[259] Ком. Ин. 1.10-11. Ср. J. A. McGuckin, «Structural Design and
Apologetic Intent in Origcn’s Commentary on John·, в: G. Dorival and A.
Lc Boulluec (eds.).Origeniana Sexta (Leuven: Peelers, 1995), 441-57
[260] О подробностях жизни Оригена вне Александрии, о его
рукоположении и смерти см.: Н. Crouzcl, Origen, trans. A. S. Worrall
(Edinburgh: T & T Clark, 1989), 17-36.
[261] О различных аспектах споров вокруг имени Оригена в IV веке,
см.: Е. A. Clark, The Origenist Controversy: Пе Cultural Construction of
an Early Christian Debate( Princeton: Princeton University Press, 1992).
[262] Дальнейшие подробности и оценку цен ности латинских
переводов см.: Heine, Origen: Homilies on Genesis and Exodus, 25-39;
Crouzel, Origen, 37-49.
[263] Ср. E. Osborn, «Origen: The Twentieth Century Quarrel and Its
Recovery,» в: R. Daly (ed.), Origeniana Quinta (Leuven: Peeters, 1992),
26-39.
[264] Об экзегетическом контексте более систематического
изложения богословия в сочинении О началах, см.: К. J. Toijesen,
«Hermeneutics and Soteriology in Origen’s PeriArchon·, St. Pair. 21
(Leuven: Peeters, 1989), 333-48.
[265] Экзегетический контекст более систематического изложения
богословия в сочинснии О началах, см. в: К. J. Toijesen, «Hermeneutics
and Soteriology in Origen’s Peri Archom, St. Pair. 21 (Leuven: Peeters,
1989), 333-48.
[266] Ком. Ин. 1.33. Та же мысль повторяется несколькими строками
позже: «Поэтому ничто из принадлежащего древним не было
Евангелием до Евангелия, появившегося благодаря земному бытию
Христа» (Ком. Ин. 1.36). Ср. Нач. 4.1.6: «нужно сказать, что
боговдохновенность пророческих слов и духовный смысл Моисеева
Закона сделались ясными (только) с пришествием Христа».
[267] Ком. Ин. 19.28. Ср. Оманитве. 22
[268] Ком. Ин. 19.28, заключающееся цитатой из Пс. 21:23 (LXX), –эти
слова отнесены ко Христу уже в Евр. 2:12.
[269] Ср. P. Widdicombc, The Fatherhood of God from Origen to
Athanasius(Oxford: Clarendon Press, 1994), 84.
[270] Платон, Тимей, 28c; Иустин Мученик, 2Ап. 10.6.
[271] Ср. Widdicombe, Fatherhood. 78-9.
[272] Ком. Мф. 10.10. Как указывает Нотен, данный исторический
период был временем становления трехгодичного катехумсната
(готовящиеся к крещению слушали Ветхий Завет, готовясь тем самым
к восприятию Евангелия и Евхаристии), и это обстоятельство нашло
отражение в структуре комментариев и гомилий Оригена (Nautin,
Origene. 389-409).
[273] К.Дж. Торйесен в этой связи пишет, что «Воплощение
универсально не только благодаря исчерпывающему раскрытию
божественного Логоса, но и тем, что, принимая на Себя плоть, Логос
делает Себя воспринимаемым для всех носящих плоть... В
воплошении Он создает для человечества условия, которые делают
Его понимание совершенно доступным на все времена»
(Hermeneutical Procedure and Theological Method in Origen's Exegesis.
PTS 28 (Berlin: De Gruyter, 1986), 115).
[274] ПЦЗ. 14. В Ком. Ин. 1.236. Схожим образом Ориген
говоритотом, что некоторым образом Слово Божие должно быть
признано человеком всегда и что «человеческая природа Сына
Божия, которая была соединена с Его Божеством, предшествует
рождению от Марии».
[275] Ср. H.de Lubac, Histoireet Esprit: L 'intelligencedel'Ecritured’apres
Origene(Paris: Aubier. 1950), 77-91.
[276] Ком. Ин. 1.231. Ср. Ком. Ин. 10.25. В Нач. 1.2.8 откровение Отца
посредством уничижения Сына используется Оригеном для
объяснения того, как Христос является «точной копией» бытия Бога
(ср. Евр. 1:3).
[277] Ком. Ин. 19.28. Об этом говорится и в Ком. Ин. 1.36-40.
[278] Ср. Ком. Ин. 6.19: «Они жили, потому что участвовали в Нем,
Который сказал: «Я -жизнь» |Ин. 11:25). И. как наследники столь
великих обетований, они получили явления не только ангелов, но и
Бога во Христе. И возможно, поскольку они видели образ невидимого
Бога |Кол. 1:15), так как видевший Сына видел Отца |Ин. 14:9), о них
было написано, что они видели Бога и слышали Его, познав Бога и
услышав его слова божественным образом». ВКом. Ин. 6:22 Ориген
продолжает: «Ясно, что Моисей видел в своем уме истину Закона и
аллегорические смыслы, в соответствии с анагогическим смыслом
историй, записанных им».
[279] По поводу «буквального смысла» Крузель отмечает: «Под ним
Ориген понимает сырой материал сказанного до какой бы то ни было
попытки истолкования, если такое вообще возможно* (Crouzel,
Origen, 62).
[280] Ср. Toijesen, Hermeneutical Procedure. 111-13.
[281] Нач. 2.7.2.
[282] Ср. Гомилии на Луку, 1.4: «Сами апостолы видели Слово не
потому, что они видели тело нашего Господа и Спасителя, но потому,
что видели Слово. Если видение тела Иисуса означало видение
Божия Слова, значит, Пилат, который осудил Иисуса, видел Божие
Слово; так же, как Иудапредатель и те, которые кричали «распни
Его, распни Его, устрани такого с земли». Но да не увидит
неверующий Божие Слово. Видение Божия Слова означает то, что
говорит Спаситель: «Видевший Меня, видел также и Отца,
пославшего Меня».
[283] Гом. Иер. 9.1 Ср. Ком. Ин. 20.91-4, где земное бытие Христа, как
до, так и после Его пришествия, соотносится именно со Страстями,
ибо «нет такого периода, когда духовное домостроительство в
отношении Иисуса |то есть Страсти) не присутствовало со святыми»
(Ком. Ин. 20.94).
[284] Ср. Ком. Ин. 10.14. В Нач. 4.2.9 Ориген говорит о том, что в
Писании есть определенные «камни преткновения», помещенные
туда Словом Божиим по особому промыслу, чтобы было ясно, что они
обладают более глубоким смыслом, помимо буквального, и что Дух
подобным образом действовал в Евангелиях и писаниях апостолов.
[285] Ком. Ин. 10.18-20: «Духовная истина часто присутствует, так
сказать, в материальной лжи» (Ком. Ин. 10.20).
[286] Ср. Ком. Ин. 1.107,где Ориген анализирует двойной
смысл,вкаком Христос является «началом»: в отношении Его
собственной природы его Божество является началом; в отношении
нас – это «его человечество, в соответствии с которым Иисус Христос,
и притом распятый, возвещается младенцам», возвещается как
ставший плотью, «чтобы Он мог обитать среди нас, которые способны
принять Его сперва только таким образом*. См. такжеКом. Ин. 19.38.
[287] Ком. Ин. 1.43-5. Важно отметить, что эти рассуждения
предваряются следующей фразой: «Мы должны жить как христиане в
духовном и телесном смысле».
[288] Торйесен формулирует это следующим образом: «Основа
единства между Евангелиями и Посланиями следующая: и те, и
другие говорят об одном и том же – об унивсрсальном пришествии
Логоса к душе через воплощение; однако в Евангелиях это является
аллегорическим преломлением человеческой истории Иисуса, в то
время как в Посланиях учение о Божественном Логосе
сформулировано в прямой форме» (Hermeneutical Procedure. 129).
[289] Добр. 15.2 = ПЦ6.2. Под «доказательством Духа» Ориген
понимает изложение, показывающее, как пророчества относятся ко
Христу, поскольку это «способно убедить любого читателя» (Добр.
15.3= ПЦ 1.2). Ср.: Нач.. 4.1.6; 4.2.3.
[290] Добр. 15.10 = ПЦ 7.60.
[291] Ibid.
[292] Добр. 15.12 = ПИ 6.75-6.
[293] Добр. 15.14 = ПЦ6.77. Об изменчивости облика Иисуса см.:
Ком. Мф.12.36-8; Гомилиина Бытие 1.7; ЯД 2.64-6; 6.68; 6.75-7.
Утверждение о том, что это учение соответствует преданию, см. в:
Comm. ser. in Matt. 100 100 (GCS 11.2, 218-19). Использование этой
идеи в инославных (heterodox) кругах см. в:Деяния Иоанна 93. Ср.: J.
McGuckin, «The Changing Forms of Jesus», L. Lies (ed.), Origeniana
Quarta (Innsbruck Vienna: Tyrolia, 1987) 215-22.
[294] Ср.: Добр. 15.14 = ПЦ 6.77.
[295] Добр. 15.18= ПЦ 6.77.
[296] Ibid. Ср.: I Кор. 1:21; Ис. 53:2.
[297] Ibid. Ср.: Ком. Мф. 12. 10-14, где эта роль «Петра» раскрывается
по отношению к епископату.
[298] Добр. 15.19. Раздел 15.19 –единственный, который не
появляется ни водной рукописи Contra Celsum, поэтому Кечау
(Koetschau) в своем изданииContra Ceisum напечатал его в скобках
(GCS 2-3, 1899); об аутентичности этого фрагмента и его месте в ЯД
6.77 см.: R.P. Hanson, «The passage marked «Unde?* in Robinson's
Philocalia XV, 19», в H. Crouzel and A. Quacquarelli (eds.),Origeniana
Secunda (Rome: Ateneo, 1980), 293-303. Та же точка зрения высказана
в Ком. Мф. 12.38: «Одеяния Иисуса – это выражения и буквы
Евангелий, в которые Он облачился; и я полагаю, что лаже то. что о
Нем говорят апостолы, – тоже одеяния Иисуса, становящиеся белыми
для восходящих на высокую гору с Иисусом». Далее Ориген говорит,
что видящие Иисуса в преображенных одеяниях одновременно
увидят и Моисея, представляющего Закон, и Илию, представляющего
Пророков.
[299] Добр. 15.19: άεί γάρ έν ταΐς γραφαΐς ό λόγος σάρξ έγένετο. ινα
κατασκήνωσή έν ήμίν Ср.: Ин. 1:4.
[300] Добр. 15.19; ср.: 1 Кор. 2:7.
[301] Добр. 20= ЯД6.77.
[302] В другом месте Василий с опаской говорит о взглядах Оригена
относительно Святого Духа (ср.: О Святом Духе 29.73); о его
отношении к Оригену в период составления Добротолюбия см.: P.
Rousseau, Basil of Caesarea (Berkeley: University of California Press.
1994), 11-14, 82-4.
[303] Ориген связывает эти две идеи в ПЦ 2.64.
[304] Ком. Ин. 1.51-65; со ссылкой на Ис. 52:7, как этот фрагмент
цитируется в Рим. 10:15.
[305] Ком.Ин. 2.12-15.
[306] Ком. Ин. 1.267. Определение «разумного» (λογικός) здесь
полностью производно от Божия Слова (λόγος). Ср.: Ком. Ин. 2.114:
«мы могли бы также сказать, что только святой разумен».
[307] Williams, Arias. 139.
[308] С данной терминологией Ориген мог познакомиться в
валентинианских кругах в Риме, однако он использовал ее
совершенно в других целях и по отношению к другим оппонентам.
Обсуждение этого см. у: A. Logan, «Origen and the Development of
Trinitarian Theology», in L. Lies (ed.), Origeniana Quarta(Innsbruck –
Vienna: Tyrolia, 1987), 424-9.
[309] Ком. Ин. 10.246. To же противопоставление «аспекта» и
«реальности» проводится в Ком. Мф. 17.14.
[310] Диалоге Гераклидом, 2.
[311] Ком. Ин. 2.75; точка зрения выражена в: A. Logan «Origen and
the Development of Trinitarian Theology», 427, n. 2.
[312] О молитве, 15.
[313] Сходная альтернатива описывается в Ком. Ин. 1.152: либо мы
говорим, что Сын не отделен от Отца – и тогда Он и не существует, и
не является Сыном; либо говорим, что Он одновременно отделен и
наделен существованием (ούσιωμένον).
[314] О молитве, 15.1: έτερος... κατ' ουσίαν καί υποκείμενον.
[315] Ком. Ин. 2.149, ссылаясь на Ин. 1:5 и 1 Ин. 1:5.
[316] Термин homoousios встречается в отрывке Комментария на
Поашние Евреям, который сохранился в латинском переводе
Апологии ОригенаПамфила, выполненном Руфином. Позитивная
оценка этого факта дается в статье: M.J. Edwards. «Did Origen Apply
the Word Homoousios to the Son?» JTSns 49.2 (1998), 658-70.
[317] Точка зрения Уильямса (Arius, 134-5). Кроме того, по мнению
Уильямса, приведеннос Оригеном определение может быть
«известным и квазитехническим определением термина homoousios*
(Arius, 296, п. 164), что могло бы помочь объяснить, почему Ориген не
сохранил употребление Гсраклеона. который вкладывал в этот
термин оттенок происхождения, и лишило бы последний
материалистических обертонов.
[318] Ком. Ин. 2.17: παν δέ τό παρά τό αύτόθεος μετοχή τής εκείνου
θεότητος θεοποιούμενον ούχ «ό θεός» άλλά «θεός' κυριώτερον άν
λέγοιτο.
[319] Ком. Ин. 2.17. В Ком. Ин. 13.219, комментируя Ин. 4:32 («У
Меня есть пища, которой вы не знаете»), Ориген огжсываст Христа
как Того, Кто «вечно питаем Отцом. Который Один не имеет нужды и
самодостаточен».
[320] Ср.: ПЦ8.12: «Они – двое по существованию (δύο τή ύποστάσει
πράγματα), но одно в единстве разума, в согласии и тождестве воли».
[321] Williams, Arius, 142-3.
[322] Ср.: Фотий, Библ. 117.
[323] Ibid. Нотен относит это обвинение к Нач. 4.4.8, что связало бы
его с комментарием Оригена на Ин. 14:28 (Origene120-2 ,)׳.
[324] Ср.: Ком. Мф. 15.10. Уильямс (Arius, 142-3) указывает на два
фрагмента, которые, вероятно, являются более поздними, чем
Комментарии на Иоанна׳, в них Ориген утверждает, что Спаситель
является Богом «не по сопричастию, но по сущности» (Selecta in
Psalmos на Пс. 134; в изд. Lommalsch, 13,134. 19-20), и что Сын есть
«Тот. Кто Есть по самой Своей сущности» (фрагмент об
Апокалипсисе, TU 38, 29).
[325] Нач. 2.6.1 начинается след, образом: «После этих исследований
время обратиться к вопросу о воплощении Господа и Спасителя
нашего, как и почему Он сделался человеком?». Разделение О
началах на четыре книги не отражает действительного содержания
сочинения, которое наиболее естественно распадается на два
главных раздела: Нач. 1.1-2.3 и Нач. 2.4-4.3.
[326] Нач. 1.2.9, ср. Ком. Ин. 1:204.
[327] Афанасий, О Никейских постановлениях. 27, где цитируется
Нач. 4.4.1. Туже формулировку можно найти в Нач. 1.2.9 и в
Комментарии на Поашние Римлянам 1.5. Сходную формулировку
Ориген использует для выражения вечною значения спасительной
смерти Христа; Ком. Ин. 20.94: «нет [времени), когда духовное
домостроительство Иисуса не присутствовало для святых» (ή κατά
τόν' Ιησούν πνευματική οικονομία ούκ έστιν δτε τοΐς άγίοις ούκ ήν).
[328] Нач. 1.2.4. 'Го, что Единородный есть «по природе Сын от
начала», также утверждается в Ком. Ин. 2.76. О термине
«Единородный» см. выше.
[329] Гом. Иер. 9.4: καί άεί γεννάται ό σωτήρ ύπό τού πατρός, ούτως καί
σύ έάν έχης «τό τής υιοθεσίας πνεύμα.» άεί γεννά 06 έν αύτώ ό θεός καθ
έκαστον έργον, καθ έκαστον διανόημα, καί γεννώμενος ούτως γίνη άεί
γεννώμενος υιός θεού έν Χριστώ Ιησού.
[330] Ср.: Ком. Ин. 1.278, где Ориген между прочим утверждает, что
«Сын воцарился через страдание на кресте» (έβασίλευσε γάρ διά τού
πεπονθέναι τόν σταυρόν).
[331] Μ. Harl, «La Preexistence des antes dans l’oeuvre d’Origene», in L.
Lies (ed.), Origeniana Quaria, 238-58.
[332] Ср.: Нач. 1.6.2; 1.8.1; 2.1.1-2etc.
[333] Точка зрения представлена в; Harl «La Preexistence des ames».
Различие, описанное в Ком. Ин. 20.182, цитир. выше, не следует
воспринимать в хронологическом смысле («Preexistence», 246). В
более поздних сочинениях Ориген уже не ссылается на
«предшествующис причины», а лишь на Божественное предведение,
которое у него всегда увязано с личной свободой. См. особенно Добр.
25, где, ссылаясь на описание Павлом своего избрания в Рим. 1:1 и
Гал. 1:15, Ориген комментирует: «Всякий, кто предназначен
предведением Бога, является причиной известных событий», а не
«спасается по природе» – в таком учении он обвиняет своих
оппонентов. Ориген также постоянно отмежевывается от любого рода
мегемпсихоза, утверждая, что история Адама дает учение, которое
«выше платоновского учения о нисхождении души» (ПЦ 4.40). Тем не
менее Ориген обитал в мире, в котором высшие духи сходили в тела –
как в случае Иоанна Крестителя (ср. Ком. Ин.2.175-88), и такое
учение в четкой формулировке он обнаружил в апокрифическом
еврейском тексте Молитва Иосифа. О еврейском происхождении
представления о «предсуществовании» душ см.: G. Bostock, «The
Sources ol'Origens Doctrine of Рте-Existence», in L. Lies (ed.),
Origeniana Quaria (Innsbruck – Vienna: Tyrolia, 1987), 259-64.
[334] Так интерпретировал Оригена Мефодий Олимпийский (ср.:
Фотий, Библ.234): затем это обвинение было подхвачено Епифанием:
Панарий, 64.
[335] Williams, Anus, 141.
[336] Как пишет Уильямс, «говоря кратко, представление Оригена об
ортодоксии, поскольку последнее основывается для него на тесной
связи с практикой систематической духовной экзегезы,
рассматриваемой, в самом строгом смысле, как духовное
упражнение, практически обречено показаться гетеродоксальным – в
век. когда доминируюший богословский дискурс формируется под
давлением необходимости принять систему формулировок, удобных с
точки зрения своей экономности и способности к авторитетной
передаче» (R. Williams, «Origen: Between Ortodoxy and Heresy*, 13).
[337] Suidae Lexicon, ed. A. Adler, 3.619.
[338] Cp. W.A. Bient, Dionisius von Alexandrien: Zur Frage des
Origenismus im dritlen Jahrhundert, PTS 21 (Berlin: De Gruyter, 1978); T.
Vivian, Si Peter of Alexandria: Bishop and Martyr (Philadelphia Fortress
Press, 1988), 87-138.
[339] Афанасий, О Никейских постановлениях, 27.
[340] Афанасий, О мнении Дионисия, 5,9-10. Евсевий (//#7.26)
упоминает, что Дионисий написал послания против Савеллия
«Аммону, епископу церкви в Беренике», а также Телесфору,
Евфранору и Евпору и Василиду, «епископу обшин Пентаполиса».
[341] Афанасий. О мнении, 4 (Opitz, 48.22-3): ώς ποίημα ών ούκ ήν πριν
γένηται. То, что это суждение, расходящееся со всем, что мы знаем об
учении Дионисия, могло быть выводом его оппонентов, предполагает
Уильямс: Williams. Anus, 152-3.
[342] Василий Кесарийский, Послание, 9.2.
[343] Афанасий, О мнении, 13.
[344] Афанасий, О постановлениях. 26 (Opitz, 22.1-9).
[345] Ibid. (Opitz, 22.12-13).
[346] Williams, Arius. 150-1.
[347] Афанасий, О постансныениях. 26 (Opitz, 22.19-23.10).
[348] Ibid. (Opitz, 22.20-22): εί γάρ γέγονεν υιός. ήν ότε ούκ ήν άεί δέ ήν,
εϊ γε «έν τώ πατρί» έσπν, ώς αύτός φησι. καί εί λόγος καί σοφία καί
δύναμις ό Χριστός.
[349] Ibid. (Opitz, 23.7-10).
[350] Ibid. (Opitz, 22.9-12; 23.12-16).
[351] Ср. Афанасий, О мнении, 13. Евсевий ссылается на четыре
трактата (συγγράμματα) Дионисия, адресованные его тезке в Риме
(ЦП 7.26); Афанасий также упоминает «третью» (Омнении, 18) и
«четвертую* книгу (Омнении, 23), но целостность названия
(Опровержение и защита), охватывающего все тома (ср. особенно:
Омнении, 14, Opitz, 56.33), похоже, сохраняется.
[352] Афанасий, Омнении, 20-1; ср. ibid. 10-11, а также отчаянные
меры, предпринятые Афанасием в Омнении. 12, где он воображает,
чтобы мог сказать Дионисий.
[353] Ibid. 20 (Opitz, 61. 19-25).
[354] ibid. 17.
[355] Ibid. 15 (Opitz, 57. 1-3).
[356] Ibid. 15 (Opitz, 57. 4-13), где цитируются Прем. 7:26 и Притч.
8:30.
[357] О том. кто ввел термин homoousios в дискуссию, см.: Hanson,
Search for the Christian Doctrine, 192-3.
[358] Ibid. 18.
[359] Ibid. 17 (Opitz, 58. 24-5): οίίτω μέν ήμεΐς εϊς τε τήν τριάδα τήν
μονάδα πλατύνομεν άδιαίρετον, καί τήν τριάδα πάλιν άμείωτον εις τήν
μονάδα συγκεφαλαιούμεθα.
[360] Так же, как Ориген и Дионисий, Афанасий цитирует отрывок из
Феогноста в зашиту Никсйского Символа (Decrees, 25); помимо этого
источника, об их учении известно только из подвергнутых обработке
обобщений, дошедших от Фотия (Библ. 106,119). Ср.: Vivian, Peter,
115-16.
[361] ЦП 7.30.3 Перечислив епископов и отметив присутствие
пресвитеров и диаконов, Евсевий комментирует: «Все они в разное
время, но часто собирались по одному и тому же делу; каждое
собрание волновали те же вопросы и мысли. Сторонники Самосатца
старались скрыть и утаить его неправоверие; противники старательно
изобличали и воочию показывали его ересь и хулу на Христа»
(ЦИ7.28.2).
[362] ЦИ 7.29.1. По поводу даты ср.: F. Millar, «Paul of Samosata,
Zenoba and Aurelian: The Church, Local Culture and Political Allegiance
in Third-Century Syria», JRS6\ (1971), 11.
[363] Диакон Василий на Соборе в Ефесе (431 г.),АСО 1.1.5, р.8.
[364] Тертуллиан, О скромности 10; О посте 13. Ср.: H.J. Sieben. Die
Konzilsidee der Alien Kirche, Konziliengeschichte, B, Untersuchungcn
(Paderbomelal·. Schoningh. 1979), 467.
[365] Евсевий, ЦИ5.23.2. Ср.: W.L. Petersen, «Eusebiusand the Paschal
Controversy», in H.W. Attridge and G. Hata (cd.), Eusebius, Christianity,
and Judaism (Leiden: Brill, 1992), 311-25; Brent, Hippolytus, 412-15.
[366] Ср.: Sieben, Konzilsidee, 466-76 U.M. Lang, «The Christological
Controversy at the Synod of Antioch in 268/9», JTSns 51.1 (2000), 61-5.
[367] ЦИ6.33.1: τόν σωτήρα και κύριον ήμών λέγειν τολμών μή
προϋφεστάναι κατ ιδίαν ούσίας περιγραφήν πρό τής εις ανθρώπους
επιδημίας μηδέ μήν θεότητα ιδίαν έχειν, άλλ' έμπολιτευομένην αύτώ
μόνην τήν πατρικήν.
[368] ЦИ 6.33.2-3. Евсевий утверждает, что в его дни были доступны
письменные протоколы этой встречи. Иероним также сообщает об их
доступности, хотя его сведения, вероятно, взяты у Евсевия (О
знаменитых людях, 60).
[369] Ср.: Диалоге Гераклидом, 24.25-6: «Когда вошел епископ
Филипп, другой епископ – Димитрий, сказал: «Наш брат Ориген учит
(διδάσκει), что душа бессмертна».
[370] Ср.: Диалог, 10.18-19: [Ориген] «Если есть еще что-то
относительно канона, назовите это; иначе мы станем далее говорить
о Писании».
[371] Ср.: Siebcn, Konzilsidee, 476.
[372] В Первом Символе Антиохийского Собора 341 года, записанном
у Афанасия, О соборах, 22.3 (Opitz, 248.29-30). Ср.: Lang, «The
Christological Controversy», 65, который считает, что такое изменение
формы соборной деятельности указывает на то, что обширные
фрагменты якобы Деяний Антиохийского Собора 268/9 гг. на самом
деле относятся к III в.
[373] Евсевий, //7/7.30.7-16. Ср.: F.W. Norris, «Paul
ofSamosata:ProcuratorDucenarius·. JTS ns 35.1 (1984), 50-70.
[374] Ср.: Lang, «The Christological Controversy*. 58.
[375] Ср.: H. De Riedmatten, Les Acts du Proeesde Paul de Samosate:
Etude sur la Christologie du I lie tin IVe siecle, Paradosis6 (Fribourg en
Suisse St Paul, 1952), 17-23.
[376] Евсевий, Церковное богоаювие, 1.20.7 (43).
[377] Ibid. 1.20.7 (40-1).
[378] С. Stead, Marsel Richard on «Malchion and Paul ofSamosata», H.C.
Brennecke. E.L. Grasmuck, C. Markschies (eds.), Logos: Festschrift fur
Luise Abramowski zum 8Ju!i 1993( Berlin – New York, 1993), 149-50. Ср.:
Сократ.Церковная история, 1.23; Евстафий, фрагм. 17, в: М. Spanneut,
Recherchessurles Ecritsd’Eustathed’Antioche,
avecuneeditionnouvelledesfragments dogmatiques et exegetiques (Lille:
Facultes Catholiques, 1948).
[379] В Извлечениях из пророков, 3.19 (PG 22.1144 b), которые были
написаны до спора с Евстафием и Марксллом, Евсевий не упоминает,
чтобы в деле Павла фигурировал вопрос о человеческой душе Христа.
В этом тексте Павел зачисляется, скорее, в ряды тех, кто отрицал
«предсуществование» Христа.
[380] Памфил, Апология Оригена, PG 17.588-90.
[381] Ibid. PG 17.578-9.
[382] Термин «Слово» не играет значительной роли в Павловом
понимании Иисуса Христа даже во фрагментах, относящихся к более
позднему периоду. Смелую попытку рассмотреть богословие Павла на
фоне Луки/Деяний Апостолов, а не Иоанна, см. в: R.L. Sample, «The
Messiah as Prophet: The Christology of Paul ofSamosata» (Ph. D. Diss.,
Northwestern University, Evanstin, III. 1977), хотя следует обратить
внимание на комментарии Норриса: Norris, «Paul ofSamosata», 56-8.
[383] Евсевий, Церковное богословие, 1.14: ότι μή και υιόν θεού και
θεόν πρό τής ένσάρκου γενέσεως όντα τόν Χριστόν ώμολόγει.
[384] Ср. напр.: Афанасий, О соборах, 45.
[385] ПсевдоАфанасий, О воплощении Господа нашего Иисуса
Христа, против Апполлинария, 2.3 (PG 26.1136 Ь): «Павел из
Самосаты исповедует, что Бог – от Девы, что Бог появился из
Назарета и оттуда (εντεύθεν) идет начало Его существования
(ύπάρξεως) и там началось Его правление. Он исповедует, что в Нем
были действующее Слово с небес и Премудрость; что Он от века был в
предопределении (τώ μεν προορισμώ πρό αιώνων όντα), но в
существовании открылся из Назарета (τή δέ ύπάρξει έκ Ναζαρέτ
άναδειχθέντα); так. чтобы, говорит он, был один Бог всех – Отец».
[386] ПсевдоЕпифаний. Анакефалайосис, 2.2.1 (PG 42.868 с):
προκαταγγελτικώςμέντά περί αύτοΰ έν ταϊς θείαις γραφαϊς είρημένα
έχοντας, μή οντος δέ. άλλ.' άπό Μαρίας καί δεύρο διά τής ένσάρκου
παρουσίας.
[387] Следуя по тексту издания: de Riedmatten, LesActs du Proces, 153.
[388] Ср.: Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, 365-6.
Факт того, что в кругах, из которых вышло данное послание, были
известны Деяния Антиохийского Собора 268/ 9 гг.. доказывается в: М.
Simonetli, «Per la rivalutazionc di alcune testimonianze su Paolo di
Samosata», Rivista di Storia e Letteralitra Religiosa, 24 (1988), 182.
[389] Епифаний, Панарий, 73.12.2-3.
[390] Феофил Антиохийский, К Автолику, 2.22. Интерпретацию
учения Павла в таком ключе в IV в. см. в: Епифаний, Панарий, 65.1.5.
[391] ПсевдоЛеонтий, О сектах, 3.3 (PG 86.1216 а).
[392] Ср.: Sample, The Messiah as Prophet, 109.
[393] ПсевдоЛеонтий, О сектах, 3.3 (PG 86. 1216 b).
[394] Ср.: Памфил, Апология, третье обвинение, PG 17.578-9.
[395] Евсевий, Церковное богословие, 1.14.
[396] Афанасий. О соборах, 26(4), (Opitz, 252, 28-30): ср.: Афанасий,
Речи против ариан. 3.51, где «предвосхищение» относится к Лк. 2:52.
[397] ״Одругих подобных сведениях см.: Афанасий. Речи против
ариан 2.13; Несторий, Возар Гераюшда 1.1.53 (trans. G.R. Driver and L.
Hodgson. Neslorius, The Bazaar of Heracleides !Oxford: Clarendon.
1925|. 44). Такое нападение научение Павла, безусловно, схоже с
фрагментами Беседы с Сабином, хотя попытка аргументировать
подлинность пслсднего текста (Sample, Messiah, 56-63) не
представляется успешной (ср.: Norris, «Paul of Samosata», 57).
[398] Афанасий, О соборах, 43 (Opitz, 268. 16-18).
[399] Ibid. 45 (Opitz, 269. 37-270.4).
[400] "Ср.: Ibid. 51 (274.35-275.4).
[401] Василий, Послание, 52.1.
[402] Иларий, О Соборах, 81 (PL 10.534).
[403] Ср.: G.L. Prestige, Godin Patristic Thought (London SPCK, 1959).
206-8.
[404] Ср.: De Riedmatten, Les Acts du Proces, 106-7.
[405] Точка зрения де Ридматтена, ibid.
[406] Текст послания см. в: G. Bardy, Раи! de Samosate: Etude
historique, rev. edn. (Louvain: Spicilegiunr Sacrum Lovaniense, 1929),
13-19.
[407] Ср.: de Riedmatten, Les Acts du Proces. 121-34; R.L. Sample,
Messiah. 63-76; idem, «The Christology of the Counsil of Antioch (268
C.E.) Reconsidered»,CH, 48 (1979), 18-26, особ. 22-3.
[408] Послание, 2, цит. Кол. 1:15.
[409] Послание, 3.
[410] Послание, 5.
[411] Послание, 9.
[412] Здесь цитируются Плач. 4:20; 2 Кор. 3:17; 1 Кор. 10:4; 1 Кор.
10:9: Евр. 11:26; I Петр. 1:10-11; 1 Кор. 1:24.
[413] Послание, 9.
[414] Термин «Слово» употреблен трижды: Послание. I (цит. Лк. 1:2),
2,4.
[415] Послание, 2.
[416] Ibid.
[417] Послание. 4.
[418] Ibid.
[419] Послание. 8.
[420] Ibid. Цит. Кол. 2:9.
[421] Ibid.
[422] Ibid. со ссылкой на Евр. 2:14 и иит. Евр. 4:15.
[423] Апполлинарий Лаодикийский, Первое послание к Дионисию. 1
(ed. Lietzmann. 256-7).
[424] Ср.: Афанасий, Речи против ариан, 2.13; 3.51; and 4.30. Об
упоминании Павла и проблеме «разделяющей» христологии в
послании Афанасия Максиму см.: Sample, Messiah. 41-2.
[425] Об этих двух текстах см.: G. Bardy, Paul de Samosate, 133-44.
[426] Ср.: Григорий Нисский, Ответ Апал/1инарию (GNO 3.1, р. 142);
ср.: Bardy, Paul, 91-2.
[427] Текст данных отрывков см. в: de Riedmatten, Les Acts du Proces,
135-58; ссылки на отрывки соответствуют нумерации де Ридматтена с
использованием, как у него, префикса «S».
[428] Евагрий, Церковная история. 1.9; Леонтий Византийский, Три
книги против несториан и евтихиан, 3 (PG 86. 1389 Ь), перепечатано
в: de Riedmatten, 151-2); Фсофап, Хронография. AM 5923 (ed. С de
Boor, 88).
[429] «Декларация» сохранилась (анонимно) в Деяниях Ефесского
Собора (АСО 1.1.16 pp. 101-2); Леонтий Византийский, который
воспроизводит текст и приводит фрагменты Деяний, упоминает, что
«говорят», будто этот документ распространялся Евсевием
Дорилеумским (PG 86. 1389 b, de Riedmatten, 151-2).
[430] Сохранился также латинский отрывок у Петра Диакона (S 25) и
важный диалог в ms Jan. gr. 27 (S 36).
[431] Ср.: M. Richard, «Les Floriicgcsdiphysitesdu Vfeet Vlesiecle», in
Das Konzil von Chalkedon, ed. A. Grillmeierand H. Bracht, vol. 1
(Wurzburg: Echter Verlag, 1959), 721-48.
[432] В рецензии на книгу де Ридматтена Барди поспешил объявить
об отходе от мнения в пользу подлинности Деяний, высказав
подозрение в том, что они являются подделкой аполлинаристов (RSR
26 (1952), 294-6). В последующие десятилетия, как указывает Стел
(Stead), аргументы Ришара (Richard), доказывающие неподлинность
Деяний, приняли Дж. Н.Д. Кэлли (J. N. D. Kelly), А. Грильмайер (A.
Grillmeier), Р.Л. Сэмпл (R. L. Sample), Ф.У. Норрис (F. W. Norris), X.
Бреннеке (Н. С. Вгеппеске) и Р.П.К. Хансон (R. Р. С. Hanson), в то
время как Р. Лоренц (R. Lorenz), Т.Д. Барнс (Т. D. Barnes), Н.Х.К.
Френд (W. Н. С. Frend), Р.Д. Уильямс (R. D. Williams) считают их
подлинными («Marcel Richard on Malchion and Paul of Samosta», 141,
n. 4 – см. ссылки); к тем, кто разделяет представлениеобих
подлинности, можно добавить М. Симонетти (М. Simonetti, ·Paolo di
Samosta e Malchione. Riesame di alcune testimonianze», Hestiasis: Studi
di tarda antichita offerti a Salvatore Calderone,Studi Tardoantichi 1
(Messina, 1986), 7-25, и «Per la rivalutzone di alcune testimonianze su
Paolo di Samosata»), Стэда (Stead, «Marcel Richard»), Л. Перронэ (L.
Perrone, «Lenigma di Paolo di Samosata. Dogma. Chiesa e societa nella
Stria del III secolo: prospettivediun
ventenniodistudi»,CristianesimonellaSloria, 13 (1992), 253-327), У. М.
Ланга (U. M. Lang, «The Christological Controversy»).
[433] Обо всех этих доводах см. указанные выше статьи Симонетти и
Ланга.
[434] Даже Симонетти допускает, что текст фрагментов подвергался
определенным изменениям («Per la rivalutzione», 208).
[435] См. сохранившиеся фрагменты Евсевия Дорилеумского (S 1-6),
Тимофея (S 8,9,12) и Леонтия (S 26-28), которые де Ридматген для
удобства приводит в параллельных колонках (de Riedmatten, Les Acts
du Proces, 31-2). Об экзегетических основаниях дебатов и наследии
Оригена см.: Williams, Arius,160-1.
[436] К данному высказыванию как нельзя лучше применима мысль
Сэмпла (Sample, The Messiah as Prophet), что Павел опирается на
Евангелие от Луки (ср. особ: Лк. 4:16-21). Стоит отметить, как
упоминалось выше, что согласно сведениям, дошедшим до нас из VI
в., Павел определял Дух как «благодать, вдохновлявшую апостолов»
(О сектах. 3.3: PG 86. 1216 Ь); об апостольском прочтении Писания
как говорящего о Христе см. выше в главе I.
[437] См. также S 14, 25, 31.
[438] S 32. Ср.: S 17.
[439] По поводу выражения «говорится» см.: Bardy, Paul, 51, п. 2.
[440] Ср.: Афанасий, Против ариан, 2.13: «Если они |ариане|
полагают, что Спаситель не был Господом и Царем до того, как Он
стал человеком и претерпел Крест, но только после этого начал быть
Господом, то пусть знают, что они открыто возрождают сужаения
Самосатца».
[441] Ср. отрывки из Епифания (Церковное богословие, 1.14);
ПсевдоЕпифания (Анакефалайосис, 2.2.1) и ПсевдоАфанасия (О
воплощении Господа нашего Иисуса Христа против Апаыинария, 2.3),
обсужд. выше.
[442] S 22. Сохранился сирийский текст, греческий приведен у де
Ридматтена (de Riedmatten, Les Acres, 147).
[442] S 33: τήν δέ συνάφειαν έτέρως πρός τήν σοφίαν νοεί |το есть
Павел], κατά μάθησιν καί μετουσίαν, ούχί ουσίαν ούσιωμένην εν
σοίματι.
[444] S 23. Ср.: Lang, «Tlie Christological Controversy», 66.
[445] S 35: ού πάλαι τούτο έλεγον ότι ού δίδως ούσιώσθαι έν τώ όλω
σωτήρι τόν υιόν τον μονογενή, τόν πρό πάσης κτίσεως αίδίως
υπάρχοντα.
[446] Ср.: S 25: «Сложное, разумеется, составляется из простых
элементов, даже и в случае с Христом Иисусом, Который сделался из
Бога Слова и человеческой плоти от семени Давида и Который
существует без всякого разделения на одно и другое, но в единствс».
[442] Напр., S 34: «Он сформировался, вопервых, как человек в чреве,
и, вовторых. Бог в чреве сушностно соединился с человеком» (θεός ήν
έν γαστρί συνουσιωμένος τω άνθρωπίνω).
[448] S 36; здесь изменен перевод, представленный в: J Stevenson, A
New Eusebius (London: SPCK, 1963), 278-9.
[449] Ср.: S 25, цит. выше.
[450] Ср. напр.: S 18, где воспроизводится утверждение Собора 268/9
гг.: «Итак, это – Слово, происхождение Которого от древнейших дней,
о Котором сказал пророк, что Оно выйдег из Вифлеема (ср. Мих. 5:1)
– всему этому противоречит учитель ереси. Опять же [он говорит|,
что Иисус Христос от Марии, но Слово рождено Богом. Но написано –
вновь приведем лишь одно изречение в свидетельство – что Бог есть
Отец Иисуса Христа (ср. 2 Кор. 1:3 и т.д.); соответственно. Отец Слова
есть также и Отец всего Иисуса Христа, Который сложен из Слова и
тела |рожденного| от Марии». Мне не удалось обнаружить ни одного
места в Деяниях, где бы критики Павла tout court констатировали,
что Иисус Христос есть Божие Слово.
[451] Ср.: S 14, 15, 16. 18, 20, 22, 23, 25, 31. О «человеке» см. S 20 и
34; в обоих случаях рассматривается различие между тем, что
Христос делает как человек и как Бог (третий фрагмент, где
проводится то же различие, S 15. говорит только о «человеческом
теле»).
[452] Ф. Луфс и Г. Барди отвергли это отождествление (F. Loofs, РаиI
von Samosata, Eine Untersuchung zur altkirchlichen Literature und
Dogmengeschichte,TU 3/14, 5 [Leipzig, 1924|, 262 G. Bardy, Paul de
Samosate. 482-7), в тот время как де Ридмазтен и большинство
исследователей после него отождествление приняли (de Riedmatten,
Les Acts du Proces, 52-3). Контекст данных утверждений, относящийся
к оригеновскому толкованию фразы «внутренний человек» из Рим.
7:22, детально рассмотрен в: Lang, «The Christological Controversy»,
72-9.
[453] Евсевий. Церковное богословие, 1.20.7 (ed. Klostermann
р.87.34-5).Комментарии на Псалмы Евсевия, в котором содержатся
ссылки надушу Христа, скорее всего, датируются доникейским
периодом.
[454] Ср.: Williams, Arius, 170.
Вам также может понравиться
- Писание и Предание протоиерей Михаил ДроновДокумент41 страницаПисание и Предание протоиерей Михаил ДроновКравченко ВаняОценок пока нет
- Иисус Христос в Восточном Православном Предании - Протопресвитер Иоанн МейендорфДокумент324 страницыИисус Христос в Восточном Православном Предании - Протопресвитер Иоанн МейендорфКравченко ВаняОценок пока нет
- Patrologia Kern PDFДокумент140 страницPatrologia Kern PDFДејан КрстићОценок пока нет
- PatrologijaДокумент166 страницPatrologijaagolovatiiОценок пока нет
- Sventsitskaya I S Tayinye Pisaniya Pervyh HristianДокумент138 страницSventsitskaya I S Tayinye Pisaniya Pervyh HristianAlexander DimitrichenkoОценок пока нет
- Мессианские места Ветхого Завета в экзегезе отцов Церкви (Юревич)Документ16 страницМессианские места Ветхого Завета в экзегезе отцов Церкви (Юревич)Анна ТютяеваОценок пока нет
- Священное Писание и Священное Предание православный взгляд мит. ИларионДокумент14 страницСвященное Писание и Священное Предание православный взгляд мит. ИларионКравченко ВаняОценок пока нет
- магистерская мельничукДокумент95 страницмагистерская мельничукTony KovsharОценок пока нет
- Архим. Киприан. Золотой Век Святоотеческой Писменности.Документ107 страницАрхим. Киприан. Золотой Век Святоотеческой Писменности.Eugene MartynovОценок пока нет
- Догматическое Богословие - протопресвитер Михаил ПомазанскийДокумент327 страницДогматическое Богословие - протопресвитер Михаил ПомазанскийКравченко ВаняОценок пока нет
- Тайные Писания Первых Христиан ( PDFDrive )Документ317 страницТайные Писания Первых Христиан ( PDFDrive )baldr1983Оценок пока нет
- КДА Автореферат версткаДокумент23 страницыКДА Автореферат версткаVolodymyr RomanenkoОценок пока нет
- Джеймс Норт - История Церкви (От дня пятидесятницы до нашего времени)Документ564 страницыДжеймс Норт - История Церкви (От дня пятидесятницы до нашего времени)Сергей Мотрикалэ100% (1)
- Arhim. Kiprian Kern - LiturgikaДокумент75 страницArhim. Kiprian Kern - LiturgikaComunità S.Donato di Como Chiesa OrtodossaОценок пока нет
- 8.1 Богословие ЛитургииДокумент649 страниц8.1 Богословие ЛитургииКонстантин ВинокуровОценок пока нет
- Lektsii Po Istorii Vostochnykh Khristianskikh TserkveyДокумент98 страницLektsii Po Istorii Vostochnykh Khristianskikh TserkveyПавел БорриттоОценок пока нет
- ВЗ-14 - Двенадцать пророковДокумент13 страницВЗ-14 - Двенадцать пророковgermenevtika100% (1)
- ВЗ-03 - Исход, Левит, Числа, ВторозакониеДокумент15 страницВЗ-03 - Исход, Левит, Числа, ВторозакониеgermenevtikaОценок пока нет
- КнигиДокумент1 страницаКнигиStefan BrankovskiОценок пока нет
- 2019 - Література та релігія PDFДокумент31 страница2019 - Література та релігія PDFKate PakОценок пока нет
- Apokrif Deyaniya ApostolovДокумент182 страницыApokrif Deyaniya ApostolovАлекс БлэкОценок пока нет
- Учебник по патрологии. МДА. 3 курсДокумент127 страницУчебник по патрологии. МДА. 3 курсРадољуб Даничић100% (1)
- Лекция 2Документ18 страницЛекция 2bragaru.vladОценок пока нет
- Как устроено богослужение Церкви. Третья ступень: Богослужение.От EverandКак устроено богослужение Церкви. Третья ступень: Богослужение.Оценок пока нет
- Брюс М. Мецгер. Канон Нового ЗаветаДокумент146 страницБрюс М. Мецгер. Канон Нового ЗаветаThavronОценок пока нет
- Gandry Obzor NTДокумент212 страницGandry Obzor NTАлександр ПавловскийОценок пока нет
- Patrologia SidorovДокумент244 страницыPatrologia SidorovНикола МарковићОценок пока нет
- Christian TheologyДокумент299 страницChristian Theology54txzvhknsОценок пока нет
- Великие Отцы Церкви о Материи и Теле Человека (Александрийская и Каппадокийская Школы) - Епископ Кирилл и Игумен Мефодий (Зинковские)Документ254 страницыВеликие Отцы Церкви о Материи и Теле Человека (Александрийская и Каппадокийская Школы) - Епископ Кирилл и Игумен Мефодий (Зинковские)Jakub GreśОценок пока нет
- Хортон Стенли Ред Систематическое БогословиеДокумент937 страницХортон Стенли Ред Систематическое БогословиеВадим РубахаОценок пока нет
- Eucharist K KernДокумент246 страницEucharist K KernVlado NedeskiОценок пока нет
- Bogoslovskoe Osmyslenie Istorizma Vethogo Zaveta Klyuchevye TemyДокумент12 страницBogoslovskoe Osmyslenie Istorizma Vethogo Zaveta Klyuchevye TemyNick RedОценок пока нет
- Biryukov D S Filosofskie Osnovania Neoarianstva Kandidatskaya Dissertatsia SPB 2007Документ191 страницаBiryukov D S Filosofskie Osnovania Neoarianstva Kandidatskaya Dissertatsia SPB 2007Анатолий КоробченкоОценок пока нет
- История Церкви.М. ПосновДокумент29 страницИстория Церкви.М. ПосновEugene MartynovОценок пока нет
- Методические основы изучения Священного ПисанияДокумент132 страницыМетодические основы изучения Священного ПисанияΗλεκτρονικά ΚαταστήματαОценок пока нет
- МАГИСТЕРСКАЯ ГотоваяДокумент104 страницыМАГИСТЕРСКАЯ ГотоваяNikita MironovОценок пока нет
- History of Christian Doctrine1 (История Христианского Учения)Документ165 страницHistory of Christian Doctrine1 (История Христианского Учения)Виталий ЕрмаковОценок пока нет
- Ириней Лионский. Против ЕресейДокумент674 страницыИриней Лионский. Против ЕресейPavel100% (1)
- Church History1Документ723 страницыChurch History1Сергей МотрикалэОценок пока нет
- Иванова - Трактат Аврелия АвгустинаДокумент26 страницИванова - Трактат Аврелия АвгустинаНиколай СамойловОценок пока нет
- Западное Христианство. Взгляд с Востока - Свящ. Максим КозловДокумент442 страницыЗападное Христианство. Взгляд с Востока - Свящ. Максим КозловvaclavinОценок пока нет
- Чудный Строй Православного Богослужения - Олег ШведовДокумент131 страницаЧудный Строй Православного Богослужения - Олег ШведовfeodosiyboldyrevОценок пока нет
- ActsДокумент467 страницActsZurabi SharashenidzeОценок пока нет
- Евхаристическая экклезиология о. Николая АфанасьеваДокумент8 страницЕвхаристическая экклезиология о. Николая АфанасьеваConstantinescu PetruОценок пока нет
- Леонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский. Полемические сочинения (2011)Документ269 страницЛеонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский. Полемические сочинения (2011)bobongoОценок пока нет
- Evangelie V Vethozavetnom Svyatilishe PDFДокумент75 страницEvangelie V Vethozavetnom Svyatilishe PDFgeorge-vinОценок пока нет
- Читаем Учительные и Исторические книги Ветхого Завета (Chitaem Uchitel'nye i Istoricheskie knigi Vethogo Zaveta)От EverandЧитаем Учительные и Исторические книги Ветхого Завета (Chitaem Uchitel'nye i Istoricheskie knigi Vethogo Zaveta)Оценок пока нет
- Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала»От EverandФилософия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала»Оценок пока нет
- Predstavlenia o Kriteriakh Vselenskogo Sobora V Vizantii V Pervoy Polovine XV V I Kontseptsia PentarkhiiДокумент19 страницPredstavlenia o Kriteriakh Vselenskogo Sobora V Vizantii V Pervoy Polovine XV V I Kontseptsia PentarkhiiПетр ПашковОценок пока нет
- Мясников И., чтец - Учение о границах Церкви в работах православных богословов парижской школы начала XX века (2017)Документ8 страницМясников И., чтец - Учение о границах Церкви в работах православных богословов парижской школы начала XX века (2017)Синтоист ЕвразиецОценок пока нет
- Garnak A Rannee Khristianstvo Tom 1 - 2001Документ656 страницGarnak A Rannee Khristianstvo Tom 1 - 2001WiedzminОценок пока нет
- Patrologija A.I.S.Документ176 страницPatrologija A.I.S.Никола МарковићОценок пока нет
- Лекция 4-5Документ12 страницЛекция 4-5bragaru.vladОценок пока нет
- Teoriya Iskupleniya V Religioznoy Filosofii S Franka I F RozentsveygaДокумент12 страницTeoriya Iskupleniya V Religioznoy Filosofii S Franka I F RozentsveygaSergio M.Оценок пока нет
- 6831-Текст статьи-8685-1-10-20211129Документ24 страницы6831-Текст статьи-8685-1-10-20211129babilonus12Оценок пока нет
- Скурат''-Патрологија оци 1-5 векаДокумент135 страницСкурат''-Патрологија оци 1-5 векаРадољуб ДаничићОценок пока нет
- Мессианские места Ветхого Завета в экзегезе отцов Церкви (Юревич)Документ16 страницМессианские места Ветхого Завета в экзегезе отцов Церкви (Юревич)Анна ТютяеваОценок пока нет
- Kirilo Jerusalimski-Mistagoške KatihezeДокумент176 страницKirilo Jerusalimski-Mistagoške KatihezepaleografijaОценок пока нет
- Fadey Bitovnickiy, Старец Фаддей Витовницкий, Старец Фаддей Витовницкий, Мир и радость в Духе СвятомДокумент104 страницыFadey Bitovnickiy, Старец Фаддей Витовницкий, Старец Фаддей Витовницкий, Мир и радость в Духе СвятомZoéОценок пока нет
- Точное изложение православной веры - преподобный Иоанн Дамаскин PDFДокумент164 страницыТочное изложение православной веры - преподобный Иоанн Дамаскин PDFYulik BudanОценок пока нет
- А.Осипов - С.Дяченко - Оккультизм в православной упаковке. Православный анализ учения Ольги АсаулякДокумент81 страницаА.Осипов - С.Дяченко - Оккультизм в православной упаковке. Православный анализ учения Ольги АсаулякivanwlupodaОценок пока нет
- Олесницкий М. - Нравственное Богословие - 2001Документ110 страницОлесницкий М. - Нравственное Богословие - 2001Emmett BrownОценок пока нет
- Учебник по патрологии. МДА. 3 курсДокумент127 страницУчебник по патрологии. МДА. 3 курсРадољуб Даничић100% (1)
- Katalog Rukopisej NeamtДокумент344 страницыKatalog Rukopisej NeamtgumenaiОценок пока нет
- Uchebnik LatinskogoДокумент236 страницUchebnik LatinskogoДејан КрстићОценок пока нет
- Авва Дорофей - Душеполезные ПоученияДокумент211 страницАвва Дорофей - Душеполезные ПоученияNarek2OOOОценок пока нет
- Игумен Никон (Воробьев) - Письма о Духовной ЖизниДокумент623 страницыИгумен Никон (Воробьев) - Письма о Духовной ЖизниLungu IonОценок пока нет
- Архиепископ Аверкий (Таушев), Иеромонах Серафим (Роуз) - Апокалипсис, 2008Документ271 страницаАрхиепископ Аверкий (Таушев), Иеромонах Серафим (Роуз) - Апокалипсис, 2008Olga Jamba100% (1)
- Ob Uverennosti V SpaseniiДокумент109 страницOb Uverennosti V SpaseniiTatiana Kirillovna IvОценок пока нет
- 32641400Документ14 страниц32641400Slobodan TrajkovićОценок пока нет
- Dejanija Vselenskih Sobo Ov Tom 7Документ445 страницDejanija Vselenskih Sobo Ov Tom 7Yulik BudanОценок пока нет
- Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского - 2002 PDFДокумент545 страницПосмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского - 2002 PDFMax DocОценок пока нет
- Основы православия - протопресвитер Фома ХопкоДокумент199 страницОсновы православия - протопресвитер Фома ХопкоекатеринаОценок пока нет
- Святитель Игнатий (Брянчанинов) - Песнь под сенью Креста - 2014Документ66 страницСвятитель Игнатий (Брянчанинов) - Песнь под сенью Креста - 2014herihogОценок пока нет
- Вариативная часть - Пастырское душепопечениеДокумент8 страницВариативная часть - Пастырское душепопечениесвященник Евгений КукушкинОценок пока нет
- Агриков. Т. Пастырское богословие. I Том.Документ149 страницАгриков. Т. Пастырское богословие. I Том.AntonyKamenchukОценок пока нет
- Протоиерей Родион Путятин - Проповеди PDFДокумент173 страницыПротоиерей Родион Путятин - Проповеди PDFdorin_jambaОценок пока нет
- Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие - митрополит Иларион (Алфеев) -3 PDFДокумент624 страницыТаинство веры. Введение в православное догматическое богословие - митрополит Иларион (Алфеев) -3 PDFAlexanderОценок пока нет
- Сурова Л. В. МЕТОДИКА ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИДокумент39 страницСурова Л. В. МЕТОДИКА ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИDavid JovkovskiОценок пока нет
- Arhim. Kiprian Kern - LiturgikaДокумент75 страницArhim. Kiprian Kern - LiturgikaComunità S.Donato di Como Chiesa OrtodossaОценок пока нет
- Avva DorofeiДокумент223 страницыAvva DorofeiAlexandru MirzaОценок пока нет
- BT 175Документ358 страницBT 175Ivan BulykoОценок пока нет
- Бенедикт Xvi-отцы Церкви. От Климента Римского До Св. Августина (Современное Богословие) -2012Документ198 страницБенедикт Xvi-отцы Церкви. От Климента Римского До Св. Августина (Современное Богословие) -2012Rados Mirkovic100% (1)
- Рождество Христово. Антология святоотеческих проповедейДокумент15 страницРождество Христово. Антология святоотеческих проповедейNikeaОценок пока нет