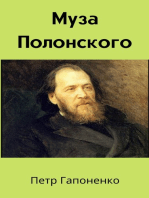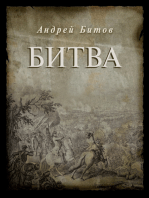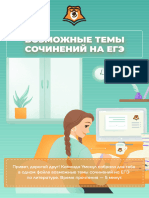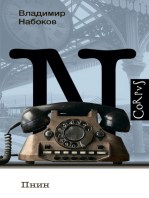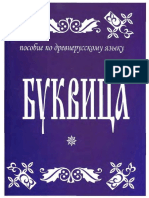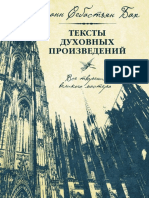Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Роза Станкевич «А хто там ідзе» Я. Купала
Роза Станкевич «А хто там ідзе» Я. Купала
Загружено:
Никитoss ,0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
40 просмотров6 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
40 просмотров6 страницРоза Станкевич «А хто там ідзе» Я. Купала
Роза Станкевич «А хто там ідзе» Я. Купала
Загружено:
Никитoss ,Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 6
ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
Роза Станкевич (Пловдив Болгария)
«А ХТО ТАМ ІДЗЕ?» Я. КУПАЛА. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ БОЛГАРСКОГО И РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ
В одном из своих лучших произведений «А хто там ідзе?» Янка
Купала проявил себя исключительным художником поэтической
архитектоники и фоники. Умело используя звукозапись, он показывал
нарастающее движение мыслей и чувств, накаляющихся до предела. Для
того чтобы показать массовость и сплоченность идущих белорусов, поэт
прибегает к ассонансу, что создает определенное зрительное и слуховое
воздействие. Из множества слов синонимического ряда, указывающих
на размер, Купала выбирает именно определение «огромная», добавив к
нему еще увеличительный суффикс «ист»:
А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
Беларусы.
Поняв и мысль, и чувства автора, Н. Вылчев находит довольно
адекватное сравнение:
Кой иде там? Какви са тези хора,
стълпени като облак под простора?
Белоруси.
Сравнение болгарского перевода с русским переводом Максима
Горького позволит нам проникнуть в особенности индивидуальной
переводческой манеры. В переводе Максима Горького эта строфа звучит
так:
А кто там идет по болотам и лесам
Огромной такой толпой?
Белорусы.
Оба переводчика заменяют повторение риторического вопроса «А
хто там ідзе?», как бы «расширяя», «конкретизируя» его. М. Горький
заменяет его словосочетанием «по болотам и лесам», стремясь
подчеркнуть национально-традиционные истоки образа, идя
утвердившимся представлением русского читателя о белорусах.
Со своей стороны Н. Вылчев старается в большей мере быть
ближе к оригиналу, повторяя суть купаловского вопроса, придавая ему
более конкретную форму. У Купалы уже в первой строфе, как и во всех
остальных, вопрос – обобщенный, философский, образ – метафоричный,
объемный. В нем нет ни малейшего намека на конкретность, ни малей-
шего указания на национальную принадлежность. Такую функцию вы-
полняет ответ – короткий и точный – «Беларусы». Этим поэт словно
подчеркивает, что угнетенным может быть не только белорусский
народ. Национальное и социальное у Купалы сливаются так тесно, что
нельзя провести между ними какую-либо грань.
Вторая строчка строфы в обоих переводах тоже
модифицированная. Ни в русском, ни в болгарском языке нет точного
эквивалента слову «грамада». В русском переводе оно передано словом
«толпа», что далеко от семантики оригинала. В «грамадзе» люди
объединены общей целью, спаяны единой волей. Определение-эпитет в
переводе М. Горького совпадает с оригиналом – «огромной такой», но
следующее за ним слово «толпа» сужает, обедняет купаловский образ.
Сравнение, которое вводит Н. Вылчев – «като облак под простора»
(словно облако под простором), – можно считать, как думается нам,
поэтической находкой болгарского переводчика. Возникает ощущение
многочисленности, создается почти тот же осязаемо-зрительный образ
идущих белорусов, передается почти тот же музыкальный рисунок.
Переводчик сумел найти удачное сочетание аллитерации (повторение
согласных «л», «р», «п») с ассонансом (накопление гласных «о», «и»,
«а»).
Воссоздавая вторую строфу, оба переводчика отступают от
образов оригинала. Вероятно, они посчитали, что для их читателей не
совсем понятным будет купаловское несение кривды «на нагах у лапцях»
(на ногах в лаптях), и оба опускают его, так же как и «на руках у крыві»
(на кровавых руках). М. Горький заменяет его своим «на худых руках», а
у Вылчева этот образ и вовсе отсутствует: «прегърбени, съсухрени и
боси» (сгорбленные, высохшие и босые). Эти переводческие замены
приводят к потере художественно-эмоциональной силы общего
воздействия, к потере художественной правды белорусского
подлинника.
Четвертая строфа в болгарском переводе Н. Вылчев звучит так:
А кой от дълъг сън ги е събудил?
с тегло на рамо кой ги е покудил?
Злата мъка.
В переводе М. Горького:
А кто же это их, не один миллион,
Кривду несть научил,
разбудил их сон?
Нужда, горе.
В переводе Н. Брауна:
Кто это их, не один миллион,
Кривду несть научил,
разбудил их сон?
Беда, горе.
Каждый переводчик пошел своим путем. Н. Вылчев изменил
купаловское «не адзін мільён» (не один миллион) на «от дълъг сън» (от
долгого сна); «крыўду несць наўчыў» (кривду нести научил) – на «с
тегло на Рамо» (с ношею тяжкой на плечах); «разбудзіў ix сон»
(разбудил их сон) – на «ги е прокудил» (их прогнал); «бяда, гора» (беда,
горе) – на «злата мъка» (злая мука, нужда). Меняя семантическое
значение, болгарский переводчик по-своему осмысливает и
функционально воспроизводит внутреннюю логику образов подлинника.
Русские переводчики постарались сохранить лексику оригинала,
находя соответствующие словесные аналоги. Они расходятся только в
осмыслении купаловского образа «бяда, гора» (Н. Браун воссоздает его
как «беда, горе» а М. Горький – «нужда, горе»).
Кому из переводчиков удалось избежать внешнего правдоподобия
и передать существенные черты действительности оригинала?
Специфика переводческого труда заключается в том, что если поэт в
ответе за себя, то переводчик – за себя и за автора. Это суждение станет
предпосылкой дальнейших рассуждений об этике перевода.
Современная наука о творческом процессе, о психологии
творчества рассматривает проблемы художественного перевода
параллельно с проблемами оригинального творчества, как равноправные
области художественной деятельности индивидуума. Создавая свое
произведение, автор, во-первых, реагирует на действительность,
выражает свое субъективное отношение к ней. Во-вторых, посредством
своего произведения он приобщает к личному идеалу других людей. В
этом и кроется огромная сила воздействия искусства. Что касается
искусства перевода, то здесь можно сказать, что как бы ни отличались
его побудительные мотивы от тех, которые вызвали к жизни
оригинальное произведение, – суть все же аналогична. Переводчик как
мастер художественного слова стремится выразить то, что постиг автор,
ощутить, что победа автора над действительностью может стать и его
победой, и его духовным достижением. Если автор, реагируя на
действительность, создает свой оригинал, то переводчик,
руководствуясь созданной автором моделью, строит свой эстетический
эксперимент и посредством своего воображения реагирует на ту самую
действительность, которая для автора была не воображаемой, а
реальной.
В искусстве ничто не существует где-то, когда-то,
художественные образы всегда конкретно исторически обусловлены.
Слова, как мы уже убедились, – не столько элементы текста, сколько
элементы художественной структуры произведения. Они не просто
знаки, символы, их нельзя обособить от мира, к которому они
обращены. Белорусское слово «бяда» не всегда тождественно русскому
«беда», их фонетическое соответствие уводит переводчика в сторону от
конкретно-исторической обусловленности образа, от его социальной
сущности.
Слова, образы, как и все остальные элементы произведения, –
часть синтетического художественного целого. Такова подвижная шкала
весов воссоздания и задача каждого переводчика – уравновесить чаши
этих весов, подчиняясь диктату общего. Удалось ли болгарскому
переводчику подчинить «диктату общего», донести до своих читателей
не только отдельные элементы поэтики, стиля, композиции, а именно
синтетическое целое подлинника? Все стихотворение Я. Купалы
построено на риторических вопросах в восходящей градации, что
создает потрясающую контрастность тонов. Эта оригинальная
архитектоника как нельзя лучше иллюстрирует нарастающий накал
эмоций, создает широкое эпическое полотно исторического развития
национального самосознания белорусов. Только пять строф, состоящих
из обширных (из двух строк) вопросов и конкретных, как бы отлитых из
стали, ответов, создают широкую эпическую картину. В ней – вся
история, вся боль, все свободолюбивые стремления народа. Поистине,
как сказал М. Горький, «народный гимн белорусов»! Концентрация
поэтического материала настолько велика, что ее хватило бы не на пять
строф, а на целую героико-эпическую поэму.
В болгарском переводе особенно впечатляюще звучат строки
последней строфы:
Какво те искат – голи, глухи, слепи,
от този век премазани свирепо?
Поэт-переводчик нашел адекватное и смысловое, и звуковое
соответствие купаловскому обороту «пагарджаным век» (униженным
век). Не следуя точь-в-точь синтаксическим особенностям, он находит
поистине творческую замену – «промазали свирепо» (раздавленные
жестоко), раскрывая при этом образ, углубляя его, усиливая его
эмоционально-художественное восприятие. Трудно представить на
другом языке эту сюжетно развернутую, развивающуюся картину и
поэтому надо отдать должное болгарскому переводчику. Приложив
возможный максимум усилий, он сумел донести до своего читателя
неповторимый купаловский стих. В переводе Н. Вылчева сохранена та
же композиция, те же риторические вопросы и короткие ответы, тот же
размеренный, как писал Уолтр Мэй, «как удар барабанщика ритм».
И только в конце, кульминация – «Людзьмі звацца!» (называться
людьми) – не совсем удалась переводчику: «Дa са хора» (быть, стать
людьми). У Купалы не «стать людьми», потому что они люди, а «зваться
людьми». На свет целый «сваю крыўду» (свое несчастье, обиду)
показать хотят белорусы, они, до сих пор угнетенные, «сляпыя i глухія»,
хотят добиться всеобщего признания, быть равными среди равных.
Именно к этому стремятся они, идущие такой «агромністай грамадой».
Сопоставительный анализ белорусского подлинника с его
болгарским (и русскими) воссозданием дает представление и о
переводческой манере Н. Вылчева. Он творчески подошел к
поставленной задаче: не просто копировал условные словесные знаки
исходного текста, а воссоздавал в творческом переводе его объективную
действительность средствами своего языка. В целом переводчик
стремился к адекватной передаче и конкретных частных элементов
стиля (строфики, композиции, ритмики, не оставляя без внимания и
внутренние цезуры, которые играют несомненную роль в столь
лаконичной купаловской строке) и общих его признаков. Старался
находить компенсации непереводимым, трудным для воссоздания
компонентам образно-выразительной системы Купалы.
В переводе М. Горького встречаются словесные неадекваты,
ослаблены цезуры (в первой, пятой и тринадцатой строках они почти
утрачены), не выдержаны рифмовки. Несмотря на все, горьковское
перевыражение этого программного произведения Купалы оказалось
лучшим и в чем-то по-своему недостижимым для последующих
поколений переводчиков. Это признавали и М. Исаковский, и
В. Рождественский, и Н. Браун, позднее переводившие стихотворение
Купалы и пробовавшие, каждый по-своему, объяснить переводческую
удачу Горького.
Именно эту удачу М. Горького, эту своеобразную «переводческую
загадку» пытается объяснить по-своему и белорусский исследователь
А. Яскевич. Он рассуждает о ритмико-интонационных особенностях его
воссоздания, считая «важнейшей доминантой» тонально-мелодическую
основу подлинника. По его мнению, перевод Горького своим более
размеренным темпом, приобретая «некоторую прозаическую
окрашенность, приближается к размеренности белорусской речи»,
восполняет «эпическую весомость внешне столь безыскусных в
подлиннике строк».
Постичь и перевыразить художественное произведение, то, что
воздействует эстетически на читателя, это и есть настоящая
(эстетическая!) цель искусства перевода. Художественная
равноценность – это абсолютный критерий переводческой свободы. В
процессе воссоздания индивидуальность переводчика неизбежно
присутствует в его модификации авторской индивидуальности – это
естественное условие для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в
переводимое произведение. И если переводчик – творец, то любой
материал подчиняется творцу, в чем мы убедились, исследуя болгарский
перевод стихотворения Янки Купалы.
Вам также может понравиться
- Влахов.Флорин.Непереводимое в переводеДокумент177 страницВлахов.Флорин.Непереводимое в переводеOlzhas Ustemirov100% (1)
- Перич О. Вагнер и ДебюссиДокумент5 страницПерич О. Вагнер и ДебюссиНаталья БедоваОценок пока нет
- Rebel Hudozh Miry Romanov Mihaila Bulgakova 978-5-4458-2200-4Документ172 страницыRebel Hudozh Miry Romanov Mihaila Bulgakova 978-5-4458-2200-4OloloОценок пока нет
- Анализ рассказа В.НабоковаДокумент4 страницыАнализ рассказа В.НабоковаАндрейОценок пока нет
- Носина В символика музыки БахаДокумент33 страницыНосина В символика музыки БахаIngvar RognirОценок пока нет
- Vrubel - Blok 1Документ13 страницVrubel - Blok 1busurcaaniОценок пока нет
- Миленич слово хрДокумент6 страницМиленич слово хрЖарко МиленичОценок пока нет
- Vozvraschenie Odisseya I Poema Bludnyy Syn N Gumilyova Kak Poeticheskaya DilogiyaДокумент8 страницVozvraschenie Odisseya I Poema Bludnyy Syn N Gumilyova Kak Poeticheskaya DilogiyaAnaОценок пока нет
- Rol Graficheskoy Obraznosti Verbalnogo Komponenta Vizualnoy Poezii V Ee SemantizatsiiДокумент5 страницRol Graficheskoy Obraznosti Verbalnogo Komponenta Vizualnoy Poezii V Ee SemantizatsiiwtstrejxznОценок пока нет
- Glushhenko V - A - Slovo Kultura I Istoriya Uch - PosobieДокумент53 страницыGlushhenko V - A - Slovo Kultura I Istoriya Uch - PosobieПера ПерићОценок пока нет
- ХИСы - Памятка для учащихся -Документ14 страницХИСы - Памятка для учащихся -kamila abdullayevaОценок пока нет
- Bunin PerevodchikДокумент7 страницBunin PerevodchikЕгор ВолковОценок пока нет
- Русская музыкальная культура 19 вДокумент55 страницРусская музыкальная культура 19 вDaria kursovaОценок пока нет
- #Topic-Bunjak Attributes 2012Документ12 страниц#Topic-Bunjak Attributes 2012pbunjakОценок пока нет
- Propp V Ya Russkiy Geroicheskiy EposДокумент638 страницPropp V Ya Russkiy Geroicheskiy EposСемен КузнецовОценок пока нет
- Олег Гусев, Роман Перин - ПОТАЁННОЕ - 3Документ67 страницОлег Гусев, Роман Перин - ПОТАЁННОЕ - 3Calico JackОценок пока нет
- 100 ТЕМ СОЧИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НА ЕГЭДокумент7 страниц100 ТЕМ СОЧИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НА ЕГЭalinazhumabayeva2907Оценок пока нет
- Цветной слух в творчестве Римского-КорсаковаДокумент10 страницЦветной слух в творчестве Римского-КорсаковаcimbalistkaОценок пока нет
- трихотомия потенциальные слова окказионалДокумент5 страництрихотомия потенциальные слова окказионалLinuleaОценок пока нет
- S Chetverga Na Pyatnicu4Документ220 страницS Chetverga Na Pyatnicu4Xoomer NokiОценок пока нет
- Поздний час. БунинДокумент5 страницПоздний час. БунинЮлия ЧуриловаОценок пока нет
- Ekfrasis Nauchnaya Problema I Metodika Ee IssledovaniyaДокумент3 страницыEkfrasis Nauchnaya Problema I Metodika Ee IssledovaniyaАнтон ЧернецовОценок пока нет
- ნეკლ. სიტყვა და ტექსტი ფოლკლორშიДокумент5 страницნეკლ. სიტყვა და ტექსტი ფოლკლორშიpakiko unaОценок пока нет
- Tinianov-Sobre JlebnikovДокумент14 страницTinianov-Sobre JlebnikovericaОценок пока нет
- Арутюнова и Др - АДРЕСАЦИЯ ДИСКУРСАДокумент516 страницАрутюнова и Др - АДРЕСАЦИЯ ДИСКУРСАДарья БарашеваОценок пока нет
- Seminar 7 DerzhavinДокумент18 страницSeminar 7 DerzhavinЛия ДарлинОценок пока нет
- Живой как жизньДокумент75 страницЖивой как жизньIvan LvovОценок пока нет
- Бреслер Лекция 1 Литературный ПозитивизмДокумент22 страницыБреслер Лекция 1 Литературный Позитивизмd.loskytova07Оценок пока нет
- 3333 КУРСДокумент38 страниц3333 КУРСИслом ХусеновОценок пока нет
- Экзаменационные вопросы по курсу теория литературы (60) konecniyДокумент66 страницЭкзаменационные вопросы по курсу теория литературы (60) konecniySolmaz SultanliОценок пока нет
- Dante Bozhestvennaya Komediya 1967 OcrДокумент655 страницDante Bozhestvennaya Komediya 1967 Ocrа бббОценок пока нет
- Guennadi Aigui. "Antología de Poesía Rusa de Vanguardia"Документ157 страницGuennadi Aigui. "Antología de Poesía Rusa de Vanguardia"iván garcíaОценок пока нет
- 005. Г. Айги. Творцы будущих знаков PDFДокумент157 страниц005. Г. Айги. Творцы будущих знаков PDFБондарев ДмитрийОценок пока нет
- Bakhtin PPD PDFДокумент341 страницаBakhtin PPD PDFMarina LebedevaОценок пока нет
- Dissertaciya. Pogodina FinalДокумент159 страницDissertaciya. Pogodina FinalЛия ДарлинОценок пока нет
- Выразительность речиДокумент5 страницВыразительность речиКарина ТеркуловаОценок пока нет
- Borhes - Sobranie Sochineniy Tom Tretiy PDFДокумент706 страницBorhes - Sobranie Sochineniy Tom Tretiy PDFКристина РусиловичОценок пока нет
- Шекспир. Гамлет (Пер.И.В.Пешкова)Документ357 страницШекспир. Гамлет (Пер.И.В.Пешкова)alexbernoskyОценок пока нет
- Bukvica. Posobie Po Drevnerusskomu JazykuДокумент136 страницBukvica. Posobie Po Drevnerusskomu JazykuШакти МаОценок пока нет
- Бах И.С. - Тексты Духовных Произведений (Книги Жизни) - 2014Документ593 страницыБах И.С. - Тексты Духовных Произведений (Книги Жизни) - 2014Geg0% (1)
- Конспект Урока Музыки в 5 Классе Тема - «Музыкальная Живопись и Живописная Музыка»Документ5 страницКонспект Урока Музыки в 5 Классе Тема - «Музыкальная Живопись и Живописная Музыка»Евгения ДворцоваОценок пока нет
- Uspenskiy SlovoДокумент190 страницUspenskiy SlovoMr. MopsikОценок пока нет
- Колесов История РЯ в рассказах PDFДокумент192 страницыКолесов История РЯ в рассказах PDFQwerty 12345Оценок пока нет
- Sagaeva Zarina Hasanovna - Magistr - DissertaciyaДокумент80 страницSagaeva Zarina Hasanovna - Magistr - DissertaciyaAnahit GharibyanОценок пока нет
- Biblija 2005Документ168 страницBiblija 2005mirian pkhakadzeОценок пока нет
- Чигарёва Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времениДокумент139 страницЧигарёва Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времениAndrew GoretskyОценок пока нет
- статья Культурная коннотация и паремииДокумент6 страницстатья Культурная коннотация и паремииАлександраОценок пока нет
- Shklovsky Viktor O Teorii Prozy 1929 PDFДокумент265 страницShklovsky Viktor O Teorii Prozy 1929 PDFBiagio D'AngeloОценок пока нет
- 1vayskopf M Ya Syuzhet Gogolya Morfologiya Ideologiya KonteksДокумент685 страниц1vayskopf M Ya Syuzhet Gogolya Morfologiya Ideologiya Konteks[Ася Волошина] Ester BolОценок пока нет
- СЕМАНТИКА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ХОРВАТСКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКАХДокумент13 страницСЕМАНТИКА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ХОРВАТСКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКАХДокументи за Македонската историјаОценок пока нет
- Statya Iz ArabesokДокумент11 страницStatya Iz ArabesokDmitry TorshilovОценок пока нет
- Dialektika Zhenskogo I Muzhskogo V Poeticheskom Tsikle Krizis I Romane Stepnoy Volk Germana GesseДокумент17 страницDialektika Zhenskogo I Muzhskogo V Poeticheskom Tsikle Krizis I Romane Stepnoy Volk Germana GesseАнасатсия СлободчиковаОценок пока нет
- Russian Proverbs and Sayings (Русские пословицы и поговорки В. П. Аникина)Документ434 страницыRussian Proverbs and Sayings (Русские пословицы и поговорки В. П. Аникина)tim bartОценок пока нет
- практическое занятие по теме морфологДокумент7 страницпрактическое занятие по теме морфологHoneyyyОценок пока нет
- Golub I B Stilistika Russkogo YazykaДокумент209 страницGolub I B Stilistika Russkogo YazykaSaltanat MambaevaОценок пока нет
- Panihida RadonicaДокумент9 страницPanihida RadonicalilaorhidejaОценок пока нет
- История Азербайджана 7 классДокумент131 страницаИстория Азербайджана 7 классFitcup BakuОценок пока нет
- Абасова А. Азербайджанская музыка PDFДокумент8 страницАбасова А. Азербайджанская музыка PDFJasna VeljanovićОценок пока нет
- Bosch DCN Swapi Conference Software APIДокумент2 страницыBosch DCN Swapi Conference Software APIRoman GarabadjiuОценок пока нет
- Формирование образного мышления обучающихся на занятиях лепкой в школе искусствДокумент39 страницФормирование образного мышления обучающихся на занятиях лепкой в школе искусствMariana CarpОценок пока нет
- Тегеран 43 Вечная ЛюбовьДокумент4 страницыТегеран 43 Вечная ЛюбовьМухаммед МусаОценок пока нет
- Manual and Installation DHE Connect Touch PDFДокумент384 страницыManual and Installation DHE Connect Touch PDFsmijesniОценок пока нет
- ЛечениеДокумент1 страницаЛечениеMahmoud ShakerОценок пока нет