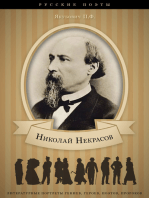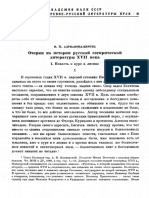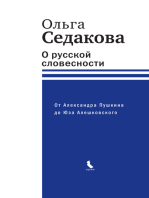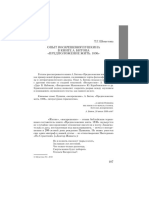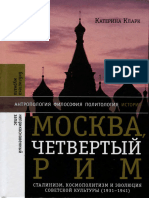Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Eshatologiya Prostranstva V Peterburgskom Tsikle Mitskevicha I Poeme Pushkina Mednyy Vsadnik PDF
Загружено:
Gabriella de Oliveira0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
38 просмотров8 страницОригинальное название
eshatologiya-prostranstva-v-peterburgskom-tsikle-mitskevicha-i-poeme-pushkina-mednyy-vsadnik.pdf
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
38 просмотров8 страницEshatologiya Prostranstva V Peterburgskom Tsikle Mitskevicha I Poeme Pushkina Mednyy Vsadnik PDF
Загружено:
Gabriella de OliveiraАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 8
Л. А. Мальцев, И.
Мяновская
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК 821.112.2
Л. А. Мальцев, И. Мяновская
ЭСХАТОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦИКЛЕ МИЦКЕВИЧА
И ПОЭМЕ ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
64 В центре сравнительного исследования петербургского цикла сти- 64
хотворений Мицкевича («Отрывок» III части поэмы «Дзяды», 1832) и
петербургской поэмы Пушкина «Медный всадник» (1833) — эсхатоло-
гическая образность двух текстов и «эксцентрический» (по Ю. М. Лот-
ману) тип петербургского пространства. Делается вывод о том, что
эсхатология Петербурга у Мицкевича связана с библейским мифом о
Вавилоне, его взгляд на петербургское наводнение характеризуется
условно-риторической отстраненостью. Авторская позиция в поэме
Пушкина определяется присутствием наблюдателя в пространстве
Петербурга и сопереживанием Евгению как жертве наводнения. Пушкин
совмещает государственно-апологетический взгляд на «Петра творе-
нье» и экзистенциально-трагическое переживание заброшенности «ма-
ленького человека» в петербургском пространстве.
Our comparative study focuses on Mickiewicz’s Saint Petersburg poems
(Part III of Dzyady, 1832) and Pushkin’s The Bronze Horseman (1833). We
explore the eschatological figurativeness of the two texts and the eccentricity,
as Yuri Lotman put it, of the Saint Petersburg space. We conclude that
Mickiewicz’s eschatology of Saint Petersburg is linked to the biblical myth of
Babylon. Nominal rhetorical detachment permeates his perception of the Saint
Petersburg flood. Pushkin’s position consists of two elements: the presence of
a bystander in the text and compassion for Evegenii who falls victim to the
flood. Pushkin combines an apologetic statist perception of ‘Peter’s own
creation’ with tragic existential realisation of the neglected state, in which the
‘little man’ lives in the Saint Petersburg space.
Ключевые слова: эсхатология, профетизм, «петербургский текст», про-
странство, Мицкевич, Пушкин.
Keywords: eschatology, prophetism, ‘Saint Petersburg text’, Mickiewicz, Push-
kin.
По утверждению Ю. М. Лотмана, «эксцентрический» Петербург в
силу своего окраинного положения обладает способностью порожде-
ния эсхатологических мифов [5, c. 209]. Лотмановская идея эсхатологи-
ческой эксцентрики города на Неве перекликается с восприятием Пе-
тербурга у В. Н. Топорова, поскольку «эсхатологическое» соотносимо с
«профетическим» (о симбиозе библейских жанров апокалипсиса и
пророчества пишет С. Н. Булгаков в книге «Апокалипсис Иоанна»
[1, c. 13]). По мнению В. Н. Топорова, Петербург обнаруживает «некото-
© Мальцев Л.А., Мяновская И., 2019
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.: Филология, педагогика, психология. 2019. № 4. С. 64—71.
Пространство в петербургском цикле Мицкевича и «Медном всаднике» Пушкина
рую предрасположенность к сфере профетического», Петербург —
«горячий город: сам пророческий жар прорвался в Петербурге и в ли-
тературу — в отличие от Москвы, которая в эти века, несомненно, не
была “горячей” и уступала Петербургу» [10, c. 51]. В этой образной ре-
презентации Петербурга читается аллюзия к Откровению Иоанна Бо-
гослова: «…о, если бы ты был холоден, или горяч» (Откр. 3: 15).
Идея Ю. М. Лотмана — В. Н. Топорова о Петербурге как «эсхатоло-
гическом» и «профетическом» городе находит соответствие в моногра-
фии о Мицкевиче польского исследователя В. Вайнтрауба, в которой
утверждается, что во времена Александра Первого Петербург был
«мощным магнитом мистиков и пророков всех видов» [15, s. 99]1. Миц-
65 кевич прибыл в российскую столицу в конце правления Александра 65
Первого, в ноябре 1824 г., через несколько дней после катастрофиче-
ского наводнения. Петербургским поляком, оказавшим влияние на
Мицкевича, был Юзеф Олешкевич, его земляк, художник, член масон-
ской ложи. В стихотворении «Олешкевич» Мицкевич пишет о нем как о
чудаковатом, расставшемся с кистью художнике, который «Библию и
Каббалу исследует и, даже говорят, общается с духами» [13, s. 302].
Приводимое В. Вайнтраубом воспоминание Ф. Малевского о про-
роческом даре Олешкевича мы можем считать вкладом в петербург-
ский «низовой» фольклор, «наводненческий» текст, по В. Н. Топорову
[10, с. 42], на котором зиждется высокая поэтическая традиция «петер-
бургского текста»: «Пан Юзеф имел странные предчувствия, согласно
английской поговорке, он видел тень, которую бросают перед собой
события будущего… За несколько дней перед катастрофой он предска-
зал большое наводнение, произошедшее в Петербурге 7 ноября 1824 г.:
“Нева — прекрасная река, но слишком ей доверять не стоит. Если она
скоро не замерзнет, с ней может быть большая беда”» [15, s. 108]. Олеш-
кевич как герой стихотворения Мицкевича является, по В. Вайнтраубу,
«петербургским Иеремией» [15, s. 206], а Петербург — «новым Вавило-
ном», для которого, как и для древнего Вавилона, опасность исходит со
стороны моря: «Устремилось на Вавилон море; он покрыт множеством
волн его» (Иер. 51: 42).
Образ Вавилона-Петербурга появляется в стихотворении Мицкеви-
ча «Пригороды столицы» в виде фантастического «чуда света», мираж-
ного города, образованного дымом тысячи печей Петербурга. В вооб-
ражении поэта он уподобляется знаменитым висячим садам Семира-
миды в Вавилоне, а также миражам, предстающим взорам странников в
пустыне и в море. Другой библеизм Мицкевича взят из книги Иова, в
которой говорится, что Бог «затворил море воротами, когда оно ис-
торглось, вышло как бы из чрева» (Иов. 38: 8). В стихотворении «Олеш-
кевич» происходит противоположное событие-катастрофа: вихри
«сняли ее [волны] оковы» [13, s. 304]. Образ «снятых» оков соотносится с
метеорологической зарисовкой несвоевременного осеннего ледохода
Невы. По этому поводу Пушкин в примечаниях к поэме «Медный
всадник» упрекает Мицкевича в неточности: «Мицкевич прекрасными
1 Перевод с польского здесь и далее наш.
Л. А. Мальцев, И. Мяновская
стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению,
в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только,
что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта
льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского
поэта» [9, т. 2, c. 184]. Петербург у Мицкевича трудно соотносим с ре-
альным Петербургом, это «самый отвлеченный и умышленный город
на всем земном шаре» [4, c. 101], если применить здесь цитату из «Запи-
сок из подполья» Достоевского. Действие петербургского цикла Миц-
кевича происходит зимой, в чем есть своя символическая логика, одна-
ко она не совпадает с календарными реалиями осеннего Петербурга,
который увидел Мицкевич в ноябре 1824 г.
66 О метафоре зимы как ключе к стихотворению Мицкевича «Дорога в 66
Россию» пишет М. Зелиньская, справедливо подмечая, что поэтический
образ России и Петербурга мало соответствует реальной поездке не
только с метеорологической, но и с географической точки зрения, так
как в Петербург Мицкевич ехал не через коренную Россию, а через
Курляндию. Образ заснеженных полей, пишет исследовательница, вы-
зывает исторические ассоциации с наполеоновским походом на Рос-
сию: «Под покровом белого моря мы можем воображать гробы фран-
цузской армии» [16, s. 78]. В связи с этим «Дорога в Россию» интертек-
стуально отсылает к пушкинским политическим стихотворениям «Кле-
ветникам России» и «Бородинская годовщина», см., напр.: «Забыли
русский штык и снег, / Погребший славу их в пустыне» [9, т. 1, c. 501].
Стихотворение Мицкевича «Памятник Петру Великому», в наи-
большей степени соотносимое с поэмой «Медный всадник», в свою
очередь, вносит, по мнению М. Зелиньской, хронологическо-календар-
ный диссонанс в петербургский цикл польского поэта: «Почему исчез-
ла зима и идет дождь?» [16, s. 98]. С хронологией связана и другая за-
гадка стихотворения, касающаяся инкогнито русского поэта, который
стоит с польским поэтом под одним плащом возле памятника Петру
Великому. Исследовательница считает более вероятной в этой роли
фигуру поэта-декабриста Рылеева, с которым Мицкевич встречался как
раз в конце 1824 г., но учитывает и компромиссную версию: возможно,
это был «собирательный образ, который нельзя не отождествить ни с
одной конкретной персоной» [16, s. 100]. Присутствие Пушкина в сти-
хотворении «Памятник Петру Великому» и в целом в петербургском
цикле Мицкевича определено тем, что именно Пушкин — как «неиз-
бежный другой» [2] для польской культуры — дал поэтический ответ
на вызов Мицкевича.
«Медный всадник» написан годом позже петербургского цикла
Мицкевича, ставшего катализатором замысла «петербургской повести»
Пушкина. Чеслав Милош следующим образом оценил результат этого
заочного поэтического диалога: «”Отрывок” можно назвать обобще-
нием польского восприятия России в XIX веке, и Джозеф Конрад, ко-
нечно, читавший поэму, словно строка в строку повторил ее содержа-
ние в некоторых произведениях, например “На взгляд Запада”. “Отры-
вок” Мицкевича подвигнет Пушкина написать ответ, результатом чего
Пространство в петербургском цикле Мицкевича и «Медном всаднике» Пушкина
будет шедевр “Медный всадник”… в котором Пушкин пытался пере-
дать свою любовь к городу и сложность своих чувств — восторга и стра-
ха — по отношению к Петру как образцовому правителю» [14, s. 262].
При анализе поэмы «Медный всадник» исследователи (см., напр.,
[5—7]) уделяли внимание ее связям с библейской эсхатологией, что
определено такими ключевыми лексемами, как «конь», «всадник»,
«бледный (день)», «лев», «зверь», отсылающими к образам Откровения
Иоанна Богослова. Однако недостаточно внимания уделено проблеме
сравнения эсхатологических образов в поэме Пушкина и цикле Мицке-
вича. Например, И. В. Немировский, верно замечая, что «Пушкин со-
знательно убирает все, что может навести на сопоставление Петербурга
67 с Вавилоном» [7], проходит мимо очевидного расхождения с Мицкеви- 67
чем, в петербургском цикле которого аналогия Петербург — Вавилон,
наоборот, является «стержнем» эсхатологической образности.
Основным компаративным принципом восприятия петербургского
пространства является высокая степень топографической абстрактно-
сти городских эсхатологических образов у Мицкевича при топографи-
ческо-метеорологической конкретизации соответствующих образов в
поэме Пушкина. Это различие свидетельствует о принадлежности
Пушкина и Мицкевича к двум противоположным творческо-психоло-
гическим типам поэтов. В стихотворении 1834 г. Пушкин неоднозначно
охарактеризовал Мицкевича: «Он вдохновен был свыше / И свысока
взирал на жизнь» [9, т. 1, c. 528]. Если лексема «вдохновенный» свиде-
тельствует о наивысшей оценке, данной Мицкевичу русским поэтом, то
характеристика «свысока взирал на жизнь» не лишена иронического
оттенка, возможно, соотносимого с «польскостью», охарактеризованной
в стихотворении «Клеветникам России» с помощью формулы «кичли-
вый лях» [Там же, c. 500], которая отражает негативный стереотип по-
ляка в русской культуре [11, с. 10]. Ирония просматривается также в
цитированном выше примечании Пушкина: «Мицкевич прекрасными
стихами описал день…», — при сопоставлении строк примечания со
словами основного текста: «Граф Хвостов, / Поэт, любимый небеса-
ми, / Уж пел бессмертными стихами / Несчастье невских берегов»
[9, т. 2, c. 181]2. Сравнение Мицкевича и Хвостова, поэтов, конечно,
несопоставимых по поэтическому дару, является, возможно, язвитель-
ным упреком, адресованным польскому собрату по перу.
Пушкинская характеристика Мицкевича «свысока взирал на
жизнь» соотносится не только с биографическим образом польского
поэта, но и с поэтическим образом России и Петербурга, представлен-
ным в анализируемом цикле Мицкевича. Она соответствует поэтиче-
скому субъекту этих стихотворений, не только «свысока взирающему
на жизнь», но и достаточно рассеянному, не вникающему в детали, в
которых, как известно, часто и заключается суть. Известно, что в такой
невнимательности к деталям Пушкин нередко упрекал не только Миц-
кевича, но также и его героев, например в повести «Дубровский»: «Ма-
2 Курсив здесь и далее наш.
Л. А. Мальцев, И. Мяновская
рия Кирилловна… не путалась шелками, подобно любовнице Конрада,
которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком»
[9, т. 3, c. 176].
В стихотворении «Олешкевич», содержащем пророчество о гряду-
щем петербургском наводнении, наблюдатель Мицкевича видит об-
щий план бедствия, воспринимает его сверху, «свысока», но не здесь и
сейчас. И напротив, точка зрения наблюдателя в поэме «Медный всад-
ник» максимально сближена с точкой зрения участника событий Евге-
ния, поэтому наблюдатель реалистически достоверно подмечает ра-
курс (сидя «на звере мраморном верхом» в точке Сенатской площади,
максимально удаленной от Невы, Евгений видит всадника, который
68 был «обращен к нему спиною») и улавливает направление взгляда Ев- 68
гения — на один из островов, где находилась разрушаемая морем хи-
жина Параши. Понятно, что это можно заметить только при ближай-
шей перспективе, отсутствующей у Мицкевича.
В связи с анализируемым отрывком «Медного всадника» обращает
на себя внимание связанный с Мицкевичем пушкинский межтекстовой
параллелизм, ср.: «На звере мраморном верхом, / Без шляпы, руки сжав
крестом, / Сидел недвижный, страшно бледный / Евгений» [8, т. 2,
c. 178] и пушкинский перевод из вступления к поэме Мицкевича «Ко-
нрад Валленрод»: «С другой, покрытый шишаком, / В броне закован-
ный, верхом, / На страже немец, за врагами, / Недвижно следуя глаза-
ми, / Пищаль с молитвой заряжал» [9, т. 1, c. 417]. Через соположение
текстов открывается фантастический план интерпретации «навод-
ненческого текста»: в этом измерении Евгений — не жертва, а воин
Петра и «крестоносец» («руки сжав крестом»), подобный рыцарю-
тевтону из поэмы Мицкевича. Главное отличие двух приведенных от-
рывков — в отсутствии головного убора Евгения, что подчеркивает от-
сутствие его статуса, потерю им места в существующей социальной
иерархии.
«Петербургские тексты» Пушкина и Мицкевича различаются не
только по степени конкретности — абстрактности изображаемого, но и
в сущности идеологических позиций двух поэтов. Поэма «Медный
всадник» основывается на единстве апологического и трагического ви-
дения истории Петербурга, тогда как в позиции Мицкевича доминиру-
ет осуждение Петербурга, проявляющееся в едкой иронии и сарказме.
Разница идеологических оценок отражается в разнонаправленной фо-
кусировке внимания Пушкина и Мицкевича. Пушкин апологетически
кратко пишет о военных парадах на Марсовом поле: «Люблю воин-
ственную живость / Потешных Марсовых полей...» [9, т. 2, c. 174]. Миц-
кевич посвящает демонстрации военной мощи Российской империи
большое сатирическое стихотворение «Смотр войск». Но заканчивается
оно «кодой», демонстрирующей амбивалентное решение Мицкевичем
русской темы: «Ах, жаль мне тебя, бедный славянин! — / Бедный
народ! Жаль мне твоей доли, / Один знаешь только героизм — неволи»
[13, s. 299]. Двукратно звучащая здесь польская лексема жаль (żal) соче-
тает в себе противоположные и даже несовместимые чувства — способ-
Пространство в петербургском цикле Мицкевича и «Медном всаднике» Пушкина
ность к состраданию и едкую иронию, доходящую до сарказма. Образ
«бедного славянина» воспринимается Мицкевичем не без сочувствия,
но пространство Петербурга всегда остается для поэта чужим, оно вы-
зывает исключительно враждебные эмоции. Кроме того, Петербург у
Мицкевича предстает денационализированным пространством, анало-
гом вавилонской башни, не позволяющим судить, по мнению поэта, о
характере титульной нации.
Фокусировка внимания резко меняется в посвященном петербург-
скому наводнению стихотворении «Олешкевич», в котором гумани-
тарный аспект занимает меньшее место, чем в стихотворении «Смотр
войск». Здесь Мицкевич лишь вскользь пишет о «ничтожных поддан-
69 ных» («nikczemni poddani») — простых «маленьких» людях, которые бу- 69
дут принесены в жертву провиденциальному плану истории: «Эти в
низких домиках ничтожные подданные / Сначала за него [монарха] бу-
дут наказаны; / Потому что молния, когда в мертвую бьет природу, /
Начинает с вершины, с горы и башни, / Но среди людей сначала бьет
вниз / И по наименее виноватым раньше ударит…» [13, s. 304].
Противоположная оценке Мицкевича идейно-эмоциональная оцен-
ка событий наводнения в поэме Пушкина связана с местонахождением
в пространстве: это взгляд не «свысока», а изнутри события. Основную
инстанцию поэмы Пушкин видит в «маленьком», «никчемном» челове-
ке, совмещающем в себе смирение, бунт и провидческое начало, прояв-
ляющееся в момент, когда в нем «прояснились страшно мысли» [9, т. 2,
с. 182]. «Маленький человек» противопоставлен здесь сверхчеловечес-
кому началу Медного всадника, называемого не иначе как «властелин
судьбы» [Там же], что в пушкинской системе координат является более
высокой ступенью сверхчеловека, чем «властители дум» [9, т. 1, c. 317]
Байрон и Наполеон из стихотворения «Море». Знаменательно, что
сходный порыв к сверхчеловечности не был чужд поэзии Мицкевича —
это проявилось в написанной в тот же период, что и петербургский
цикл, «Большой импровизации» из третьей части поэмы «Дзяды», где
Конрад обращается к Богу с гордым предложением заключить союз-
завет, предоставить поэту Божественную «власть над душами», имея в
виду то, что эта власть больше власти «пророков, властителей душ»: «Я
хочу иметь власть, какой Ты обладаешь, / Я хочу душами владеть, как
Ты ими владеешь» [13, s. 162].
Таким образом, объектом идолопоклонства и отождествления с Бо-
жеством может быть не только государственная власть, но и поэтиче-
ский гений. Эта тема разворачивается в последующей судьбе Мицкеви-
ча, связанной с его участием в религиозно-мистическом «Круге Божьего
Дела» Анджея Товяньского. В этой связи симптоматично замечание
Герцена в «Былом и думах» по поводу того преклонения, каким был
окружен Мицкевич среди своих соотечественников: «Они подходили к
нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговея, иные целовали в
плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви,
потому что принимал их с большим laisser-aller (непринужденностью
(фр.))» [3, c. 264].
Л. А. Мальцев, И. Мяновская
Для Пушкина главное — не тема абсолютной власти сверхчеловека
(монарха или поэта), а сознание «никчемного» и «наименее виновато-
го» (используя формулы Мицкевича) человека. Точка зрения Евгения,
сознающего свое ничтожество перед могуществом стихии, с одной сто-
роны, и власти — с другой, близка точке зрения библейского Иова.
С пушкинской идейной установкой связана уникальная «простран-
ственная композиция» поэмы, о которой верно пишет В. Ф. Шубин:
«Отлитый в бронзе Петр всем своим гордым и невозмутимым видом,
повелительным жестом, словно усмиряющим стихию, вселял уверен-
ность и надежду в душу Евгения; так, на наш взгляд, казалось, а точнее
говоря, хотелось герою. И только потом, после трагедии, Евгений по-
70 нял, что Петр был безучастен к его переживаниям и опасениям» 70
[12, c. 143]. Этот амбивалентный смысл определен семантикой петер-
бургского пространства в поэме Пушкина: Евгений изначально чув-
ствует себя достаточно уверенно и надежно «за спиной» Петра, но, по-
скольку Медный всадник повернут к нему «спиной», Евгений вдруг
осознает себя оставленным на произвол судьбы. В чувстве оставленно-
сти, брошености в отчужденном мире — источник петербургского оте-
чественного экзистенциализма, связанного с таким знаковым текстом,
как «Записки из подполья» Достоевского. Оба смысловых плана — гос-
ударственно-апологетический и экзистенциально-трагический — со-
существуют на равных правах в поэме «Медный всадник» Пушкина,
образуя его диалогическое поле.
Список литературы
1. Булгаков С. Н. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования).
Париж, 1948.
2. Венцлова Т. Пушкин как неизбежный «другой» // Иностранная литера-
тура. 2009. № 4. С. 267—271.
3. Герцен А. И. Соч. : в 4 т. М., 1988. Т. 2.
4. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1973. Т. 5.
5. Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города //
Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 208—220.
6. Немировский И. В. Библейская тема в «Медном всаднике» // Русская лите-
ратура. 1990. № 3. С. 3—17. URL: http://www.philology.ru/literature2/nemirov
sky-90.htm. (дата обращения: 19.06.2019).
7. Немировский И. В. Зачем был написан «Медный всадник» // НЛО. 2014.
№ 2 (126). URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2014/126/20n.html (дата обраще-
ния: 19.06.2019).
8. Перзеке А. Б. Эсхатология поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» //
Культура народов Причерноморья. 2006. № 92. С. 11—14. URL: http://dspace.
nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36722/03-Perzeke.pdf?sequence=1 (дата
обращения: 19.06.2019).
9. Пушкин А. С. Соч. : в 3 т. М., 1985—1987.
10. Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избр. тр. СПб.,
2003.
11. Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005.
12. Шубин В. Ф. К топографии поэмы «Медный всадник» // Временник
Пушкинской комиссии. Л., 1988. Вып. 22. С. 142—149.
Пространство в петербургском цикле Мицкевича и «Медном всаднике» Пушкина
13. Mickiewicz A. Dzieła. Dramaty : w 17 t. Warszawa, 1999. T. 3.
14. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków, 1993.
15. Weintraub W. Poeta i Prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa,
1988.
16. Zielińska M. Polacy. Rosjanie. Romantyzm. Warszawa, 1998.
Об авторах
Леонид Алексеевич Мальцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта, Россия.
E-mail: lamaltsev23@mail.ru
71 Иоанна Мяновская — д-р филол. наук, проф., Университет им. Казимира 71
Великого, Быдгощ, Польша.
E-mail: miano@wp.pl
The authors
Prof. Leonid A. Maltsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.
E-mail: lamaltsev23@mail.ru
Prof. Joanna Mianowska, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland.
E-mail: miano@wp.pl
Вам также может понравиться
- Александр Блок. Pro Et Contra (Русский Путь) - 2004Документ716 страницАлександр Блок. Pro Et Contra (Русский Путь) - 2004Peter MikhailovОценок пока нет
- Творческий путьДокумент12 страницТворческий путьBelal AL QaisiОценок пока нет
- Duel I Smert Pushkina V Russkoy Poezii HH VДокумент9 страницDuel I Smert Pushkina V Russkoy Poezii HH VLjiljanaОценок пока нет
- Пример исследкиДокумент16 страницПример исследкиЗоя ПятоваОценок пока нет
- «Петербургский текст» и русский символизмДокумент13 страниц«Петербургский текст» и русский символизмanna mariaОценок пока нет
- Летопись Жизни и Творчества А. С. Пушкина. Т. 3, 1999Документ624 страницыЛетопись Жизни и Творчества А. С. Пушкина. Т. 3, 1999tarhovdmitrijОценок пока нет
- Tsvetaeva Sikhotvoreniya I Poemy 1990 OcrДокумент822 страницыTsvetaeva Sikhotvoreniya I Poemy 1990 OcrIlya BernsteinОценок пока нет
- Vladimir Toporov, The Petersburg Text of Russian LiteratureДокумент614 страницVladimir Toporov, The Petersburg Text of Russian LiteratureMarina VraciuОценок пока нет
- UntitledДокумент13 страницUntitledDmitrijОценок пока нет
- Ekfrasis Nauchnaya Problema I Metodika Ee IssledovaniyaДокумент3 страницыEkfrasis Nauchnaya Problema I Metodika Ee IssledovaniyaАнтон ЧернецовОценок пока нет
- 1Документ643 страницы1673550464Оценок пока нет
- Itogovaya - KR 2 2Документ9 страницItogovaya - KR 2 2AnastasyaОценок пока нет
- UntitledДокумент13 страницUntitledKateОценок пока нет
- PDFДокумент6 страницPDFAlexis SchavelevОценок пока нет
- «Граф Нулин» и граф РостопчинДокумент384 страницы«Граф Нулин» и граф РостопчинGabriella de Oliveira SilvaОценок пока нет
- Ob Istochnikah Obraznogo Opredeleniya A S Pushkina Kak Solntsa PoeziiДокумент19 страницOb Istochnikah Obraznogo Opredeleniya A S Pushkina Kak Solntsa PoeziiMaria DidorenkoОценок пока нет
- москва петушкиДокумент14 страницмосква петушкиakmalpianoОценок пока нет
- А С ПушкинДокумент10 страницА С ПушкинИгорь БелименкоОценок пока нет
- О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста - Лотман - 1996 PDFДокумент748 страницО поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста - Лотман - 1996 PDFVadim PatrahinОценок пока нет
- ПушкинДокумент22 страницыПушкинAleksandrОценок пока нет
- Rebel Hudozh Miry Romanov Mihaila Bulgakova 978-5-4458-2200-4Документ172 страницыRebel Hudozh Miry Romanov Mihaila Bulgakova 978-5-4458-2200-4OloloОценок пока нет
- Otrazhenie Srednevekovoy Kontseptsii Vremeni V Romanah e Vodolazkina Lavr I AviatorДокумент9 страницOtrazhenie Srednevekovoy Kontseptsii Vremeni V Romanah e Vodolazkina Lavr I AviatorDraganaОценок пока нет
- Vizualnaya Poetika Romana Peterburg A BelogoДокумент6 страницVizualnaya Poetika Romana Peterburg A BelogoAnaОценок пока нет
- Viktor Zirmunski Bajron I PushkinДокумент425 страницViktor Zirmunski Bajron I PushkinAleksandar100% (1)
- черновик КРДокумент12 страницчерновик КРAnastasyaОценок пока нет
- Adrianova-Peretts V P Ocherki Po Istorii Russkoy Satiricheskoy Literatury XVII Veka I IIДокумент68 страницAdrianova-Peretts V P Ocherki Po Istorii Russkoy Satiricheskoy Literatury XVII Veka I IIClaudioОценок пока нет
- Ленинградский государственный университет (ЛГУ) им. А. С. Пушкина, 2017Документ104 страницыЛенинградский государственный университет (ЛГУ) им. А. С. Пушкина, 2017Liudmila TsimanovichОценок пока нет
- О ПУШКИНСКОМ ВРЕМЕННИКЕ И О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХДокумент15 страницО ПУШКИНСКОМ ВРЕМЕННИКЕ И О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХGabriella de Oliveira SilvaОценок пока нет
- Russian LiteratureДокумент9 страницRussian Literaturekirill sОценок пока нет
- Tema Neomifologizm PostmodДокумент5 страницTema Neomifologizm PostmodУрсу ЕвгенийОценок пока нет
- Referatbank 26486Документ3 страницыReferatbank 26486Варвара ТитоваОценок пока нет
- Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате»Документ402 страницыВасильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате»RostamSayafiОценок пока нет
- Nestor Kukolnik. Selected WritingsДокумент456 страницNestor Kukolnik. Selected WritingsEgor SofronovОценок пока нет
- Фомичев С.А. - Пушкинская Перспектива - 2007Документ535 страницФомичев С.А. - Пушкинская Перспектива - 2007kgena97Оценок пока нет
-  À Âăà . 9 . - .2. - Œ À - 2011 - 264á PDFДокумент267 страниц À Âăà . 9 . - .2. - Œ À - 2011 - 264á PDFVarya taleОценок пока нет
- Летопись Жизни и Творчества А. С. Пушкина. Т. 2, 1999Документ544 страницыЛетопись Жизни и Творчества А. С. Пушкина. Т. 2, 1999tarhovdmitrijОценок пока нет
- Pecherin Zamogilnye Zapiski 1932 OcrДокумент192 страницыPecherin Zamogilnye Zapiski 1932 OcrDmitrij BumazhnovОценок пока нет
- ДИССЕРТАЦИЯ Камолова ГулчиройДокумент98 страницДИССЕРТАЦИЯ Камолова Гулчиройguli28021997Оценок пока нет
- О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза АлешковскогоОт EverandО русской словесности. От Александра Пушкина до Юза АлешковскогоОценок пока нет
- Biblija 2005Документ168 страницBiblija 2005mirian pkhakadzeОценок пока нет
- Осокин М. Ю. Intertextus & Excursus: Статьи и Заметки о Литературе XIX-XXI вв.Документ430 страницОсокин М. Ю. Intertextus & Excursus: Статьи и Заметки о Литературе XIX-XXI вв.A.R.Оценок пока нет
- Opyt Voskresheniya Pushkina V Knige A Bitova Predpolozhenie Zhit 1836Документ11 страницOpyt Voskresheniya Pushkina V Knige A Bitova Predpolozhenie Zhit 1836wadiczkaОценок пока нет
- СнегурочкаДокумент7 страницСнегурочкаAnddii BОценок пока нет
- 1 PBДокумент7 страниц1 PBHawker IndiaОценок пока нет
- Вестник РХГА 2021. № 1. С. 267 - 273.Документ7 страницВестник РХГА 2021. № 1. С. 267 - 273.Георгий КовалевскийОценок пока нет
- Klark K Moskva Chetverty RimДокумент517 страницKlark K Moskva Chetverty Rimhorpushtak24Оценок пока нет
- ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ НЕУДАЧИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙДокумент9 страницПЕРЕВОДЧЕСКИЕ НЕУДАЧИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙSimonОценок пока нет
- курсовая работа Даминова МДокумент29 страницкурсовая работа Даминова МПарвина ХасановаОценок пока нет
- Лекции По ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫДокумент131 страницаЛекции По ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫСымьатОценок пока нет
- Достоевский о науке, капитализме и последних временахОт EverandДостоевский о науке, капитализме и последних временахОценок пока нет
- Poesia - Folclore SemenkoДокумент10 страницPoesia - Folclore SemenkoAngelik VasquezОценок пока нет
- Творческий путьДокумент12 страницТворческий путьBelal AL QaisiОценок пока нет
- Дневники 1913-1919: Из собрания Государственного Историческиого МузеяОт EverandДневники 1913-1919: Из собрания Государственного Историческиого МузеяОценок пока нет
- Zhemchuzhnikov Izbrannye Proizvedeniya 1963 OcrДокумент432 страницыZhemchuzhnikov Izbrannye Proizvedeniya 1963 OcrGenosse KommissarОценок пока нет