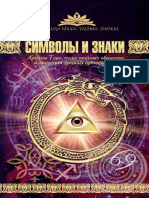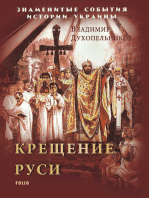Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Issledovatelskaya Rabota Obraz Pozhara V Romane F.m.dostoevskogo Besy
Загружено:
M. G.0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
5 просмотров20 страницBesy
Оригинальное название
Issledovatelskaya Rabota Obraz Pozhara v Romane f.m.dostoevskogo Besy
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документBesy
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
5 просмотров20 страницIssledovatelskaya Rabota Obraz Pozhara V Romane F.m.dostoevskogo Besy
Загружено:
M. G.Besy
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 20
Глава I.
Образ пожара в мифопоэтической традиции и в романе
Ф.М.Достоевского «Бесы»
Понятие эйдологического символа предложено О.Ю. Юрьевой в статье
«Эйдология Ф.М. Достоевского в русской литературе начала 20 века».
«Эйдос…как наивысшая мыслительная абстракция, данная конкретно,
наглядно и вполне самостоятельно, как материальная эманация
субстанциональной идеи, воплощается в художественном творчестве в
определённых образах, символах. Образ или символ, репрезентирующий
идею, в контексте другой художественной системы может не иметь того
смысла и значения, которое он приобретает в мире Достоевского».
В своей работе она отмечает, что «наиболее адекватно, в «чистом виде»,
идея может быть выражена в символе. Этому способствует та
«сверхиндивидуальная» природа символа, что придаёт ему силу, по словам
Вячеслава Иванова, «превращать интимнейшее молчание индивидуальной
мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия
подобно слову и могущественнее обычного слова». Образ-символ,
активизируя в сознании всю цепь ассоциаций, связанных с определённым
знаком, образует тот «метакод», по которому мы определяем, «узнаём» ту
или иную идею. Поэтому, выявляя метасемантику пространственных
локусов, ономастики, зооморфных именований, вещных коннотаций в мире
Достоевского, мы неизбежно выходим на «имя идеи».
Так, В.Н. Телия утверждает, что «семантические предикаты» понятия
идеи часто «награждаются свойствами живых существ», «получают
определённую власть над человеком», «приобретают свойства летающего»,
«протекают, образуя поток», «предстают как некоторые предметы, которые
можно взять, найти, хранить». Таким образом, « инобытие предикатов
мышления создаётся их включением в ассоциативно-предметный ряд или же
их приравниванием к свойствам лица».
Символическим смыслом в мире Достоевского обладают не только
определённые вещные коннотации (топор, крест, камень и др.),
пространственные локусы (подвал, лестница, улица, угол и др.), но и цвета
(жёлтый, серый, чёрный), звуки (визг, скрип, грохот и др.), бестиарий
(лошадь, собака, мышь), насекомые (паук, муха и др.).
Раскрывая весь комплекс понятий, связанных с «именем идеи», зачастую
являясь эмблемами идей, эти символы становятся «эйдологическими».
О.Ю. Юрьева говорит о том, что «вещный и природный мир романов
Достоевского соотнесён не только с идеей героя, но и с авторской идеей. «…
идеи автора не просто спорадически рассеяны по всему произведению, но
являются организующим и формообразующим принципом и могут звучать из
уст, казалось бы, абсолютно чуждых ему персонажей. Явственно выраженная
отстранённость автора от создаваемого им идеологического мира героя –
демонстрация чуждости этого мира авторской эйдологии, в поле которой, так
или иначе, попадают все идеологические комплексы романов. Но эта
отчуждённость не мешает выражению авторской оценки, осуществляющейся
зачастую через эйдологический символ».
Нельзя не обратить внимания на особую роль архетипа огня, который
как эйдологический символ предстаёт в образе пожара.
Пожар - стихийное бедствие, посылаемое человеку в наказание за
нарушение запретов, правил поведения и морально-этических норм, как
Божья кара. Пожар может происходить как от молнии, т.е. небесного огня,
так и от огня земного.
Джек Тресиддер так характеризует огонь: божественная энергия,
очищение, откровение, преображение, возрождение, духовный порыв,
искушение, честолюбие, вдохновение, сексуальная страсть; сильный и
активный элемент, символизирующий как созидательные, так и
разрушительные силы. На бытовом уровне огонь – это защитный
успокаивающий образ (огонь домашнего очага). Но он может быть и
угрожающим образом разрушительных сил природы.
Двойственное чувство: почитания и страха – лежит в основе ритуалов
поклонения огню. В древних и примитивных культурах огню поклонялись
как самому Богу, а позже – как символу божественной силы. Древние
считали огонь живым существом, которое питается, растёт, умирает, а затем
рождается вновь – признаки, позволяющие предположить, что огонь – земное
воплощение солнца, поэтому он во многом разделял его символику.
Благодаря той роли, которую огонь играл в жизни людей, в большинстве
мифологических традиций он считался результатом божественной
деятельности. Поэтому столь часто встречаются легенды о похищении огня у
небесных богов героями, такими, как Прометей, или о хитрых уловках, с
помощью которых его добывали у подземных божеств, как, например,
новозеландский мифический герой Мауи (происхождение этих островов в
результате вулканической деятельности выглядит вполне правдоподобным).
Большинство культов огня были ужасающе кровавыми, в качестве
примеров можно привести ацтекскую религию или ханаанский культ
Молоха, в жертву которому приносили детей. Среди других ритуалов и
культов поклонения огню наименее жестокими выглядят традиции,
существовавшие в Иране (из которых, в конце концов, и произошёл
ведический культ бога огня Агни), а также в античном мире, где с огнём
были связаны боги с доброй репутацией, такие, как Гефест (в римской
мифологии Вулкан). В тех традициях, где огонь не являлся предметом
прямого поклонения, он всё же играл важную роль как мощный символ
Божественного Явления (как, например, в Библии, Исход, 12:11, где «гора
загорелась огнём» и Иегова говорил из его середины с израильтянами ) ; в
христианстве огонь считали воплощением Святого Духа.
В культуре индейцев Северной Америки огонь почитался как
проявление Великого Духа, они считали костёр символом счастья и
процветания, а солнце называли Великим Огнём. В буддизме огненный столп
– один из символов Будды, а свет огня – метафора мудрости. В мистической
традиции огонь часто символизирует союз с богом, хрупкость человеческого
существования, конечность всего сущего. Отсюда и идея о негаснущем
духовном огне, которую по-своему выразил У.Б. Йитс в поэме «Плавание в
Византию» (1927): «Мудрецы, стоящие в святом огне Господа».
В христианском искусстве огонь – высшее испытание добродетели и
веры; пылающее сердце – эмблема некоторых святых, таких, как святой
Августин и святой Антоний Падуанский. Уверенность, что огонь может
очищать от зла, привела к зверствам инквизиции в средние века. В иудаизме
огонь также считается символом воздаяния или защиты от зла: ангелы с
огненными мечами охраняли потерянный рай.
Символизм огня, связанный с воскрешением, персонифицирован
образами птицы Феникс и саламандры и проявляется в пасхальных ритуалах
римской католической церкви и православных церквей, во время которых
свечи торжественно гасят и затем возжигают «новым огнём». Традиция
новогодних огней происходит из обрядов магии, она символизирует
возвращение солнечного света и тепла. В Японии синтоистские ритуалы
зажжения огня на Новый год связаны с попытками предотвратить
разрушительные пожары в наступающем году. В Европе с подобными
целями гоняли через поля лис (которые также ассоциируются с огнём) с
привязанными к их хвостам факелами. В Китае отвращающее беду значение
имеют фейерверки, считается, что они отпугивают демонов.
В основе символизма Вечного огня лежит забота о сохранении
домашнего очага, с древнейших времён имевшая огромную важность. В
античной культуре эта традиция отразилась в сохранении священного огня
жрицами храма богини Весты, в настоящее время - в ритуале зажжения и
сохранения Олимпийского огня, символизирующего преемственность
спортивных идеалов. Символизм огня, связанный с сексуальностью (огонь –
метафора сексуального желания), основан на древней технике получения
огня с помощью трения.
Максимов С.В.(«Нечистая, неведомая и крестная сила») высказывает
мнение о том, что символика огня, как и воды, имела двойственный характер.
На одном полюсе – образ грозного, яростного, мстительного пламени,
грозящего смертью и уничтожением. На другом – стихия очищающего
пламени, несущего свет и тепло, воплощающего творческое и активное
начало. Огонь воспринимался и как непосредственный объект языческого
культа, и как посредник между человеком и божеством.
Афанасьев А.Н. («Поэтические воззрения славян на природу»)
рассмотрел в своём труде отношение славян к огню.
В Древней Руси огонь называли Сварожичем, т.е. сыном Сварога – бога
неба или солнца. Обычным местом поклонения Огню – Сварожичу был овин,
что свидетельствует о сельскохозяйственном характере его культа.
Огонь представлялся славянам живым существом с весьма своенравным
характером. Он ест, пьёт и спит подобно человеку, а, рассердившись, может
и отомстить пожаром за непочтительное отношение. В Вологодской
губернии об огне говорили не иначе как ласкательно: «Огонёк, огонёк,
батюшка огонёк!» Гасили огонь на ночь со словами: «Спи, батюшка огонёк!»
Плевать в огонь считалось грехом; не следует и мочиться в него: огонь
иссушит тебя заживо. В Подольской губернии оставляли в печи на ночь
горшок с водою и полено, чтобы огню было что есть и пить. В Ровенском
уезде полагали, что огни различаются между собой и имеют свои имена,
например, один из огней именуется Андреем.
В славянских обрядах и заговорах нашло отражение уподобление огня
любовному пожару. В берестяной грамоте второй половины 14 в. из
Новгорода имеется фрагмент любовного заговора: «… так ся розгори сердце
твоё и тело твоё и душа твоя до мене и до тела до моего и до виду до моего».
Подобные формулы встречаются и в заговорах 19 в., например: «В печи
огонь горит, палит и пышет и тлит дрова; так бы тлело, горело сердце у рабы
Божией имярек по рабе Божием имярек во весь день, по всяк час… » В
обрядах любовной магии в печи сушили вырезанный из земли след
возлюбленного или какую-нибудь принадлежащую ему вещь, чтобы он
также сох от любви. В былине «Три года Добрынюшка стольничел » из
Сборника Кирши Данилова колдунья Марина «Брала … следы горячия
молодецкия, / Набирала Марина беремя дров, / А беремя дров белодубовых, /
Клала дровца в печку муравленую / Со темя следы горячими, / Разжигает
дрова палящетным огнём / И сама она дровам приговаривает: / « Сколь жарко
дрова разгораются / Со темя следы молодецкими, / Разгоралось бы сердце
молодецкое / Как у молодца Добрынюшки Никитьевича! »
Уже в ранних памятниках древнерусской письменности нашло
отражение осмысление метеоритов и других небесных явлений как
падающих на землю огненных змеев. Образ змея или дракона, имеющих
огненную природу или пышущих огней, известен в сказках, былинах,
духовных стихах, книжных произведениях и относятся к области
архаических славянских мифологических представлений. Огненному змею
как демонологическому персонажу у славян приписывались две основные
функции: он или приносит хозяину дома богатство, или летает к вдовам и
одиноким женщинам и, оборотившись мужчиной, вступает с ними в
любовные связи.
К глубокой древности восходит и образ огненной реки, отделяющей мир
мертвых от мира живых. Страшный суд будет ознаменован тем, что огненная
река протечёт от востока до запада: «… Пожжёт река огненная все горы и
каменье, / И пожжёт река огненная все леса со зверями, / И пожжёт река
огненная весь скот с птицами. / Тогда выгорит вся земная тварь». По
поверьям Костромской губернии, «земля будет гореть на три аршина. Бог-то
и спросит: «Чиста ли ты, земля?» Земля в первый раз ответит: «Чиста как
муж и жена». Ещё спросит Бог. «Чиста как вдова», - скажет земля. Ещё будет
гореть. В третий раз спросит. «Чиста, как красная девица», - ответит она. Вот
тогда и будет суд».
Священный характер приписывали «живому» огню, который добывали
старинным способом при помощи деревянных палочек или специальных
приспособлений. Выражение «живой огонь» имеет параллели в других
славянских языках и восходит, по–видимому, к праславянской эпохе. Такой
огонь называли также: новый, деревянный, реже – святой, самородный,
трудовой, небесный. Чтобы остановить падеж скота, прогоняли стадо через
костер, зажженный от «живого огня». Иногда скот прогоняли между двумя
кострами или разводили костры на разных концах деревни, чтобы оградить
ее от болезни. Так же поступали и для прекращения эпидемии тифа или
других болезней: вытирали «живой огонь» и через разведенный небольшой
костер переходили все здоровые, а затем переносили и больных.
Токарев С.А. рассматривал огонь в следующих значениях: огонь как
спутник и помощник человека в борьбе с хищными зверями; огонь как
очищающая и целительная сила; огонь как грозная и опасная стихия;
домашний очаг, символ и покровитель семьи.
Ирина Резчикова («Семантическая структура символа и возникновение
символического сюжета») определяет свои значения огня: огонь – символ 1)
жизни и плодородия, вот примета о процессе горения огня: если пламя
ровное и яркое, то это предвещает здоровье, а если слабое и затухает – то
болезнь и даже смерть; если у жениха и невесты гаснет под венцом свеча – к
несчастью в семейной жизни или даже к смерти одного из них; 2) души,
который может быть представлен не только как абстрактное пламя, но и как
свеча, искры, костер, пожар, очаг в доме и пр.; 3) страстей, испытываемых
душой человека; 4) зрения как уподобление небесному огню – солнцу.
Она же утверждает, что огонь – извечный символ бессознательных
психических процессов, тот символ, который способствует преобразованию
бессознательного и созданию новых качеств личности.
В стихотворении «Огонь» («Путями Каина» сборник) Волошин
рассуждает об огне как символе:
Есть два огня: ручной огонь жилища,
Огонь камина, кухни и плиты,
Огонь лампад и жертвоприношений,
Кузнечных горнов, топок и печей,
Огонь сердец – невидимый и темный,
Зажженный в недрах от подземных лав.
И есть огонь поджогов и пожаров,
Степных костров, кочевий, маяков,
Огонь, лизавший ведьм и колдунов,
Огонь вождей, алхимиков, пророков,
Неистовое пламя мятежей,
Неукротимый факел Прометея,
Зажженный им от громовой стрелы.
Значение архетипа огня можно найти не только в мифологических
источниках, но и в произведениях художественной литературы, например в
романе Достоевского «Бесы».
В «Бесах» Достоевского показана борьба идей и представлений о
всеобщем счастье человечества. Каждый из героев (Петр Верховенский,
Шигалев, Кириллов, Шатов, Ставрогин) создает свою «модель» будущего
человечества «будущего человека», исходя, естественно, из своего
понимания его сущности, из своеобразного решения ключевых нравственных
проблем: добра и зла, свобода и принуждения, бога и безбожия и т.п. Эти
концепции активно взаимодействуют друг с другом, то, непримиримо
сталкиваясь, то, обнаруживая внезапную глубинную общность. Отчаянная
вера в свою теорию и отсюда чрезвычайная эмоциональная напряженность в
самом переживании идеи – у героев Достоевского мысль никогда не есть
«чистая мысль», это непременно мысль – чувство, мысль – боль, мысль –
страдание (пожар как символ страстей, переживаемых душой человека).
Петр Верховенский так сформулировал свою идею: «Слушайте,
Ставрогин: горы сравнять – хорошая мысль, не смешная … Не надо
образования, довольно науки!… Жажда образования есть уже жажда
аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание
собственности. Мы уморим желание… мы всякого гения потушим во
младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Полное
послушание, полная безличность…».
Для него нет ничего святого, более того, «святое» во всех областях
жизни подвергается им непременной дискредитации через издевательство,
глумление, высмеивание. Снизить и умалить «высокое и прекрасное»,
сделать его прежде всего пошлым и мелочным, а потому смешным – вот
первая забота Верховенского – младшего, тот дух, который он привозит с
собой и который к концу романа успевает заразить чуть не половину города.
Он глумится и над отцом, третируя его свысока и как несмышленного
ребенка, называет его отношения с Варварой Петровной «взаимным
излиянием помой», всячески поощряет поступки Лямишна и Лебедкина, в
глаза врет всем и каждому, сохраняя вид простодушия. Все это создает
определенный внешний облик героя. В нем мы видим натуру холодно-
расчетливую, не знающую в своем расчете никаких моральных запретов,
совести и т.п. (организация убийства Шатова). Чужая жизнь для него
ценностью не является, а следовательно, все остальные этические ценности
для него не существуют. Ему необходимо, чтобы окружающий мир по своей
сути и во всех проявлениях был гадок и мелок: «… одно или два поколения
разврата теперь необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда
человек обращается в гадкую, трусливую, жесткую, себялюбивую мразь…» в
презрении к такому миру и такому человеку – самооправдание ищет
Верховенский – младший. («Я мерзок, но ведь и все мерзки, только я это
трезво осознаю, а все драпируют свою мерзость в возвышенные чувства и
идеалы»). Но есть мечта всей жизни и у Петра Верховенского, ради которой
создает «пятерку» и кем, не задумываясь, пожертвует ради своей «родной»
цели, рассчитывает на Ставрогина, которым кончится мятеж и смута и в
которого поверит народ. «Мы пустим легенды – объясняет ему
Верховенский. – Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ…
начнется смута! Раскачка пойдет такая, какой еще мир не видал. Затуманится
Русь, заплачет Земля по старым богам…».
Главное пустить легенду о том, что новый «бог» новую правду несет и
«скрывается» - чуть не в исступлении развивает свою теорию первого шага
Верховенского.
Его идея, несостоявшаяся, ложная терпит крушение и остается «Колумб
без Америки», «муха, идея в стеклянке».
Шигалев предлагает «в виде конечного разрешения вопроса разделение
человечества на две неравные части: одна десятая получает свободу
личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же
должны потерять личность и превратиться вроде как в стадо и при
безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной
невинности».
Но сам Шигалев откровенно признается: «Я запутался в собственных
данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей,
из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю
безграничным деспотизмом».
Разделение человечества на сверхчеловеков и стадо, проповедовавшееся
Ницше, легло в основу фашизма. В сущности, тоталитаризм является
логическим выводом из буржуазного индивидуализма, тоталитарный режим
есть не что иное, как абсолютная свобода для «касты господ»,
«сверхчеловеков» господствовать над подавляющим большинством
человечества. Это и есть противоречие Шигалева.
Над вопросом свободы размышляет и Кириллов: «Для меня нет выше
идей, что Бога нет». Для него свобода – это, прежде всего освобождение
человека от «прежнего бога». Он ищет «последней свободы», которая
навсегда освободила бы не только его самого, но и все человечество от
страха боли и страха смерти: «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек
несчастен. Теперь все боль и страх. Жизнь дается теперь за боль и страх и тут
весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек,
счастливый и гордый… Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и
страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все
новое…». Человек должен освободиться от лжи и «заявить своеволие»: «Я
три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего –
Своеволие!». Кириллов в своей идее идет до логического конца, утверждая:
«Если нет Бога, то я сам бог!». Используя евангельскую символику,
Кириллов совершает как будто всего лишь формальную перестановку частей
слова, но в ней – сердцевина его идеи:
« - Он придет, и имя ему человекобог.
- Богочеловек?
- Человекобог, в этом разница».
Не вечный бог обретает человеческую плоть, а наоборот богом, т.е.
всемогущем и абсолютно свободным становится сам человек.
Однако сам Кириллов еще не счастлив, хотя и понял уже про себя, что
он «хорош». Ему надо доказать свою идею. Единственным решающим
аргументом, доказывающим идею Кириллова, становится самоубийство.
«Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек». «Если
бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и
я обязан заявить своеволие… Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать,
что нет бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет бога, и не сознать в
тот же раз, что сам богом стал – есть нелепость, иначе непременно убьешь
себя сам. Если сознаешь – ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в
самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам
непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам
непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог по неволе и я
несчастен, ибо обязан заявить своеволие».
Мы видим, что Кириллова мучат противоречия, в его душе вспыхивает
внутренний огонь, заставляющий доказывать свою идею.
С идеей Верховенского и Шигалева его роднит одно обстоятельство:
будущее счастье человечества опять устраивается, исходя из теории одного
человека; счастье навязывается людям, мнения которых не спрашивают и не
хотят знать, потому что по сравнению с «избранным» они лишь «материал»,
«тварь дрожащая».
Кириллов не уверен в своей идее, идее своей жизни: «Бог необходим, а
потому должен быть… Но я знаю, что его нет и не может быть… Неужели ты
не понимаешь, что человеку с двумя такими мыслями нельзя оставаться в
живых?». И не случайно Кириллов выбирает наиболее радикальную
проверку идеи, возможно только для человека, дошедшего во внутреннем
конфликте до полной неразделимости.
Кириллов подсознательно сопротивляется своему решению, и, по мысли
Достоевского, иначе и быть не может: нормальная человеческая натура не
приемлет рациональной идеи, жизнь восстает против смерти. Сцена
самоубийства Кириллова исполнена почти запредельного ужаса. Идея губит,
пожирает Кириллова.
Казалось бы, резко и принципиально отличается от позиции
Верховенского, Шигалева, Кириллова идея Шатова: «Народ возношу до
Бога». Он верит в богоизбранность русского народа, того Бога, того Христа,
который есть исключительно атрибут русского православия: «Атеист не
может быть русским… Неправославный не может быть русским… Единый
народ «богоносец» - это русский народ». Шатов получает идею «русского
бога» от Ставрогина практически в готовом виде. Но Ставрогин нужен
Шатову не только как учитель, генератор идеи: «Дело в вас, а не во мне… Я
человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше… Вы,
одни могли бы поднять это знамя!». Шатов не верит в идею без Ставрогина,
из Ставрогина он незаметно «сотворил себе кумира», а запальчивость, с
которой он отстаивает свою идею, может быть, лучше всего говорит о
непрочности, шаткости его веры. Идея русского народа – богоносца – это по
словам Шатова, «или старая, дряхлая дребедень, перемолотая во всех
славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово,
единственное слово обновление и воскресения».
Его подстерегало изысканное бесовское искушение: возлюбить Христа
не в своем ближнем – в народе целом. В отношении же к конкретному
человеку Шатов далеко не христианин, Шатов ненавидит, и эта ненависть – к
Верховенскому и его «пятерки», а шире – ко всем кто ни с ним, кто не
принимает его идеи. Но в тоже время он полагает, что мир на началах истины
устроится не может, «внедрять» истину в мир усилиям индивидуальности –
путь не его, Шатова, но тогда великой и сильной личности Ставрогина.
Перед нами снова недоверие – к человеку, к человечеству, к народу; на этот
раз – грустный парадокс – к тому самому народу, который называется
богоносцем и на котором основывается вся теория.
Центральное место в романе занимает образ Николая Ставрогина.
Именно он – «солнце, вокруг которого все вращается. И вокруг Ставрогина
поднимается вихрь, который переходит в беснование. Все тянется к нему, как
к солнцу, все исходит от него и возвращается к нему, все есть лишь его
судьба. Шатов, П. Верховенский, Кириллов – лишь часть распавшейся
личности Ставрогина, необыкновенной человеческой личности, истощившей
свои силы в безмерности своих стремлений, неспособной к избранию и
жертве», - писал Н.А. Бердяев. Ставрогин способен на потрясающий цинизм,
можешь внушить окружающим его людям противоположные идеи, толкает
их на смерть, оставаясь при этом ко всему безучастном. И в этом смысле
идет гораздо дольше всех в моральном крахе личности, ведущем к
самоистреблению. Николай Ставрогин по-настоящему «верховенствует» в
«Бесах» и признается в одной из черновых записей к роману: «… и всех
виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы
прежде всех переродиться должны, мы главная гниль, на нас главное
проклятие и из нас все произошло».
Образ Ставрогина как бы сгущает и итожит ту ситуацию современного
мира, в которой, если воспользоваться известными словами Ницше, Бог
умер. Сам он так формулирует свою коренную проблему: «Чтобы сделать
соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога». По словам
Достоевского, Ставрогин предпринимает «страдальческие судорожные
усилия, чтобы обновиться и вновь начать верить. Этот человек, неверующий
вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе…».
Достоевский на примере Ставрогина и других мерзавцев своей жизни
стремится доказать, что безбожие неизбежно ведет к утере нравственности, к
полной утрате всех критериев добра и зла. У Ставрогина полностью
атрофировано чувство отвращения к грязи, «дух» его одинаково замирает от
восторга и перед мерзостью и перед великодушием. Он экспериментирует
над собой для того, чтобы увидеть, до какой же степени гнусности и
преступления может он дойти, и убеждается в том, что его возможности в
этом отношении безграничны. Если и осталось в нем еще что-нибудь живое,
то это только страх перед безграничностью своих возможностей в области
преступления да отвращения к себе. Он справедливо считает себя подлым
насекомым, которое нужно смести с лица земли. Для таких, как Ставрогин,
самоубийство – единственное доказательство того, что при жизни они еще
совсем не разложились.
Ставрогин – барич, начисто оторванный от народа, от страны, от всего
человечества, отщепенцев. От страшной скуки и пустоты, а также в целях
своего специфического эксперементаторства он участвует в гнусных
садистских кружках, где такие же опустошенные подлецы, как он, грязно
обижает детей; он связывается с уголовным миром, с подонками Петербурга,
пропойцами, шутами вроде Лебядкина, убийцами. Пытаясь хоть куда-нибудь
уйти от своей пустоты, Ставрогин всегда оказывается лицом к лицу с нею,
потому что у него нет ни идеи во имя которой он мог бы жить, ни живых
связей с людьми.
Ставрогин продукт распада, гниения барства в переломную эпоху.
Новое в таких фигурах – это их беспокойство, смятение, вызванное
кризисной эпохой, когда зашатались все старые авторитарные скрепы.
Ставрогину жутко оттого, что в его «душе» нет никаких моральных норм –
шаром покати! По натуре своей Ставрогин – провокатор.
Ставрогина щадить нечего! В его лице мы видим не жертву, а палача.
Правда он мучается тем, что потерял способность нравственно мучиться.
Ставрогин приходит к безысходному финалу, символический смысл
которого достаточно емко выразил Вячеслав Иванов: «Изменник перед
Христом, он не верен и Сатане… Он изменяет революции, изменяет и России
(символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности, отречение от
своей жены, Хромоножки). Всем и всему изменяет он и вешается как Иуда,
не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье».
Гачев Г. так охарактеризовал Ставрогина: «Ставрогин больше огонь
адский, Люцифер (лат. - светоносный), блестящий, анти – Апполлон - и столь
красив потому. Но он уже с отрезанной пуповиной тонической (нет той силы
жизни, что в узловатом пне Федоре Павловиче) и ходит как Агосфер,
ввязавшись в социально-кесарев уровень, а здесь ему неуместно и худо, не
рыба в воде, в отличие от Петра Степановича Верховенского».
«Вихрь сошедших обстоятельств» несет с собою мутную стихию
«всеобщего сбивчивого цинизма», раздражения и озлобленности, слухов и
интриг, убийств и самоубийств, шантажа и насилия, кощунства и беснования,
разврата и распада. «Точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех
выскользнул», - отмечает рассказчик. А Петр Верховенский оглашает
заговорщикам свои расчеты: «Слушайте, я их всех сосчитал: учитель,
смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат,
защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и ,
чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, Убивающие
мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие
преступников, сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он
недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших
много, ужасно много, и сами того не знают!».
Разряд «наших» готов пополниться и «дряннейшими людишками»,
которые, по наблюдению рассказчика, получают вдруг перевес в «смутное
время колебания и перехода неизвестно куда и громко критикуют «все
священное». К таковым им относятся «хохотунье заезжие путешественники,
поэты с направлением из столицы, поэты с направления и таланта в
поддевках и смазных сапогах майоры и полковники, смеющиеся над
бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять
свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы,
перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, развивающиеся купчики,
бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собой женский
вопрос…».
Вместе с тем Достоевский показывает, что «пожар в умах» пленяет вслед
за «дряннейшими людишками» не только всякую «сволочь»,
«флибустьеров», «буфетных личностей». Во времена потрясений и перемен,
сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основополагающих
убеждениях и идеалах в чудовищные общественные злодеяния вовлекаются
и простодушные, чистые сердцем люди. «Вот в том-то и ужас, что у нас
можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе
иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в
самом деле быть, не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, - вот в
чем наша современная беда!».
По словам О.Ю. Юрьевой «мысль», «мечта», «греза», «идея», «дума» в
образной системе романов Достоевского предстают как самостоятельные,
часто материально выраженные, закрепленные в определенных образах
субстанции с их пространственными и качественными характеристиками:
«Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень,
очень занимала его»; «мысль опять понеслась в голове».
Достоевский постоянно подчеркивает мысль о сильнейшем
энергетическом потенциале идеи, маркируя ее образом молнии
(«промелькнуло в нем как молния») или некоего энергетического сгустка,
распространяющегося в пространстве сознания героя с огромной
«молниевидной» скоростью («все это, разумеется, только мелькнуло в голове
господина Голядкина»; «вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно
созрела в голове Марьи Александровны»), или образом огня, пожирающего
человека.
Мысль, идея персонифицирована, отчуждена от своего носителя, более
того, она может предстать перед ним как овеществленная, опредмеченная
или одушевленная эманация: «Какая-то безобразная мысль стала все более и
более мучить его. Все сильнее и сильнее преследовала она его и с каждым
днем воплощалась перед ним в вероятность, в действительность» - говорит
Достоевский об Ордынове.
Навязчивая, преследующая идея не только самопроизвольно
присутствует в сознании, но «чувствуется», физически ощущается как нечто
постороннее. Мысль, идея может «уязвить», измучить, физически истощить
человека, сжечь его изнутри.
Прежде чем пожар в «Бесах» вспыхнул наяву, он полыхал в умах и
сердцах героев. По портретным деталям мы можем проследить внутреннее
состояние героев, в их характеристике очень много эпитетов, содержащих
огненную семантику: «Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно
сжечь хотел его своим взглядом», «Андрей Антонович вспыхнул»,
«Ставрогин засмеялся, но глаза его сверкали», «Ни России, ни народа! –
завопил Шатов, сверкая глазами».
Внутренний огонь постепенно пожирает человека, противоречия в душе
запутывают, человек под воздействием ложной идеи способен на любые
действия во имя идеи. Внутренний огонь вспыхивает в настоящем.
« - Пожар! Все Заречье горит!…
Заречье пылало. Правда, пожар только ещё начался, но пылало в трёх
совершенно в разных местах, - это – то и испугало.
- Поджог! Шпигулинские! – вопили в толпе.
- Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь.
Пожар испугал нашу заречную публику, именно тем, что поджег был
очевидный. Замечательно, что при первом крике «горим» сейчас же раздался
и крик, что «поджигают шпигулинские». Огонь, благодаря сильному ветру,
почти сплошь деревянным постройкам Заречья, и, наконец, поджогу с трех
концов, распространился быстро и охватил целый участок с неимоверной
силой… Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу
беду: сгорело не более (а может, и менее) одной четвертой доли всего
Заречья, говоря примерно… Когда я, всего час спустя после бегства с бала
пробрался в Заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица,
параллельная реке, пылала. Было светло как днем. Не стану описывать в
подробности картину пожара: кто ее на Руси не знает?».
Достоевский правдиво замечает, что «большой огонь по ночам всегда
производит впечатление раздражающее и веселящее». «Другое дело
настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной
опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят
в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое
сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным
инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого
смеренного… советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно».
Сам Достоевский вводит понятие пожара как символа.
«Лешке, бледный, с сверкающими глазами, произносил самые
удивительные вещи…
- Все поджог! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!…
- Невероятно. Пожар в умах, а не на крышах домов…»
Мы видим, что пожар у Достоевского он не только настоящий,
охвативший и уничтожающий Заречье. Это и пожар в умах людей, которые
выдвинули эти отвратительные идеи, уничтожающие, но ни в коем случае не
приносящие счастья человечеству. Это идеи безнравственных людей,
думающих только о себе, об уничтожении окружающих людей.
По словам О.Ю. Юрьевой многоаспектность семантики символа «огня»
раскрывается Достоевским как на страницах художественных произведений,
так и в «Дневнике писателя». Одним из таких смысловых аспектов
становится бессмысленность, бесполезность, расточительность той энергии,
которая высвобождается в процессе горения. Так, в 1876 году Достоевский
записывает в «Дневнике писателя»: «Видали ль вы в знойное лето лесной
пожар? Как жалко смотреть и какая тоска! Сколько напрасно гибнет ценного
материала, сколько сил, огня и тепла уходит даром, бесследно и бесполезно».
В эйдологии этой символики просматривается сближение революционных,
бунтарских проявлений русского народа с бессмысленно расточаемой
энергией лесного пожара, оставляющего за собой лишь сожженную
бесплодную пустыню».
Как эйдологический символ огонь предстает в романах Достоевского в
образе пожара, усиливающего вторую ипостась амбивалентного архетипа —
идею уничтожения — тотального и безжалостного. Эйдологический символ
огня становится эманацией «идеи бунта» — одной из двух, как указывал
Достоевский, «великих идей» русского народа (27; 24). Другая «великая
идея» — «идея смирения» — нашла свое воплощение в библейской световой
символике, окружающей героев, близких к идеалу «положительно
прекрасного человека».
Вам также может понравиться
- Томас Карлссон - Нордическая МагияДокумент164 страницыТомас Карлссон - Нордическая МагияAnyaKayneОценок пока нет
- Лю Гуань Юй - Даосская Йога - (1993, Rus)Документ163 страницыЛю Гуань Юй - Даосская Йога - (1993, Rus)TaichiaikidokaОценок пока нет
- Жизнеописание Пророка 1Документ623 страницыЖизнеописание Пророка 1Said AbdullaevОценок пока нет
- Russkaya Mifologia Mir Obrazov FolkloraДокумент1 013 страницRusskaya Mifologia Mir Obrazov FolkloraKomkonОценок пока нет
- Книга Йотунов работа с великанами в северной традицииДокумент243 страницыКнига Йотунов работа с великанами в северной традицииMaster Shaytan100% (1)
- Королев К. М. - Языческие Божества Западной Европы. Энциклонедия - 2005Документ498 страницКоролев К. М. - Языческие Божества Западной Европы. Энциклонедия - 2005Harmoniq777Оценок пока нет
- Славянская мифология БеляковаДокумент150 страницСлавянская мифология БеляковаDiana GubushkinaОценок пока нет
- Рошаль Виктория Символы и знаки Арканы Таро, коды тайных обществДокумент1 356 страницРошаль Виктория Символы и знаки Арканы Таро, коды тайных обществTattiОценок пока нет
- 39 Мифы Древней Индии PDFДокумент171 страница39 Мифы Древней Индии PDFAndy Siv100% (1)
- Книга Магии Итальянской Колдуньи: Или Магические Формулы, Зелья, Экзорцизмы Для Исцеления Методами Древнейших Традиций.От EverandКнига Магии Итальянской Колдуньи: Или Магические Формулы, Зелья, Экзорцизмы Для Исцеления Методами Древнейших Традиций.Оценок пока нет
- Magia Run - Talismany I OberegiДокумент158 страницMagia Run - Talismany I OberegiStevie100% (2)
- Ницше Ф., Фрейд 3., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. - Сумерки богов (Библиотека атеистической литературы) - - 1990 PDFДокумент403 страницыНицше Ф., Фрейд 3., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. - Сумерки богов (Библиотека атеистической литературы) - - 1990 PDFалександркарданов100% (1)
- Владимир Куровский, Лада Куровская - Кармическое исцеление души и тела (Славянская мудрость) - 2013Документ134 страницыВладимир Куровский, Лада Куровская - Кармическое исцеление души и тела (Славянская мудрость) - 2013Vasily ZabelinОценок пока нет
- Моя редакция накшатрДокумент91 страницаМоя редакция накшатрNelly100% (1)
- PDFДокумент153 страницыPDFTattiОценок пока нет
- Lebedev Roman V Luchah Chernogo Solnca.1119 PDFДокумент123 страницыLebedev Roman V Luchah Chernogo Solnca.1119 PDFBon EmprressОценок пока нет
- Groot Vojna S DemonamiДокумент302 страницыGroot Vojna S DemonaminikolayОценок пока нет
- 3 Kanony Kognitivnogo Prava-Canonum de Ius CogitatumДокумент148 страниц3 Kanony Kognitivnogo Prava-Canonum de Ius CogitatumОлександр ОвсійОценок пока нет
- Манифест Хозяина земли русской PDFДокумент89 страницМанифест Хозяина земли русской PDFВадим Гановичев100% (1)
- Энциклопедия языческих боговДокумент261 страницаЭнциклопедия языческих боговSendzimir WolkovОценок пока нет
- Issledovatelskaya Rabota Obraz Pozhara V Romane F.m.dostoevskogo BesyДокумент20 страницIssledovatelskaya Rabota Obraz Pozhara V Romane F.m.dostoevskogo BesyM. G.Оценок пока нет
- Крещение Руси (Kreshhenie Rusi)От EverandКрещение Руси (Kreshhenie Rusi)Оценок пока нет
- Вопросы По Зарубежной Химии)Документ28 страницВопросы По Зарубежной Химии)El GrecoОценок пока нет
- АНАЛИЗ ДРЕВНИХ БЕЛОРУССКИХ МИФОВДокумент16 страницАНАЛИЗ ДРЕВНИХ БЕЛОРУССКИХ МИФОВNadezhda RashkevichОценок пока нет
- Синтоизм 2Документ3 страницыСинтоизм 2Emily DovtaevaОценок пока нет
- СинтоизмДокумент3 страницыСинтоизмEmily DovtaevaОценок пока нет
- Sokolova Kult ZhivotnyhДокумент216 страницSokolova Kult ZhivotnyhБогдан СавенкоОценок пока нет
- Гаврилов Д.А, Наговицын А.Е. - Боги Славян. Язычество. Традиция (Astrum Sapientiae) - 2002Документ314 страницГаврилов Д.А, Наговицын А.Е. - Боги Славян. Язычество. Традиция (Astrum Sapientiae) - 2002Marin AngelОценок пока нет
- Культы и божества ранних религий древнего КитаяДокумент2 страницыКульты и божества ранних религий древнего КитаяEmily DovtaevaОценок пока нет
- Dzhekson - Stolpy Tubal Kaina.529855Документ188 страницDzhekson - Stolpy Tubal Kaina.529855Николай АкимовОценок пока нет
- Лекция СРЕДНЕВЕКОВАЯ МЫСЛЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМыДокумент4 страницыЛекция СРЕДНЕВЕКОВАЯ МЫСЛЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМыwkam58Оценок пока нет
- Lektsia Srednevekovaya FilosofiaДокумент5 страницLektsia Srednevekovaya Filosofiaweslycolas94Оценок пока нет
- Provided by Dspace at Belgorod State UniversityДокумент5 страницProvided by Dspace at Belgorod State UniversityОлена ГончарОценок пока нет
- Ubm 1922 11 12Документ272 страницыUbm 1922 11 12Charles TeixeiraОценок пока нет
- Anthropos Entsiklopedia Dukhovnoy Nauki Tom 2 2016gДокумент1 241 страницаAnthropos Entsiklopedia Dukhovnoy Nauki Tom 2 2016gRafaelОценок пока нет
- Доклад по женской телесностиДокумент29 страницДоклад по женской телесностиDasha ShulginaОценок пока нет
- 33497919Документ16 страниц33497919AZIZE HONEYОценок пока нет
- 32641400Документ14 страниц32641400Slobodan TrajkovićОценок пока нет
- Культура тюрковДокумент5 страницКультура тюрковTokanov TimurОценок пока нет
- 2283-Текст статті-4603-1-10-20160615Документ11 страниц2283-Текст статті-4603-1-10-20160615СтаниславОценок пока нет
- Simvolika IkonДокумент3 страницыSimvolika IkonHatsepsut2014Оценок пока нет
- СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯДокумент5 страницСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯÉpîkfãl LaimОценок пока нет
- Веддизм і брахманізмДокумент30 страницВеддизм і брахманізм13whitedragon13Оценок пока нет
- Onomastikon Virtualnogo Prostranstva Zhanra Fantasy V Aspekte NeologiiДокумент4 страницыOnomastikon Virtualnogo Prostranstva Zhanra Fantasy V Aspekte Neologiimajicif222Оценок пока нет
- Семинар 1 (Б 1.1)Документ10 страницСеминар 1 (Б 1.1)Даниил АндреевОценок пока нет
- 12. Религия Древних Греков. Уранические, Хтонические и Ойкуменские Боги. Персонификация Природных Стихий у ГомераДокумент6 страниц12. Религия Древних Греков. Уранические, Хтонические и Ойкуменские Боги. Персонификация Природных Стихий у ГомераТимофей МищенковОценок пока нет
- ТеургияДокумент3 страницыТеургияКызалакова Милана 7eОценок пока нет
- ДокументДокумент9 страницДокументamka8878Оценок пока нет
- 1882727Документ3 страницы1882727Jacek RomanowОценок пока нет
- СИМВОЛЫ РЕЛИГИЙ-2020Документ15 страницСИМВОЛЫ РЕЛИГИЙ-2020Анастасия КуракинаОценок пока нет
- Одноглазый знак его происхождение и оккультное значение ВКонтактеДокумент1 страницаОдноглазый знак его происхождение и оккультное значение ВКонтактеy79zttcfcsОценок пока нет
- Торчинов Е.А. Даосская картина бессмертияДокумент19 страницТорчинов Е.А. Даосская картина бессмертия8888888888888-242677Оценок пока нет
- Russkaya Mifologia EntsiklopediaДокумент664 страницыRusskaya Mifologia Entsiklopediakote.bakuradzeОценок пока нет
- История психологии. Семинары.Документ25 страницИстория психологии. Семинары.ingaОценок пока нет
- Религия древнего КитаяДокумент20 страницРелигия древнего КитаяMaximОценок пока нет
- Hol MissaДокумент29 страницHol MissaИринаОценок пока нет
- ЯрилоДокумент6 страницЯрилоРоман УваровОценок пока нет
- Кутарев - Славянский Дажьбог как развитиеДокумент16 страницКутарев - Славянский Дажьбог как развитиеAdam AntОценок пока нет
- Tolstaya S M - Slavyanskie Mifologicheskie Predstavlenia O DusheДокумент47 страницTolstaya S M - Slavyanskie Mifologicheskie Predstavlenia O DusheРакић РужицаОценок пока нет
- Dlya 1 Kursa Kultura Drevney IndiiДокумент16 страницDlya 1 Kursa Kultura Drevney IndiiKirs YoshikageОценок пока нет
- Абеляр Пьер - Диалог между философом, иудеем и христианином (1142)Документ60 страницАбеляр Пьер - Диалог между философом, иудеем и христианином (1142)Dima KhakhishviliОценок пока нет
- Сумеречные миры японского фольклораДокумент24 страницыСумеречные миры японского фольклораdjenОценок пока нет
- таро священного кругаДокумент28 страництаро священного кругаВиктор БабенкоОценок пока нет
- Доклад ПрезентацияДокумент18 страницДоклад Презентацияvaleriya.garridoОценок пока нет
- Obraz KrestaДокумент129 страницObraz KrestaВасилий СаяныйОценок пока нет
- Fromm Revolyutsia Nadezhdy Izbavlenie Ot Illyuziy Djvu RecognizedДокумент344 страницыFromm Revolyutsia Nadezhdy Izbavlenie Ot Illyuziy Djvu RecognizedM. G.Оценок пока нет
- Dostojevski Vektorski MetodДокумент25 страницDostojevski Vektorski MetodM. G.Оценок пока нет
- Бонецкая Н. - Русский Фауст ХХ века-Росток (2015) florenski-1Документ381 страницаБонецкая Н. - Русский Фауст ХХ века-Росток (2015) florenski-1M. G.Оценок пока нет
- (Bibliotheca Ignatiana - Богословие, Духовность, Наука) Бибихин В.В. - Энергия-Институт Философии, Теологии и Истории Святого Фомы (2009)Документ882 страницы(Bibliotheca Ignatiana - Богословие, Духовность, Наука) Бибихин В.В. - Энергия-Институт Философии, Теологии и Истории Святого Фомы (2009)M. G.Оценок пока нет
- Zharko Vidovich Tragediya I LiturgiyaДокумент16 страницZharko Vidovich Tragediya I LiturgiyaM. G.Оценок пока нет
- Spurgeon 12 Propovedey Ob OsvyaДокумент91 страницаSpurgeon 12 Propovedey Ob OsvyaAnastasiaОценок пока нет
- A Morte InvocareДокумент7 страницA Morte InvocareImperium DraconisОценок пока нет
- Жизнь ХристаДокумент4 страницыЖизнь ХристаГеоргий ПуховОценок пока нет
- Уильямс Г - Не воинством и не силоюДокумент384 страницыУильямс Г - Не воинством и не силоюvyuОценок пока нет
- Молитва святого Ефрема Сирина. Великопостные беседыДокумент21 страницаМолитва святого Ефрема Сирина. Великопостные беседыNikeaОценок пока нет
- Бог создал воскресенье и другие рассказыДокумент9 страницБог создал воскресенье и другие рассказыNikeaОценок пока нет