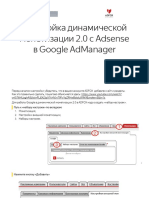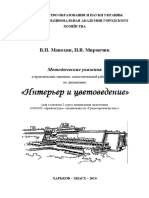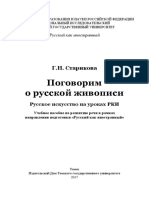Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
конспекты по культуре фотографии
конспекты по культуре фотографии
Загружено:
Đức Nguyễn0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
13 просмотров4 страницыАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
13 просмотров4 страницыконспекты по культуре фотографии
конспекты по культуре фотографии
Загружено:
Đức NguyễnАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 4
Гавришина О.В. Об одной фотографии Ж.-А.
Лартига // Экранная
культура. Теоретические проблемы: сб. статей / отв. Ред. К.Э. Разлогов.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С.745-751.
Использование визуальной составляющей в лекционном занятии обычно
привлекательно для студентов И преподавателя. Изображение помогает
сконцентрировать внимание на тех или иных аспектах темы, облегчает
восприятие материала, позволяет лучше его структурировать и запоминать.
При этом в большинстве случаев в изображении наиболее важным
оказывается объект, иными словами, то, чтó изображено, будь то человек,
архитектурное сооружение, элемент внутреннего убранства, фрагмент
городской среды, орнаментальный мотив и т.д.
Медиум. Очень важно поставить вопрос о специфичности фотографии как
медиума. Понятие «медиум» все еще плохо закреплено в профессиональном
языке социальных и гуманитарных наук, отсылая к более раннему значению
в русском языке первой половины XIX века, связанному с практикой
спиритических сеансов. При этом множественное число интересующего нас
понятия («медиа») распространено весьма широко – средства массовой
информации, массмедиа. Однако «медиум» нельзя целиком свести к этому
последнему значению, определив его как «одно из средств массовой
информации». «Медиум» в случае фотографии объединяет значение средства
изображения в совокупности его материальных, технических и жанровых
характеристик и значение канала передачи информации и способа
трансляции.
Архив. Этот вопрос подводит нас к еще одному важному обстоятельству,
определяющему значение фотографии. Как правило, мы работаем с
отдельным снимком, но означает ли это, что снимок является единицей
анализа при работе с фотографией? Нет, наше восприятие отдельной
фотографии зависит от того, в какое «целое», в какой «архив» она включена.
Определение этого «архива» требует изучения социальных институтов и
практик модерного общества. «Архив» всегда связан с определенным
институтом и предполагает определенное распределение властных
полномочий. Важно понимать, благодаря действию каких институтов (и
связанных с ними предпочтений), эта фотография не только сохранилась, но
и попала в зону нашего внимания.
Серия. Хотя «архив» чрезвычайно значим для определения контекста
означивания отдельного снимка, в исследовательской работе или в
аудитории, у нас нет возможности продемонстрировать «архив» целиком.
Нам необходим обозримый и составляющий смысловое единство корпус
фотографий. Таковым корпусом является серия. В одних случаях, параметры
и границы серии задаются самим фотографом или структурой архива, в
других, их приходится выявлять исследователю.8 Необходимость обращения
к серии связана не только с удобством работы. Серийный характер является
одной из важнейших характеристик фотографического изображения.
Фотография – избыточное изображение, она включает большое число
второстепенных деталей. Несмотря на то, что мы с привычной готовностью
определяем главный объект на фотографии, строго говоря, объектом
фотографии является все, что попадает в кадр, а зачастую и то, что в кадр не
попадает, например, взаимоотношение фотографа и модели.
Таким образом, на конкретном примере мы попытались показать, что даже
работа с одним снимком позволяет сориентироваться в целом ряде
теоретических и исторических вопросов, а также приобрести
(усовершенствовать) навыки визуального анализа и, что немаловажно,
сделать собственные зрительские стратегии и навыки объектом рефлексии.
Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. М.: Ад
Маргинем Песс, 2014. С. 48-77. (1990, 2013 франц.)
Разумеется, ясно, что источник различия между двумя этими изображениями
- фотографией и ее воспроизведением - не различие между вдохновенным
фотографом и лишенным искры божьей литографом. Эти изображения
принадлежат двум разным областям культуры, соответствуют двум разным
типам зрительских ожиданий, передают два разных вида знания. Пользуясь
более современной терминологией, можно сказать, что они существуют в
разных дискурсивных пространствах, являются составляющими двух разных
дискурсов. Литография принадлежит дискурсу геологии и, следовательно,
эмпирической науки.
В своем развитии на протяжении XIX века эстетический дискурс все плотнее
организовывался вокруг того, что можно назвать пространством выставки.
Будь то музей, салон, ярмарка или частный показ, пространство выставки
конституировалось, по крайней мере частично, протяженной плоскостью
стены - стены, назначение которой все строже ограничивалось ис
ключительно демонстрацией искусства. Помимо галерейной стены, у
пространства выставки есть и другие атрибуты. Это пространство также
было местом критики: с одной стороны, почвой для последующей
письменной реакции на появление произведений искусства в этом особом
контексте; с другой стороны, неявным местом выбора (принять или
отвергнуть), и все, что отвергалось пространством выставки, тем самым
маргинализировалось по отношению к Искусству . Будучи физическим
носителем выставки, галерейная стена стала означающим признания;
поэтому можно сказать, что стена сама по себе есть репрезентация того, что
мы здесь назовем выставочностъю, - того, что в течение XIX века
развивалось в структуре искусства как главное средство обмена между
патронами и художниками.
Процесс построения произведения искусства как репрезентации про
странства, в котором это искусство выставляется, - это, собственно, и есть
история модернизма. Сейчас мы, как зачарованные, наблюдаем, как историки
фотографии адаптируют свой предмет к логике этой истории. Если мы снова
зададимся вопросом, в каком дискурсивном пространстве существует
оригинальная фотография О'Салливана, описанная выше, мы будем
вынуждены признать: в пространстве эстетического дискурса. А если мы
спросим, что она репрезентирует, то получим ответ: в этом пространстве она
конституирована как репрезентация выставочной плоскости, поверхности
музея, способности галереи конституировать те объекты, которые она
избирает для принятия в Искусство.
Пространство стереографии - это пространство перспективы, возведенной в
степень. Оно погружает зрение в некий туннель, где присутствует
подчеркнутое и неотвязное ощущение глубины. Это ощущение еще
усиливает то обстоятельство, что собственное окружающее пространство
зрителя заслоняет оптический инструмент, который нужно держать перед
глазами. Пока зритель рассматривает окруженный чернотой снимок, то, что
окружает его самого, стены и пол, скрыты от глаза. Стереоскопический
аппарат механически фокусирует все внимание на снимке и препятствует
тому блужданию взгляда, которое возможно в музее, когда ваш взгляд
перемещается от одной картины к другой или на окружающее пространство.
В стереоскопе изменение фокуса внимания возможно лишь внутри
сконструированного оптическим прибором канала зрения зрителя.
Наконец, вид фиксирует эту уникальность, эту точку сборки как одну из
частиц в комплексной репрезентации мира, некоего всеобъемлющего
топографического атласа. Иб о физическое пространство, в котором
хранились «виды», - это был, несомненно, каталожный шкаф, в ящиках
которого в пронумерованном виде пребывала целая географическая система.
Каталожный шкаф - это предмет иной, нежели стена или мольберт. Он
предоставляет нам возможность хранить частицы информации, связывать их
между собой перекрестными ссылками, просеивать их сквозь сито нашей
системы знания . Будучи в XIX веке обычным предметом меблировки как
домов среднего класса, так и публичных библиотек, изящно отделанные
шкафы для хранения стереоскопических видов заключают в себе сложную
репрезентацию географического пространства. Создаваемая видами иллюзия
пространства и проникновения зрителя в его глубину играет роль сенсорной
модели для гораздо более абстрактной системы, предметом которой также
является пространство. Вид и путешествие взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Вам также может понравиться
- Реставрация конспектДокумент28 страницРеставрация конспектЕкатерина КудиноваОценок пока нет
- инструкция adsense в дм2Документ59 страницинструкция adsense в дм2Mark PolovtsevОценок пока нет
- A N Benua Istoriya Zhivopisi Vsekh Vremen I Narodov Fragment PDFДокумент21 страницаA N Benua Istoriya Zhivopisi Vsekh Vremen I Narodov Fragment PDFMankindaОценок пока нет
- Opisanie VystavkiДокумент5 страницOpisanie VystavkiМилена УнгурянОценок пока нет
- IzobrazheniyeДокумент971 страницаIzobrazheniyeсьомий деньОценок пока нет
- 834 C 109 D 3735 e 264Документ9 страниц834 C 109 D 3735 e 264demimur20Оценок пока нет
- ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, МЕТОДИКА ИХ ОТБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХДокумент14 страницВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, МЕТОДИКА ИХ ОТБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХMaria BolonkinaОценок пока нет
- Kursovaya OrlovskayaДокумент57 страницKursovaya OrlovskayaЛиза ОрловскаяОценок пока нет
- Audiovizualinaia AntropologhieaДокумент9 страницAudiovizualinaia Antropologhieaelephent.zoo146Оценок пока нет
- Что остается от искусстваДокумент173 страницыЧто остается от искусстваAdriana IОценок пока нет
- Дубровских О.А. Дипломная Работа v3Документ71 страницаДубровских О.А. Дипломная Работа v3Олеся Андреевна ДубровскихОценок пока нет
- исскуство инст меаф статтяДокумент9 страницисскуство инст меаф статтяЮлія ЄфімчукОценок пока нет
- Orlovskaya Ep Fotografiya Kak Jest Razrushenie Mediuma I PeresborkaДокумент173 страницыOrlovskaya Ep Fotografiya Kak Jest Razrushenie Mediuma I PeresborkaЛиза ОрловскаяОценок пока нет
- Juris Jefuni. The Reverse Perspective of The Icon in The Context of Monuments of Staurography of The V - XII CenturiesДокумент17 страницJuris Jefuni. The Reverse Perspective of The Icon in The Context of Monuments of Staurography of The V - XII CenturiesBaltic SymphonyОценок пока нет
- В - П - МАМУГИНА, М - В - НИКОЛЬСКИЙ Prokhorov - S - A - - Shadurin - A - V - Zhivopis - dlya - arkhitektorov - i - dizaynerovДокумент222 страницыВ - П - МАМУГИНА, М - В - НИКОЛЬСКИЙ Prokhorov - S - A - - Shadurin - A - V - Zhivopis - dlya - arkhitektorov - i - dizaynerovKaterina KuzminaОценок пока нет
- Успенский, Семиотика искусства. Москва. Языки русской культуры, 1995Документ417 страницУспенский, Семиотика искусства. Москва. Языки русской культуры, 1995Iryna NesenОценок пока нет
- Питер Осборн. Современное Искусство - Это Постконцептуальное ИскусствоДокумент1 страницаПитер Осборн. Современное Искусство - Это Постконцептуальное ИскусствоОлена ГончарОценок пока нет
- CC Si CC Limitée D FiniДокумент16 страницCC Si CC Limitée D Finizigi29444Оценок пока нет
- Arina Atik Issledovatelskaya Baza Khudozhestvennogo Proekta I ResearchДокумент2 страницыArina Atik Issledovatelskaya Baza Khudozhestvennogo Proekta I ResearchАртём МорозовОценок пока нет
- Диплом (музеи)Документ67 страницДиплом (музеи)6typ4txykmОценок пока нет
- Иващук О.Ф. Я как понятийная формаДокумент313 страницИващук О.Ф. Я как понятийная формаОльга ИващукОценок пока нет
- Arkhiv XXI Veka Rozalind Krauss Podlinnost Avangarda I Drugie Modernistskie Mify 2003 PDFДокумент157 страницArkhiv XXI Veka Rozalind Krauss Podlinnost Avangarda I Drugie Modernistskie Mify 2003 PDFMargarita BalakirevaОценок пока нет
- Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифыДокумент157 страницКраусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифыDariaAtlasОценок пока нет
- Кандинский В. - Точка и линия на плоскости - 2005Документ117 страницКандинский В. - Точка и линия на плоскости - 2005Dzhana DzhanaОценок пока нет
- Ю. Екельчик Изобразительное Мастерство в ФотографииДокумент176 страницЮ. Екельчик Изобразительное Мастерство в ФотографииФедорОценок пока нет
- Лёля Кантор-Казовская. Блеск и нищета искусства на фоне пандемии (сайт "Артгид" 16.09.2020) "Документ20 страницЛёля Кантор-Казовская. Блеск и нищета искусства на фоне пандемии (сайт "Артгид" 16.09.2020) "Lola KantorОценок пока нет
- аритектурный ансамбльДокумент4 страницыаритектурный ансамбльOttobismaОценок пока нет
- К.Богемская. Понять примитив.Документ305 страницК.Богемская. Понять примитив.Turchin AlexeiОценок пока нет
- АРТ - БРЮТ. АДОЛЬФ ВЕЛЬФИДокумент17 страницАРТ - БРЮТ. АДОЛЬФ ВЕЛЬФИTonua LarionovaОценок пока нет
- Iskusstvo Portreta Pod Red Gabrihevskogo 1927Документ215 страницIskusstvo Portreta Pod Red Gabrihevskogo 1927МарияНиколаевнаОценок пока нет
- Райгородский Л. Д. - Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве - (Искусствоведение) - 2016Документ88 страницРайгородский Л. Д. - Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве - (Искусствоведение) - 2016k0t3.1910Оценок пока нет
- Джеймс Элкинс Исследуя визуальный мирДокумент535 страницДжеймс Элкинс Исследуя визуальный мирMar-naОценок пока нет
- 19Документ12 страниц19Kirill PopОценок пока нет
- Srednevekovoye MyshleniyeДокумент358 страницSrednevekovoye MyshleniyeAlexey KhmelevОценок пока нет
- MetodPosobie PanoramyDioramyДокумент43 страницыMetodPosobie PanoramyDioramydarnhalmОценок пока нет
- Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинематографииДокумент110 страницЯмпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинематографииforstaff24Оценок пока нет
- 394185Документ76 страниц394185RVОценок пока нет
- План анализа скульптурного и архитектурного памятникаДокумент4 страницыПлан анализа скульптурного и архитектурного памятникаЕкатерина КудиноваОценок пока нет
- Logos 2010 4Документ144 страницыLogos 2010 4張浩淼Оценок пока нет
- ЛИЦО-ЦИФЕРБЛАТ И "On the Invention of Photographic Meaning" АЛАНА СЕКУЛАДокумент7 страницЛИЦО-ЦИФЕРБЛАТ И "On the Invention of Photographic Meaning" АЛАНА СЕКУЛАЛиза ОрловскаяОценок пока нет
- Metody Razvitiya Obyomno Prostranstvennyh Predstavleniy Studentov Hudozhestvennogo VuzaДокумент4 страницыMetody Razvitiya Obyomno Prostranstvennyh Predstavleniy Studentov Hudozhestvennogo VuzaMariana CarpОценок пока нет
- киноведческие записки живопись и киноДокумент12 страницкиноведческие записки живопись и киноMaria TarasovaОценок пока нет
- Антон Вершовский. Стрит-фотография Открытие Полоскости. 2011Документ256 страницАнтон Вершовский. Стрит-фотография Открытие Полоскости. 2011Nelli RossОценок пока нет
- 11323974 (2)Документ54 страницы11323974 (2)Vero TlbОценок пока нет
- Exhibition Tendentious Magister WorkДокумент138 страницExhibition Tendentious Magister WorkOlexiy NepiypyvoОценок пока нет
- Stilizaciya V Dekorativno PriklaДокумент43 страницыStilizaciya V Dekorativno Priklaalexandra kaminskayaОценок пока нет
- ВКР ЛихманюкДокумент68 страницВКР ЛихманюкАнастасия ДобровольскаяОценок пока нет
- 31607401Документ30 страниц31607401Lubava ChistovaОценок пока нет
- Старикова, Поговорим о русской живописиДокумент127 страницСтарикова, Поговорим о русской живописиОльгаОценок пока нет
- life death 22 01 (1) 05м06Документ60 страницlife death 22 01 (1) 05м06VeraShabunyaОценок пока нет
- проект по музеюДокумент6 страницпроект по музеюАнастОценок пока нет
- Словарь историка. Отв. ред. Николя Оффенштадт PDFДокумент223 страницыСловарь историка. Отв. ред. Николя Оффенштадт PDFМаксим ЗелінськийОценок пока нет
- Лукач ЛифшицДокумент10 страницЛукач ЛифшицalexОценок пока нет
- Camera LucidaДокумент87 страницCamera LucidaOlga GelungОценок пока нет
- ЮреньеваДокумент575 страницЮреньеваLina0% (1)
- Korolkova, E. F. (2020) - About Styles and MetamorphosesДокумент7 страницKorolkova, E. F. (2020) - About Styles and MetamorphosesmarianalfcastroОценок пока нет
- Rolan Bart I Fotografiya Ili Proyavlenie IzobrazheniiДокумент14 страницRolan Bart I Fotografiya Ili Proyavlenie IzobrazheniiMemSadePeSade MemSadePeSadeОценок пока нет
- Rabochaya Tetrad Istoria Iskusstv Chast 2Документ193 страницыRabochaya Tetrad Istoria Iskusstv Chast 2Дарья БирюковаОценок пока нет
- Di Mauro TraduzioneДокумент19 страницDi Mauro TraduzionePaolo SeriОценок пока нет
- Légions LégendairesДокумент80 страницLégions Légendaireszui85Оценок пока нет
- Спасите Котика! И Другие Секреты Сценарного МастерстваДокумент226 страницСпасите Котика! И Другие Секреты Сценарного Мастерстваnisin70757Оценок пока нет
- Моя дипломна роботаДокумент1 страницаМоя дипломна роботаErnest LukachОценок пока нет
- (Download PDF) Beginning Matlab and Simulink From Beginner To Pro 2Nd Edition Sulaymon Eshkabilov Full Chapter PDFДокумент69 страниц(Download PDF) Beginning Matlab and Simulink From Beginner To Pro 2Nd Edition Sulaymon Eshkabilov Full Chapter PDFcarmyuath100% (8)
- It S Splitsville Surviving Your DivorceДокумент295 страницIt S Splitsville Surviving Your Divorcebeleanadrian-1Оценок пока нет
- фывДокумент2 страницыфывAndrii SosonnyiОценок пока нет
- PEA Zambia 2018 Primary CatalogueДокумент32 страницыPEA Zambia 2018 Primary CatalogueTaonga MumbaОценок пока нет
- Единый реестр интернет-рекламы, ЕРИРДокумент2 страницыЕдиный реестр интернет-рекламы, ЕРИРЛеонид КурочкинОценок пока нет
- Список Доступных Спутниковых Каналов - Таблица Спутниковых Частот и КаналовДокумент27 страницСписок Доступных Спутниковых Каналов - Таблица Спутниковых Частот и КаналовNNikОценок пока нет
- HotDQ - Elturel Quest GMJДокумент1 страницаHotDQ - Elturel Quest GMJStanislavОценок пока нет
- Tomb of Annihilation RUS PDFДокумент274 страницыTomb of Annihilation RUS PDFсаша куз100% (1)