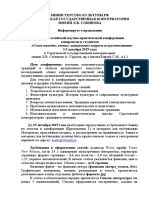Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Sas 1
Загружено:
Alexey Gorbunov0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
12 просмотров18 страницОригинальное название
sas1
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
12 просмотров18 страницSas 1
Загружено:
Alexey GorbunovАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 18
Фантастическая симфония — первое зрелое сочинение 26-летнего
Берлиоза. Тогда он еще учился в Парижской консерватории и готовился
— в который раз! — принять участие в конкурсе на Римскую премию.
Консервативные профессора были неспособны понять новаторские
устремления дерзкого ученика и неизменно отвергали представляемые
им кантаты. Лишь летом 1830 года, решив «стать настолько маленьким,
чтобы пройти через врата рая», он завоевал вожделенную награду.
Заканчивал кантату «Смерть Сарданапала» Берлиоз под гром пушек —
в Париже бушевала Июльская революция.
А за полгода до того, 6 февраля, он писал другу: «Я готов был
начать мою большую симфонию, где должен был изобразить развитие
адской страсти; она вся в моей голове, но я ничего не могу написать».
16 апреля он сообщал об окончании симфонии под названием «Эпизод
из жизни артиста. Большая фантастическая симфония в пяти частях».
Таким об разом, авторское название первой симфонии Берлиоза не
соответствует тому, что утвердилось за ней на века: фантастическая
симфония — определение своеобразной трактовки композитором
жанра, как позднее драматическая симфония — «Ромео и Джульетты».
Артистом, о котором рассказывает симфония, был он сам,
запечатлевший в музыке — с соответствующими романтическими
преувеличениями — один, но важнейший эпизод своей жизни. 29 мая
1830 года, накануне предполагавшейся премьеры, в газете «Фигаро»
была помещена программа симфонии, вызвавшая острое любопытство.
Весь Париж жадно следил за развертывающейся романтической драмой
любви Берлиоза и Генриетты Смитсон.
Двадцатисемилетняя ирландка, приехавшая в Париж на гастроли
осенью 1827 года в составе английской труппы, знакомившей Францию
с трагедиями Шекспира, потрясла публику своими Офелией и
Джульеттой. Берлиоз преследовал ее «вулканической страстью», но
модная актриса, по словам одного из критиков, презирала его. Берлиоз
мечтал об успехе, который привлек бы ее внимание, впадал в отчаяние и
помышлял о самоубийстве. Концерт, где должна была прозвучать
Фантастическая, был отложен на несколько месяцев; трудности в
процессе его подготовки композитор сравнивал с переходом Великой
армии Наполеона через Березину. Премьера состоялась с большим
успехом 5 декабря 1830 года в Парижской консерватории под
управлением Франсуа Габенека — создателя первого во Франции
симфонического оркестра. Впоследствии Берлиоз внес ряд добавлений,
изменил порядок частей и несколько переработал программу.
Окончательная редакция симфонии была исполнена, также под
управлением Габенека, 9 декабря 1832 года.
Фантастическая симфония — первая программная симфония в
истории романтической музыки. Берлиоз сам написал текст программы,
которая представляла собой подробное изложение сюжета,
последовательно развивающихся событий каждой части. Впрочем, как
сообщал композитор в предисловии, можно ограничиться только
названиями пяти частей.
«Программа симфонии. Молодой музыкант с болезненной
чувствительностью и пламенным воображением в припадке любовного
отчаяния отравляется опиумом. Доза наркотика, слишком слабая, чтобы
умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое
тяжелыми видениями, во время которого его ощущения, чувства, его
воспоминания превращаются в его больном мозгу в мысли и
музыкальные образы. Сама любимая женщина стала для него мелодией
и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду.
Первая часть. — Мечтания. Страсти. Он вспоминает прежде
всего это душевное беспокойство, это смятение страстей, эту
меланхолию, эту беспричинную радость, которые он испытал, прежде
чем увидел ту, которую любит; затем вулканическю любовь, которую
она внезапно внушила ему, свои безумные тревоги, свой ревнивый гнев,
возвращение радости, свои религиозные утешения.
Вторая часть. — Бал. Он находит любимую вновь на балу,
посреди шума блестящего празднества.
Третья часть. — Сцена в полях. Однажды вечером, находясь в
деревне, он слышит вдали пастухов, которые перекликаются пастушьим
наигрышем; этот пасторальный дуэт, место действия, легкий шелест
деревьев, нежно колеблемых ветром, несколько проблесков надежды,
которую он недавно обрел, — все способствовало приведению его
сердца в состояние непривычного спокойствия и придало мыслям более
радужную окраску. — Но она появляется снова, его сердце сжимается,
горестные предчувствия волнуют его, — что если она его обманывает...
Один из пастухов вновь начинает свою наивную мелодию, другой
больше не отвечает. Солнце садится... отдаленный шум грома...
одиночество... молчание...
Четвертая часть. — Шествие на казнь. Ему кажется, что он убил
ту, которую любил, что он приговорен к смерти, его ведут на казнь.
Кортеж движется под звуки марша, то мрачного и зловещего, то
блестящего и торжественного, в котором глухой шум тяжелых шагов
следует без перерыва за самыми шумными выкриками. В конце вновь
появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви,
прерванная роковым ударом.
Пятая часть. — Сон в ночь шабаша. Он видит себя на шабаше,
среди ужасного скопища теней, колдунов, чудовищ всякого рода,
собравшихся на его похороны. Странные шумы, завывания, взрывы
смеха, отдаленные крики, которым, кажется, отвечают другие крики.
Любимая появляется снова; но она утратила свой характер благородства
и робости; это не что иное, как непристойный танец, тривиальный и
гротескный, это она пришла на шабаш... радостный вой при ее
приходе... она вмешивается в дьявольскую оргию... Похоронный звон,
шутовская пародия на Dies irae; хоровод шабаша. Хоровод шабаша и
Dies irae вместе».
Эта программа звучала для молодежи того времени не просто как
любовная история самого автора или другого конкретного человека.
Впервые в музыке был воплощен образ типичного романтического
героя, уже открытого литературой — мятущегося, разочарованного, не
находящего места в жизни. Такого героя называли байроническим, ибо
он был излюбленным персонажем произведений английского поэта, или
— еще более точно — сыном века, по названию романа Альфреда де
Мюссе «Исповедь сына века». Находили в берлиозовской программе
переклички и с повестью Гюго «Последний день приговоренного к
смертной казни».
Музыка
Первая часть — «Мечтания. Страсти» — открывается медленным
вступлением. Певучая тема скрипок с меланхолическими вздохами,
развивающаяся широко и неторопливо, заимствована из одного из
первых сочинений Берлиоза — романса «Эстелла» (так звали девушку,
в которую был безнадежно влюблен автор, тогда 12-летний мальчик).
Сонатное аллегро («Страсти») целиком строится на одной теме —
сквозном лейтмотиве, проходящем через всю симфонию как навязчивая
идея, ассоциирующаяся в больном воображении музыканта с его
возлюбленной (эта тема была найдена композитором ранее — в кантате
«Эрминия», представленной на Римскую премию в 1828 году).
Поначалу светлая и скромная, тема пред ставлена рельефно, без
сопровождения, в унисонном звучании флейты и скрипок. В процессе
развития она передает смятение, душевные порывы, в разработке
приобретает тревожный, мрачный характер. Ее мотивы сочетаются с
меланхолическими вздохами вступления.
Вторая часть — «Бал» — удивительное открытие Берлиоза: он
впервые вводит в симфонию вальс, заменяя этим символом романтизма
и старинный менуэт, обязательный в классической симфонии, и более
новое бетховенское скерцо. Таинственные тремоло струнных и
красочные арпеджио арф приводят к легкому кружению прелестной
вальсовой темы у скрипок, украшенной стаккато деревянных духовых и
пиццикато струнных. Среди безмятежной картины бала возникает образ
возлюбленной. Ее тема нежно, грациозно звучит у флейты, гобоя и
кларнета под прозрачный аккомпанемент струнных. И вновь —
кружение вальса с темой в ином оркестровом наряде, словно все новые
пары скользят в увлекательном танце. Внезапно он обрывается — и
солирующий кларнет повторяет тему возлюбленной.
Третья часть — «Сцена в полях» — заменяет традиционное
адажио. Это пасторальная картина, спокойная, безмятежная (не
случайно в оркестре умолкают медные духовые, остаются лишь 4
валторны). Перекликаются свирели пастухов (английский рожок и
гобой), затем изобретательно варьируется плавная, неторопливая
мелодия. Однако и здесь возникает тема возлюбленной — страстная,
напряженная, она разрушает покой пасторальной сцены. Необычна
выразительность коды. Струнные полифонически развивают
пасторальную тему, на ее фоне в перекличках деревянных духовых
возникает тема возлюбленной. Когда все стихает, английский рожок
заводит свой начальный свирельный наигрыш, но вместо ответа гобоя
звучит тревожное тремоло литавр, подобное отдаленным раскатам
грома. Так пастораль завершается предчувствием грядущих
драматических событий.
Резкий контраст создает четвертая часть — «Шествие на казнь».
Вместо сельского пейзажа, плавных, неторопливых пасторальных тем
— жесткий марш, то грозный, то блестящий, в оглушительном звучании
оркестра с усиленной группой медных и ударных инструментов. Этот
марш заимствован из первой, неосуществленной композитором оперы
«Тайные судьбы» на кровавый средневековый сюжет. Вначале
слышится глухой гул собирающейся толпы. Затем возникает первая
тема марша — мрачный нисходящий унисон виолончелей и
контрабасов. Вторая маршевая тема — броская, блестящая, в
исполнении духового состава оркестра с ударами литавр. В коде, как
нередко у Берлиоза, музыка прямо иллюстрирует программу: «вновь
появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви,
прерванная роковым ударом». Солирующий кларнет — этот инструмент
персонифицирует образ возлюбленной — поет основной лейтмотив. Его
нежное и страстное звучание обрывает мощный удар всего оркестра —
удар палача, за которым следуют три глухих ниспадающих звука
(пиццикато струнных), словно стук отрубленной головы, упавшей на
деревянный помост, — стук, тотчас же заглушаемый неистовой дробью
солирующего малого барабана и литавр, а затем — ревом аккордов
духовой группы.
Финал, заголовок которого — «Сон в ночь шабаша» — пародирует
французское название комедии Шекспира, наиболее поразителен в этой
новаторской симфонии. Волшебные эффекты инструментовки
изумляют до сих пор. В медленном вступлении возникает картина
слетающихся на шабаш фантастических существ: таинственное
шуршание струнных, глухие удары литавр, отрывистые аккорды
медных и фаготов, возгласы флейт и гобоев, которым эхом отвечает
солирующая валторна с сурдиной. В центре вступления — явление
возлюбленной, но не идеального романтического образа
предшествующих частей, а непристойной ведьмы, исполняющей
гротескный танец. Кларнет, словно кривляясь, под аккомпанемент
литавр интонирует неузнаваемо измененный лейтмотив. Раскаты
оркестра восторженным хохотом приветствуют прибытие царицы
шабаша, и она начинает свой танец — лейтмотив предстает в крикливом
тембре кларнета-пикколо (этот прием трансформации тематизма,
впервые использованный Берлиозом, получит широчайшее применение
в творчестве многих композиторов XIX—XX веков). Отдаленное
звучание колоколов возвещает появление еще одной издевательски
трактуемой темы: у фаготов и офиклеидов звучит средневековый напев
Dies irae — День гнева (Страшный Суд), открывая «черную мессу». Из
нее рождается хоровод шабаша — основной раздел финала. Среди
множества оркестровых эффектов, изобретенных Берлиозом, один из
самых знаменитых — в эпизоде пляски мертвецов, стук костей которых
передается игрой древком смычка на скрипках и альтах. Плясовая тема
хоровода нечисти развивается полифонически, а на кульминации
соединяется с темой Страшного Суда.
ШОПЕН СОНАТА №2
Больше десятилетия отделяет первую сонату от второй, си-
бемоль минорной. Завершение второй сонаты с похоронным маршем
относится к 1839 году, следовательно Шопен работал над ней в пору
наивысшего творческого расцвета. Соната b-moll — плод не только
чудесного откровения, озарившего художника: это итог непрестанных
исканий, сопровождающих каждый шаг большой творческой жизни
художника.
По своей концепции, размаху, степени эмоционального
воздействия соната b-moll может быть сравнима с самыми
значительными явлениями симфонической музыки. Величие этой
сонаты предопределено слитностью драматической судьбы художника с
трагедией целого поколения, отождествлением личных страданий со
страданиями всего народа. Тема Родины, сплетаясь с проблемой жизни
художника, оторванного от питающих его корней, выражена с
драматизмом, сила которого удивительна даже для Шопена.
В четырехчастной композиции сонаты, как в большом романе или
многоактном драматическом произведении, повинуясь логике ведущей
идеи — трагической нерасторжимости судеб личной и народной —
показан сложный процесс перехода от психологической драмы к
эпической картине всеобщего горя.
Вот почему похоронный марш, сочиненный значительно раньше
других частей, так естественно «вписался» в общую композицию
сонаты. Более того, этот марш (третья часть сонаты) составляет центр
или ось всего произведения.
Есть некоторая аналогия с Героической симфонией Бетховена: в
обоих случаях похоронный марш помогает осознать концепцию
произведения. У Шопена, в отличие от Бетховена, глубоко трагическую.
Скорбный лиризм и мрачная сила «этого единственного в своем
роде марша» (Стасов) могли быть навеяны событиями только
эпического значения и масштаба.
Образам смерти, гибели, господствующим в третьей части и в
финале, предшествуют внутренние коллизии, раскрытые в первых двух
частях. Это полная беспредельного драматизма борьба жизни и смерти,
невозможность примирить мечту с действительностью, поиски выхода,
избавления.
Три темы воплощают образное содержание первой части:
лаконичное четырехтактное медленное вступление как бы ставит
вечный гамлетовский вопрос: «быть или не быть». Нисходящий
мелодический оборот на уменьшенную септиму ассоциируется с
подобными оборотами скорбно-философских тем И. С. Баха. Но здесь
скорбность, самоуглубленность мысли усилены романтической
сгущенностью эмоционального фона, его мрачной тембровой окраской,
крайней напряженностью гармонического звучания. Ход на
уменьшенную септиму, упор на вводный к доминанте звук, выделенный
к тому же предъемом, подчеркивает его многозначительность и
чрезвычайно обостряет силу интонационного тяготения.
Аккордовый склад вступления как бы расслаивается движением по
горизонтали включенных в гармонический комплекс звуков.
Неодновременность вступлений голосов, так же как и их разрешений,
накапливает неустойчивость, выявляя скрытую динамику этого
своеобразного эпиграфа.
Так, ми бекар (в басу) переходит в относительно устойчивый
звук f раньше, чем наступает разрешение верхнего голоса (des — с) и
среднего, с его хроматическим ходом as — а — b; последний звук (b) в
качестве основного тона появляется уже за гранью вступления, в
главной партии:
Интонационно главная партия тесно связана со вступлением. В
разных положениях появляется оборот уменьшенной септимы,
превращенный в большую сексту или большую септиму; многообразно
и интенсивно развитие секундовых интонаций; даже волевой импульс
затактового хода на восходящую кварту (f — b) берет начало в
квартовом обороте баса (f — b), соединяющем вступление с началом
главной партии. При таком интонационном единстве еще резче
становится различие психологических состояний — трагическая
торжественность вступления взрывается смятенно-лирическим
излиянием главной партии:
Лишь короткий модуляционный ход отделяет главную партию от
побочной. Тем просветленнее звучит Des-dur побочной партии.
Поэтической возвышенностью мысли окрашено первое проведение
новой темы. Мягкость ее аккордового звучания, устранение
диссонантности, долгие длительности вызывают иллюзию замедленного
движения. Задушевно-мечтательному пению верхнего голоса отвечают
фразы мелодизированного баса. В дальнейшем развертывании они
насыщают своей экспрессией всю фактуру побочной партии:
С каждым последующим проведением темы растет ее лирическая
наполненность, достигая в момент кульминации самозабвенного
восторга (здесь хочется обратить внимание на мастерство, с каким
Шопен, пользуясь приемом дополнительной ритмики, мелодизирует
всю фактуру и, в частности, басовый голос, которому поручается
ведение собственной мелодической линии).
Но все в этой сонате соткано из противоречий. В заключительной
партии суетливо и тревожно разбегающиеся секвенции из коротких
аккордовых звеньев со сложной альтерацией и неожиданными
модуляционными поворотами разрушают атмосферу побочной партии,
возвращают в круг вопросов, поставленных во вступлении и главной
партии.
Драматизм разработки — в непрекращающемся столкновении
конфликтных элементов. Внимание сосредоточено на развитии
интонаций главной партии и вступления. В начале разработки главная
партия и вступление «меняются местами»: в глухих низких регистрах,
отведенных ранее для вступления, зловеще звучат отрывистые
интонации главной партии. Как ответ в этом своеобразном диалоге,
проходят измененные обороты из вступления:
Трансформированные мотивы вступления так же, как и
проносящиеся отголоски побочной партии, образуют лирическое
противодействие усиливающемуся драматизму главной партии. Цепь
секвенций ведет к кульминации, в которой темы вступления и главной
партии сливаются воедино:
В противовес лирической взволнованности кульминационных
моментов экспозиции в разработке конфликт непрерывно
сталкивающихся контрастных элементов приводит к кульминации
трагической.
В масштабах всей разработки, небольшой по сравнению с
экспозицией, кульминация выделяется своей протяженностью. В двух
кульминациях — лирической в экспозиции, трагедийной в разработке
— обобщается основная мысль.
В первой части цикла, написанной в собственно сонатной форме,
наблюдается явление, двойственное по своей природе. Шопен,
неукоснительно следуя традиции, повторяет экспозицию, от чего
отказался уже Бетховен во многих сонатах, начиная с ор. 53, но к чему
вернулись романтики: Шуберт, Шуман и даже Берлиоз. С другой
стороны, логика развития, само движение музыкальных образов
заставили Шопена тут же нарушить привычную форму классической
сонаты в поисках новых закономерностей. Ярче всего это сказалось на
положении репризы. В сонате b-moll реприза зеркальная: она
начинается с побочной партии, затем следует заключительная, а после
нее вводится главная (фактически это возвращение темы главной
партии происходит уже в коде).
Необычность такой формы вызвана, по-видимому, желанием
противопоставить господству мрачных сил в разработке нечто,
способное им противодействовать. Лирический поток, которым широко
разливается побочная партия, на какое-то время рассеивает тяжелую
атмосферу разработки. В репризе тема побочной партии перенесена в
B-dur. Расположенная в значительно более высоком регистре (по
сравнению с экспозицией) при широком диапазоне и плотности
фактуры, она приобретает и большую крепость, уверенность. Теперь
даже заключительная партия, которая в экспозиции способна была
мгновенно затмить лирическую восторженность побочной партии, в
репризе меняет свой тревожный характер. Весь ее гармонический остов
проще и яснее, «надежнее» опора ее доминантового и тонического
трезвучий. Казалось бы, установилось некоторое равновесие между
разработкой и репризой, даже с перевесом в сторону светлой побочной
партии. Однако в коде короткий, но сокрушительный натиск главной
партии уничтожает все, что с трудом было достигнуто. Диссонансные
созвучия резких ударов аккордов одновременно со срывающимися
интонациями главной партии в самых низких регистрах фортепиано и в
октавном удвоении — концентрированное выражение разрушительного
начала. Плагальный каданс с минорной субдоминантой закрепляет его
победу. Три мажорных заключительных аккорда уже ничего изменить
не могут. С неумолимой логикой раскрывается в дальнейшем
повествовании трагическая идея произведения.
Во второй части уже нет противостоящих друг другу сил. Вся
поэзия жизни отодвигается куда-то вглубь, в области грез и далекой
мечты.
Скерцо (es-moll) — это царство злого, стучащего ритма, его
мрачной энергии.
Есть некоторое сходство между репетирующей основной ритмо-
интонацией скерцо и некоторыми ритмическими оборотами
заключительной партии первой части:
Другой, нагнетающий поступательное движение, элемент —
короткий хроматический ход быстро взбирающихся вверх октав. К
первым двум образованиям темы присоединяется еще новая мелодико-
ритмическая фигура, отдаленно связанная с танцевальными образами.
Природу этого третьего элемента трудно распознать сразу. Более
явственно она проступает в момент кульминации первой части скерцо,
где формируется небольшое секвенционное построение; в его
танцевальном ритме причудливо отражается образ или мазурки или
полонеза. В сложном единстве темы обобщается внутреннее
содержание скерцо, одновременно становится ясной и
предначертанность дальнейшего трагического хода «действия»:
Аккорды fortissimo в заключительной фразе первой части с
резкими перемещающимися акцентами, категоричность последнего
каденционного оборота октавных унисонов утверждают ее «недобрую»
направленность.
Без всякого перехода начинается средняя часть скерцо (Ges-dur).
Но это уже совсем иная сфера — тихий медленный вальс. Здесь с
вальсом, как в будущих концепциях симфоний Чайковского, связано то
прекрасное, что приносила жизнь: красоту любви, дружбы,
опоэтизированного привычно-родного быта, все, что хотя бы на время
помогало забыться, отстранить тревожные предчувствия гибели. Но эти
образы лишены действенности, их смысл — в пассивном
противопоставлении грезы действительности.
Очертания нового образа вырисовываются не сразу. Сначала, как
из какого-то далека, легким наплывом доносится медленное
вальсообразное покачивание. Это — сопровождение, мелодия же
вступает только в пятом такте. Пластично округлая, она точно плывет,
поддерживаемая тихим ритмическим покачиванием. Ей вторят легкие
вздохи падающей секундовой интонации, от которой берет начало
контрапунктирующая мелодия в средних голосах. Удивительна при
такой заполненной фактуре нежность и мягкость звучания этого вальса:
Минорный лад (b-moll) как бы окружает ее меланхолической
дымкой. Некоторое оживление, заметное в процессе развития, и
тематически новый эпизод в Des-dur не влияют на общий
созерцательно-лирический характер всей средней части:
Реприза, подготовленная активностью ритма хроматически
нисходящих октав в небольшом связующем построении, без изменений
повторяет первую часть скерцо.
Буквальное воспроизведение всей первой части окончательно
разъединяет обе сферы, обозначая их полную непримиримость. Правда,
в коде происходит некоторое возвращение к просветленности Ges-dur
(тональность вальса). Тема вальса звучит отстраненно, без прежнего
лирического тепла, все дальше отодвигается вглубь, в небытие.
Свершилось непоправимое. Последние две части — трагический
эпилог.
Третья часть — Траурный марш. По сравнению с бетховенским
маршем из Героической симфонии похоронный марш Шопена
неизмеримо более скромен. В нем нет суровой героики, ораторской
патетики, прославления подвигов павших героев. Но Шопен, проникая в
самые скрытые глубины человеческого горя, раскрывает их с
экспрессией, никому еще недоступной. В то же время поражает и
внутренняя значительность, масштабность, эпическое величие
шопеновского марша. Вот что писал об этом Стасов: «Знаменитый в
целом мире „похоронный марш“ этой сонаты, совершенно
единственный в своем роде, явно изображает шествие целого народа,
убитого горем, при трагическом перезвоне колоколов...». Примерно та
же мысль сквозит в словах Листа: «Можем ли мы обойти
молчанием похоронный маршиз его первой сонаты, который был
инструментован и исполнен в первый раз во время траурной церемонии
его похорон?! Поистине, нельзя было найти другие звуки, чтобы
выразить все то душу раздирающее чувство, те слезы, которые должны
были сопровождать к месту последнего успокоения того, кто с таким
высоким совершенством постиг, как оплакиваются великие потери!..
Возникает чувство, что не смерть одного лишь героя оплакивается
здесь... а пало все поколение...».
В третьей части сонаты традиционная форма марша с контрастом
средней части — трио — становится средством, максимально
усиливающим его трагическую скорбность.
Кристальная чистота озаренного внутренним светом образа,
«абсолютная» красота музыки трио противопоставлена бесстрастному,
как сама смерть, шагающему ритму, похоронному перезвону колоколов:
После такого марша нет возврата к свету, к жизни. Именно здесь, в
похоронном звучании третьей части, происходит драматическое
завершение сонаты. Недаром этот марш Шопен поставил на место
третьей, а не второй части, как у Бетховена в Героической симфонии
(напомним концепцию Шестой симфонии Чайковского).
Четвертая часть — финал — самый мрачный эпизод всей сонаты.
А Г. Рубинштейн находил в финале «гениальное изображение ветра,
бесконечными струями проносящегося одинаково над могилами героев,
безвестно павших в бою»:
Трагическая эпопея сонаты — беспощадный приговор художника
жестокости века и окружающей действительности.
1. Оперы Р. Вагнера 40-х гг: «Тангейзер»
В опере «Тангейзер» Вагнер соединил три легенды: о рыцаре
миннезингере Тангейзере, долгие годы предававшемся чувственным
наслаждениям в царстве Венеры, о Вартбургском состязании певцов и о
святой Елизавете. Герой первой легенды – Тангейзер – действительное
историческое лицо, миннезингер XIII века. Согласно народному
преданию, богиня Венера заманила его в свои покои, но бог простил
Тангейзеру беспутство. Желание сделать Тангейзера героем своей
оперы внушило ему само народное сказание в его чистом виде. Именно
оно подсказало мысль ввести в оперу сцену состязания певцов в
Вартбурге.
Вторая легенда в концепции Вагнера сильно отличается от изложения
её в новелле Гофмана, у которого выступает миннезингер Генрих фон
Офтердинген, а не Тангейзер, т.к. описанное Гофманом состязание
происходило за десять с лишним лет до рождения Тангейзера. Вагнер
привнес в образ Тангейзера черты Офтердингена, как бы объединив в
одном лице их обоих. Наряду с Тангейзером в опере Вагнера
представлены и другие исторические персонажи – немецкие
миннезингеры Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах,
Генрих Шрейбер, Рейнмар фон Цветтер.
Героиней третьей легенды является Елизавета, венгерская принцесса,
племянница Германа – ландграфа Тюрингского. Будучи выдана замуж
за сына ландграфа, грубого и дикого воина, Елизавета всю жизнь
жестоко страдала и после смерти была причислена к лику святых.
Вагнер связал судьбу Елизаветы с судьбой Тангейзера.
Вся концепция сводится к следующему: два мира противопоставлены
друг другу – мир духовного благочестия, строгого нравственного долга
и мир чувственных плотских наслаждений. Воплощением чувственного,
«греховного» мира является богиня Венера, воплощением же мира
идеального, мира чистой беззаветной любви – невеста Тангейзера
Елизавета. Вокруг каждого из этих образов группируется множество
других персонажей, составляющих как бы фон и дополняющих образ. У
Венеры это мифологические наяды, сирены, нимфы, вакханки,
влюбленные пары, полные чувственной страсти; у Елизаветы –
благочестивые рыцари – певцы чистой любви, пилигримы,
совершающие путь в Рим к папе для отпущения грехов, для святого
покаяния.
Мир Венеры и окружающих её мифологических существ - очень
важный пласт музыкальной выразительности оперы. Его отличают
хроматизмы, уменьшенные гармонии, тональная неустойчивость,
богатство оркестрового колорита. Образы рыцарей – певцов чистой
любви и пилигримов – другой, не менее важный пласт. Эта музыка
примечательна диатоническим складом, строгой просветленной
хоральностью, относительно скромной оркестровой звучностью.
Если музыкальная характеристика Венеры и её волшебной свиты в
основном сосредоточена в оркестре, то в сфере реальных персонажей на
первый план выступает вокал, напевная декламация (сцена состязания
певцов) или благоговейно-созерцательная мелодия (хоры пилигримов,
романс Вольфрама «К вечерней звезде», молитва Елизаветы).
Вагнер резко возражал против чисто религиозного понимания его
драмы. Вагнер утверждает жажду любви земной, но чистой. Испытывая
влечение то к Венере, то к Елизавете, Тангейзер ищет путей к
примирению любви чувственно-сладострастной и идеально-
возвышенной. Но этого примирения не находит. Лишь великой
любовью и смертью Елизавета искупает грех Тангейзера, которые
получает прощение тоже в смерти.
В Тангейзере есть тенденция к преодолению законченных номеров, есть
многократно повторяющиеся темы, формирующие единство всей
интонационной ткани, весьма велика роль оркестра. Лейтмотивное
значение приобретают развернутые, завершенные темы или мелодии,
звучащие неоднократно на протяжении всей партитуры либо целиком,
либо частично. Таковы темы грота Венеры, рыцарский гимн Тангейзера,
хор пилигримов, темой которого начинается увертюра. В Тангейзере,
основанном на сменяющих друг друга сквозных сценах, больше
относительно законченных арий, ариозо, дуэтов, ансамблей, хоров,
образующих как бы «номера» внутри большой сцены. Хотя в опере они
и связаны непосредственными переходами с предыдущим и
последующим, но могут быть выделены и для самостоятельного
концертного исполнения. Таковы ария и молитва Елизаветы, песня
Вольфрама на состязании певцов, его же романс «К вечерней звезде». В
отличие от традиционной оперы главный герой не имеет законченной
арии – ни выходной, ни какой-либо иной. Его образ ярко раскрывается в
больших сценах. Один из самых впечатляющих эпизодов оперы –
замечательная драматическая сцена – рассказ Тангейзера.
Гениальнейшим созданием романтического программного симфонизма
является огромная увертюра к Тангейзеру. В этой увертюре в
концентрированной симфонической форме воплощена
драматургическая концепция оперы – противопоставление двух начал,
двух миров, составляющее её интонационный конфликт.
Если взять увертюру в полном масштабе, она представляет собой
большую трехчастную композицию с динамической репризой. Первая и
третья части основаны на хорале пилигримов и теме покаяния
Тангейзера. В репризной части хорал разрастается до грандиозной
мощи и, закованный в броню медных инструментов, увенчивает
увертюру с ослепительным блеском. Средняя часть изображает грот
Венеры с его волшебными чарами и Тангейзера, прославляющего в
рыцарском гимне красоту богини.
ПОЯВЛЕНИЕ ТЕМ УВЕРТЮРЫ В ПОСЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
Большая сцена Тангейзера и Венеры – типичная для зрелого творчества
Вагнера диалогическая сцена сквозного развития, где почти нет
совместного дуэтного пения, где небольшие эпизоды песенно-ариозного
характера включаются в общее непрерывное движение.
При сквозном, непрерывном развитии скрепляющее, цементирующее
значение в этой сцене, написанной, главным образом, в речитативном
стиле, имеет рыцарский гимн Тангейзера.
Песня содержит 2 части: марш, прославляющий красоту Венеры и
страстную мольбу об освобождении. Эта вторая часть песни
варьируется, обнаруживая замечательное умение Вагнера бесконечно
разнообразить одну и ту же мелодию.
Венера в первой сцене имеет два контрастных ариозо. В первом она
нежнейшей, сладостной мелодией зовет Тангейзера вкусить блаженство
в её волшебном гроте. Фоном чарующего своей красотой ариозо
являются трепетно тремолирующие скрипки, разделенные на четыре
партии с добавлением солирующей скрипки в высочайшем регистре,
интонирующей тему ГП увертюры. Второе ариозо Венеры,
раздраженной нежеланием Тангейзера остаться у нее, носит совершенно
иной характер – характер возбужденной речи оскорбленной женщины.
Гнев, смешанный с иронической насмешкой, получает свое выражение
в разорванных фразах, в выкриках, в широких интервалах.
Новаторской в полном смысле этого слова является сцена состязания
певцов, которые в песнях стремятся раскрыть сущность любви. По
очереди выступают миннезингеры, аккомпанируя себе на арфе:
Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, Битерольф,
снова Вольфрам. Все они воспевают идеальную «божественную»
любовь. Тангейзер противопоставляет им свою концепцию любви:
жаркое чувство, охватывающее человека, источник, к которому нужно
жадно прильнуть.
Песни рыцарей отличаются напевным речитативом, мало
индивидуализированным и однородным. Только обе песни Вольфрама
выделяются своей более выразительной, более кантиленной мелодией,
но тоже с элементами речитативности.
Выступления Тангейзера со своей концепцией любви тоже речитативы,
но они отличаются более энергичным, повышенно-экспрессивным
характером, превращающим речитатив в страстно-напряженную
мелодию. Тангейзер еще продолжает находиться во власти чар Венеры,
поэтому его выступления сопровождаются реминисценциями в оркестре
музыки грота Венеры. Последняя его песня – гимн Венере.
Отрывистые реплики рыцарей и хора, сумятица голосов очень
выразительно передают ужас, вызванный выступлением Тангейзера в
честь богини Венеры. В этой финальной сцене хоры и ансамбли
чередуются с сольными фрагментами; среди них особенно выделяется
голос Елизаветы, выступающей в защиту Тангейзера. Пение Елизаветы
все больше приобретает хоральный характер, особенно там, где она
говорит о готовности молитвой искупить грех Тангейзера.
Третий акт – наиболее цельный и ровный по музыке. Сначала может
показаться, что первая его половина состоит из отдельных номеров –
хора пилигримов, молитвы Елизаветы, романса Вольфрама. Но все эти
«номера» настолько между собой спаяны, так органично связаны
непосредственными переходами, что создается впечатление целостной
сцены. Хор пилигримов является репризой первой части увертюры.
Молитва Елизаветы является как бы продолжением хора пилигримов.
Рассказ Тангейзера – один из многочисленных и наиболее потрясающих
рассказов в операх Вагнера. Повторяющаяся неоднократно тема – мотив
паломничества - у альтов, а дальше у виолончелей, сопровождает
печальное повествование. Первая часть рассказа, где на фоне
равномерного движения струнных, как бы воспроизводящих длинный,
бесконечный путь, льется печальная, неизбывно тоскливая вокальная
мелодия, в которой композитор точно следует за акцентами речи.
Вторая часть рассказа – прибытие в Рим, в оркестре у деревянных
духовых возникает хоральная тема Рима.
Третья часть рассказа – диалог Тангейзера с папой – сопровождается
роковой темой проклятья.
Четвертая часть сцены вносит резкий контраст. Тангейзер неудержимо
устремляется к своей богине. В оркестре снова возникают
обольстительные темы грота Венеры на фоне мерцающего тремоло
скрипок в высоком регистре.
Через 15-16 лет после дрезденской премьеры Вагнер предпринял
переработку оперы для постановки её в Париже в театре Гранд-Опера.
Новая, «парижская» редакция коснулась, главным образом, первой
картины – у Венеры, партией которой Вагнер был неудовлетворен,
считая её недостаточно развитой, и для которой он написал много новой
музыки. Он также сильно изменил вакханалию. Менее значительной
переработке подверглась сцена состязания певцов.
Опера построена в известном смысле симметрично. Начало ведет нас из
грота Венеры с его волшебными чарами в тишину и спокойствие
Вартбургской долины. Третий акт возвращает нас через рассказ
Тангейзера в волшебный мир Венеры. Заключительный хор –
своеобразная величественная кода, замыкающая всё построение.
Центральная сцена второго акта – рыцарское состязание певцов –
середина, по обе стороны которой разворачивается действие, вначале
устремляющееся к этой сцене, а затем уводящее от нее.
Существенную конструктивную роль в драматургии оперы играет её
тональный план. Опера начинается в E-dur, кончается в Es-dur. Обе эти
тональности образуют тональные центры оперы. E-dur -
преимущественная тональность Венеры (средняя часть увертюры, гимн
Тангейзера, музыка вакханалии и явление Венеры в конце оперы); Es-
dur – преимущественная тональность мира реального (обе песни
Вольфрама, вступление к третьему акту).
Парсифаль
Торжественная сценическая мистерия в трех действиях Рихарда
Вагнера на либретто (по-немецки) композитора, основанное на поэме
«Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, а также на «Парсифаль, или
Князь Грааля» Кретьена де Труа и «Мабиногион». «В „Парсифале“,
последнем труде гения, перед которым мы должны преклоняться,
Вагнер попытался быть менее суровым и самовластным по отношению
к музыке, позволив ей дышать свободнее. Мы не найдем здесь ни
изнурительного, пристального изображения пагубной страсти Тристана,
ни безумных животных воплей Изольды, ни велеречивого комментария
бесчеловечной жестокости Вотана. Ни одна страница Вагнера не
достигает красоты вступления к третьему действию и всего эпизода
„Страстной Пятницы“. Вообще во всей опере оркестровое звучание
всякий раз неповторимо и неожиданно, благородно и мощно: перед
нами один из прекраснейших памятников во умножение непреходящей
славы музыки». Так писал Клод Дебюсси, который, впрочем, любил не
столько героев этой мистической драмы, сколько ее «декоративную
сторону».
Над оперой, задуманной и написанной в расчете на акустические и
сценические возможности Байрёйтского театра, Вагнер тщательно
работал начиная с 1877 года, но первые наброски либретто восходят
еще к 1857 году. После премьеры исключительное право постановки
оперы сохранялось за вагнеровским театром-храмом в течение тридцати
лет, так что в Италии «Парсифаль» стал известен лишь в 1914 году. Это
немало способствовало росту таинственного очарования, которыми
сюжет и музыка обладали уже сами по себе, невзирая на всевозможные
критические отзывы, искренние или лицемерные. В одном из писем
Людвигу II Баварскому от сентября 1880 года Вагнер сам заявлял: «Как
может спектакль, в котором на сцене открыто явлены самые
возвышенные таинства христианской религии, быть поставленным в
театрах... на тех же подмостках, на которых в остальные дни удобно
разместилась фривольность?.. Вот почему я должен подыскать сцену
для моего спектакля, чтобы посвятить ее ему; этой сценой может быть
только мой театр Бюнен Фестшпильхаус в Байрёйте... Только там и
нигде более должен ставиться „Парсифаль“ во все будущие времена». В
1913 году монопольное право постановки отменила вдова Вагнера
Козима. Это было мудрое решение, так как миф о некоем
исключительном вагнеровском фестивале, превосходящем все, что
только может происходить в музыкальном мире, имел, как все мифы,
один важный недостаток — отсутствие развития. Верно, что, как писал
Дж. Б. Шоу, «первые постановки в Байрёйте были далеко не
прекрасными. Вокальная часть порой была посредственной, а порой и
просто плохой. Некоторые певцы напоминали не что иное, как живые
пивные бочки, и нисколько не трудились ограничивать себя, чтобы быть
в форме — а ведь это неотъемлемая часть искусства любого акробата,
наездника или боксера. Женские костюмы были стыдливы и глупы».
Вместе с тем ни одна опера Вагнера не звучала и не звучит так хорошо в
зале Байрёйтского театра, как «Парсифаль». И именно качество
звучания вызвало благорасположение критики. То, что составляет
основу оперы, ее литературный источник и сюжет, обретает особую
яркость в свете музыкальных идей автора. Сущность этих идей
наиболее явственно проступает в описании торжественных,
благоуханных обрядов Грааля: в изображении сверкающей чаши, света,
нисходящего с таинственных высот и омывающего праведных; в
хоралах рыцарей и служек, отличающихся полуметаллическими,
полупрозрачными тембрами, которые до сих пор были неслыханной
вещью в европейской музыке, разве что мы можем найти некоторое
предвосхищение в оркестре Берлиоза, в Реквиеме Брамса, в сочинениях
Габриели и поэмах Листа, в «Тангейзере» и «Лоэнгрине». В
противоположность и почти наперекор величественному священному
фасаду, которому соответствуют изысканные, чистые тембры,
располагаются эпизоды, где персонажей обволакивает хроматическая
муть, порой вспыхивающая двусмысленным блеском, порой же
замаскированная цветовыми сгустками, под которыми невозможно
более различить ни гармонического смысла, ни секретов оркестровки. В
этих зонах, лишенных света, находятся страдальцы, такие, как
Амфортас, поистине трогающий сердце слушателей, или загадочные
персонажи, как Кундри и Клингзор, или девы-цветы, эти изнеженно-
праздные гейши, которые для Вагнера олицетворяют чувственное
упоение, любовный экстаз (единственный противовес Граалю).
На полпути между этими двумя сферами — протяжная и нежная
мелодия Страстной Пятницы, сокровенная, импрессионистская, свежая
и утешительная, имеющая некоторые подобия в европейской музыке
(вспоминается вступление в «Хованщине»), но остающаяся уникальной
благодаря изображению мистического обручения человека с природой.
Здесь, когда драма переходит в кроткую исповедь, ее идейный смысл
проявляется во всей глубине и с большей силой, чем в программных
сценах обсуждения проблем Грааля и различных прений как внутри, так
и вне храма. Помимо глубоко волнующих, как мы уже говорили,
признаний Амфортаса, привлекает также конфликт, лежащий в основе
драмы и преобразованный в очень человечную музыку. Это страх перед
плотским грехом. Если Шопенгауэра чувственное наслаждение
составляет «иллюзию человека, полагающего, что он действует ради
собственного блага, в то время как он лишь удовлетворяет потребность
своего вида», для его «ученика» Вагнера пол таит еще большие
опасности. Это бич любви, терзающий человека конца XIX века вплоть
до изнеможения, до истерики. Так Кундри измучена своими
инстинктивными порывами, а Парсифаль отстраняется от нее и
затворяется в монастыре. Отношения полов достигают здесь
высочайшего напряжения, которое не только выдает психологическую
боязнь или физическую патологию, но отражает душевные переживания
всякого человека. Эта опера, которая считается более предназначенной
для слуха, нежели для глаз, обладает благодаря театральному
воплощению еще и мощным, захватывающим сценическим
воздействием.
Вам также может понравиться
- Фантастическая симфония БерлиозаДокумент4 страницыФантастическая симфония БерлиозаПолина АлексееваОценок пока нет
- Гектор БерлиозДокумент7 страницГектор БерлиозЛена КозеневаОценок пока нет
- Шостакович симфония №14Документ3 страницыШостакович симфония №14valera solonariОценок пока нет
- Малер Симфония №5 история созданияДокумент3 страницыМалер Симфония №5 история созданияКонстантинОценок пока нет
- 41965399Документ13 страниц41965399Sergio M.Оценок пока нет
- История зарубежной музыкиДокумент7 страницИстория зарубежной музыкиВасилий ФедоровОценок пока нет
- ТЕМА 14. Р.ШУМАН. КАРНАВАЛДокумент6 страницТЕМА 14. Р.ШУМАН. КАРНАВАЛДамир АкимовОценок пока нет
- ДипломДокумент20 страницДипломLidia ReznikovaОценок пока нет
- Белая А. Конспект лекции. Фантастическая симфония БерлиозаДокумент8 страницБелая А. Конспект лекции. Фантастическая симфония Берлиозаaleks.k1995Оценок пока нет
- р. шуман рефДокумент6 страницр. шуман рефMaruf AlievОценок пока нет
- Символизм в Музыке. А.Н.СкрябинДокумент58 страницСимволизм в Музыке. А.Н.СкрябинИльяОценок пока нет
- Чайковский Времена года.Январь, Февраль, Март.Документ6 страницЧайковский Времена года.Январь, Февраль, Март.Наташа МолодыхОценок пока нет
- Поль Верлен аналДокумент3 страницыПоль Верлен аналgogukristina9Оценок пока нет
- VSE Bilety Po Muz Litre Za 3 Kurs 2 SemestrДокумент46 страницVSE Bilety Po Muz Litre Za 3 Kurs 2 SemestrДжессикаОценок пока нет
- Реферат ИВИ 7 семестр - LiederДокумент14 страницРеферат ИВИ 7 семестр - LiederВ. Г.Оценок пока нет
- РОМАНТИЗМДокумент43 страницыРОМАНТИЗМGleb Vereshchak100% (1)
- Арнольд Шёнберг С. Привалов PDFДокумент36 страницАрнольд Шёнберг С. Привалов PDFZhen'kazavr Zhenya100% (1)
- Слуш. муз 3 класс (7.04)Документ16 страницСлуш. муз 3 класс (7.04)Наташа ГорбуноваОценок пока нет
- История ИскусствДокумент8 страницИстория ИскусствАндрей КосачОценок пока нет
- История ИскусствДокумент8 страницИстория ИскусствAndreyОценок пока нет
- 1- 2 КУРС СМЛ-РУС.ЯЗДокумент81 страница1- 2 КУРС СМЛ-РУС.ЯЗSabrinaОценок пока нет
- Коллектив Авторов - 111 Симфоний - 2000Документ669 страницКоллектив Авторов - 111 Симфоний - 2000Diwet Widet100% (1)
- Рахманинов: прелюдии, этюдыДокумент3 страницыРахманинов: прелюдии, этюдыДарья ЛитвяковаОценок пока нет
- ЩЕНБЕРГДокумент9 страницЩЕНБЕРГСвинаренко МихаилОценок пока нет
- Фортепианное Творчество Петра Ильича ЧайковскогоДокумент31 страницаФортепианное Творчество Петра Ильича ЧайковскогоSergey SkorodumovОценок пока нет
- БетховенДокумент6 страницБетховенValeriia SakharovaОценок пока нет
- Эссе по главе «Моцарт Чайковского: фрагменты сюжета». (А. И. Климовицкий «П. И. Чайковский»)Документ3 страницыЭссе по главе «Моцарт Чайковского: фрагменты сюжета». (А. И. Климовицкий «П. И. Чайковский»)Alisa In WonderlandОценок пока нет
- Совр.муз. театрДокумент10 страницСовр.муз. театрOlya Slusar100% (1)
- карменДокумент5 страницкарменГлеб МаловОценок пока нет
- 7 класс Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина МетельДокумент5 страниц7 класс Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина МетельWainzuОценок пока нет
- 7 класс Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина МетельДокумент5 страниц7 класс Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина МетельWainzuОценок пока нет
- Реферат - Прокофьев Симфония 1Документ6 страницРеферат - Прокофьев Симфония 1Guitar ForeverОценок пока нет
- Мустафаев Кудус ШакировичДокумент6 страницМустафаев Кудус ШакировичHasmik MkrtchyanОценок пока нет
- Мои БилетыДокумент3 страницыМои БилетыDaria kursovaОценок пока нет
- Romantism I Schubert PDFДокумент69 страницRomantism I Schubert PDFИлья КабановОценок пока нет
- Белая А. Конспект лекции. Дворжак. Симфония №9 PDFДокумент9 страницБелая А. Конспект лекции. Дворжак. Симфония №9 PDFЮлия ЮрчакОценок пока нет
- Тема 6.Фортепианное творчество Ф.ШубертаДокумент4 страницыТема 6.Фортепианное творчество Ф.ШубертаДамир АкимовОценок пока нет
- Mozart Messa C-MollДокумент5 страницMozart Messa C-MollСымбат АсанбаеваОценок пока нет
- Ф. Шопен. Соната b-mollДокумент5 страницФ. Шопен. Соната b-mollГерман БюллерОценок пока нет
- Музыка эпохи БароккоДокумент25 страницМузыка эпохи БароккоЕвгений ТолстовОценок пока нет
- Рахманинов Концерт №2Документ3 страницыРахманинов Концерт №2Мария АлихановаОценок пока нет
- Времена года Апрель, МайДокумент5 страницВремена года Апрель, МайНаташа МолодыхОценок пока нет
- трилогия вочеловечение АруукеДокумент20 страництрилогия вочеловечение АруукеTunuk ZhumabaevaОценок пока нет
- Тема И.Брамс Жизнь и творчество.Документ7 страницТема И.Брамс Жизнь и творчество.Илья СавинОценок пока нет
- 4к - ІІ тема - Творчество ГлассаДокумент5 страниц4к - ІІ тема - Творчество ГлассаElena LisovenkoОценок пока нет
- Ф. Лист Венгерские рапсодииДокумент6 страницФ. Лист Венгерские рапсодииГерман БюллерОценок пока нет
- Щедрин Первый лёд.odtДокумент8 страницЩедрин Первый лёд.odtLilith DeariОценок пока нет
- Розеншильд. Музыка во Франции XVII - начала XVIII векаДокумент64 страницыРозеншильд. Музыка во Франции XVII - начала XVIII векаJasna VeljanovićОценок пока нет
- Брамс "Liebestreu" "Верное сердце"Документ1 страницаБрамс "Liebestreu" "Верное сердце"TetianaОценок пока нет
- Гайдн и моцартДокумент9 страницГайдн и моцартГлеб Малов100% (1)
- Жанр сонета в творчестве УДокумент10 страницЖанр сонета в творчестве УКирилл ТенищевОценок пока нет
- Времена года. Июнь, Июль.Документ7 страницВремена года. Июнь, Июль.Наташа МолодыхОценок пока нет
- месса МоцартДокумент11 страницмесса МоцартЖеня ГоробецьОценок пока нет
- дарк2Документ7 страницдарк2Наталия ШульгаОценок пока нет
- Ларош ГА - Собрание музыкально-критических статей 2-2Документ190 страницЛарош ГА - Собрание музыкально-критических статей 2-2ElenaОценок пока нет
- Белая А. Конспект лекции. Мендельсон. Песни без словДокумент4 страницыБелая А. Конспект лекции. Мендельсон. Песни без словaleks.k1995Оценок пока нет
- фортепианное творчество чайковскогоДокумент12 страницфортепианное творчество чайковскогоДима СкороходовОценок пока нет
- Стравинский Балет Весна СвященнаяДокумент4 страницыСтравинский Балет Весна Священнаяvalera solonariОценок пока нет
- Хроматизм правилоДокумент1 страницаХроматизм правилоAlexey GorbunovОценок пока нет
- ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯДокумент15 страницОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯAlexey GorbunovОценок пока нет
- Zhyzha 4Документ3 страницыZhyzha 4Alexey GorbunovОценок пока нет
- Калина краснаяДокумент5 страницКалина краснаяAlexey GorbunovОценок пока нет
- Калина краснаяДокумент5 страницКалина краснаяAlexey GorbunovОценок пока нет
- Валькова. «МИКРОТЕМАТИЗМ»: МЕТАМОРФОЗЫ И НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО ПОНЯТИЯДокумент25 страницВалькова. «МИКРОТЕМАТИЗМ»: МЕТАМОРФОЗЫ И НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО ПОНЯТИЯКампанелла НяфасОценок пока нет
- стр 28-33 01004424383 PDFДокумент37 страницстр 28-33 01004424383 PDFsajtanovОценок пока нет
- Kholopov Harm Theor PDFДокумент272 страницыKholopov Harm Theor PDFОля ЧорнаОценок пока нет
- Chopin Ballades PDFДокумент27 страницChopin Ballades PDFValeryОценок пока нет
- Презентация к Уроку Музыки На Тему "Мелодия - Душа Музыки" (3 Класс)Документ11 страницПрезентация к Уроку Музыки На Тему "Мелодия - Душа Музыки" (3 Класс)Евгения ДворцоваОценок пока нет
- Mozart Messa C-MollДокумент5 страницMozart Messa C-MollСымбат АсанбаеваОценок пока нет
- ANSAMBL GitaraДокумент34 страницыANSAMBL GitaraAndrey VilchikОценок пока нет
- Sidorova ChoralДокумент63 страницыSidorova ChoralAndresMirgОценок пока нет
- Агафошин П. Самоучитель игры на гитаре PDFДокумент207 страницАгафошин П. Самоучитель игры на гитаре PDFVolodymyr SkarupskyiОценок пока нет
- ГармонияДокумент3 страницыГармонияAndrey MatyukhinОценок пока нет
- Yarmolenko 2016.pdf1927991677Документ8 страницYarmolenko 2016.pdf1927991677Виталий МорозовОценок пока нет
- Основы лада и тональности в музыкеДокумент5 страницОсновы лада и тональности в музыкеМарина СурелуОценок пока нет
- Иоффе Б. К Вопросу ''Освоения Чужого'' в Музыке - Предложение Классификации Музыкальных ЦитатДокумент8 страницИоффе Б. К Вопросу ''Освоения Чужого'' в Музыке - Предложение Классификации Музыкальных ЦитатАлександр ИвашкинОценок пока нет
- Трусова В.А. - Ноткина книжка - 1998Документ86 страницТрусова В.А. - Ноткина книжка - 1998Олег ПищаевОценок пока нет